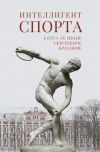Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Но отец интересовался только размером его зарплаты, и неизменно морщился – даже когда Рощину дали доцента и добавили за публикации в журналах. Протестовал, бушевал, давил, а теперь… Все силы уходили на сопротивление. Ох, уж этот 1937 год рождения! Рощин знал отцовых ровесников, почему-то много их попадалось по жизни, 1936-го, 1937-го, 1938-го года выделки – мальчиков из коммуналок и бараков, ставших потом большими начальниками, крупными учеными, сделавших себя собственными руками.
Возможно, тех, кто прорвался сквозь бетонную стену войны, голода, сталинских лет, кто не сел (а многие из отцовских соседей по бараку сели вовсе не политической, нет, стали уголовниками и быстро сгинули), кто не пропал в молодые годы, тех было уже не уморить.
Рощин, наконец, уснул и проснулся только под Юлькино пыхтение, она пристраивалась к нему под бочок и говорила что-то смешное про папины обнимы, которых ей сейчас надо дать. Дашки дома не было, вышла гулять с Кульком, вот Юлька и приползла к нему. Пора было вставать – вести дочку в детский сад и ехать на лекцию, сегодня ему ко первой паре.
7.
Мать позвонила в неурочное время, днем, под конец семинара. На большом экране – Рощин всегда делал к лекциям презентации – пестрели и почти гоготали гуси Ларионова; Рощин увлеченно рассказывал о них стайке глядевших ему в рот девочек, тут телефон и позвал его тонким нервным голосом Боба Дилана: «Knock knock knockin’ on heaven’s door»…
Легче было ответить.
– Кирюш, я на минуту, знаю, ты на работе, позвони, как сможешь, это срочно.
Мама звучала так, что он извинился и вышел в коридор.
– Папа упал сегодня под утро, прямо в туалете упал, голову разбил, и… неизвестно что, – мать очень торопилась. – Проснулась – вроде стонет кто. Вскочила – лежит, на голове кровь, попробовала тащить, не дал.
– Помогла ему встать, дошел до кровати, рану промыла, заклеила, слава Богу, не глубоко. Утром хочет встать, и не может, руки-ноги вроде шевелятся, а голова кружится, я ему чай сладкий заварила, мне давно еще этот способ подсказала одна женщина, мы вместе с ней… – мать тонула в ненужных подробностях, сбивалась, – чаю попил, вроде полегчало, только встал…
– Что сейчас?
– В реанимации. Мне позвонили только что, опять упал, без сознания его обнаружили…
Рощин ощущает, что становится тряпочным.
Отпускает студенток пораньше, благо и так уже семинар близился к концу.
В фойе университета вынимает из банкомата деньги, много денег – пригодится, врачи. Едет в больницу и, по счастью, добирается быстро. Хотя ехать до проспекта Вернадского, но середина дня, и машин в городе не так много. Мать сидит в приемной, к отцу их, конечно, не пускают. Деньги его никому не нужны.
– В сознании, – говорит мать, – сейчас вроде в сознании. Две минуты продолжалась клиническая смерть.
Они сидят в коридоре, должен прийти лечащий врач, поговорить, объяснить, что случилось, но он на приеме, потом у директора, потом где-то еще. Проходит около трех часов. Все эти три часа Рощин жмет на кнопки, звонит всем знакомым, знакомых знакомых, просто увидеть, увидеть отца, кто знает, что ждет его впереди, увидеть во что бы то ни стало, эта встреча, с еще живым, пока живым папой, важней всего на земле. И к тому моменту, когда врач добирается, наконец, до них, все уже на мази, и деньги оказываются не лишними, их с матерью, облачившихся в халаты и шапочки, пускают – «на минуту ровно».
Отец лежит, увитый белыми трубочками – над ним две капельницы – маленький, голый. Простыня едва дотягивается до живота. Рощин растерянно глядит в отцовский пупок.
Отец здесь один, кровать рядом пустует.
– Не дождетесь, – слабо улыбается он Рощину.
Ни печали, ни растерянности в голосе, и даже правый глаз глядит озорно, бодро! Левый полуприкрыт, отдыхает. Видно, действительно стало лучше. Рощин улыбается в ответ, хочет сказать что-то и не может, не находит слов, но отец и не ждет, смотрит мимо. За плечо, за спину его, а там – молоденькая круглая, с румянцем даже на лбу, медсестра. Сопровождает их, врач оставил их на эту минуту.
– Не холодно тебе? – вмешивается подошедшая с другой стороны кровати мать.
Но отец только чуть заметно пожимает плечами, неохотно поворачивает голову к ней. И отвечает свое:
– Порядок. Завтра обещали в палату перевести.
Их выводят.
– Старенькие – смешные не могу, – уже в коридоре, доверительно, вполголоса сообщает им медсестра. – Ваш вон кокетничает всю дорогу. А уж когда укол!.. Я их сразу вижу. Поживет еще, а что там врачи говорят, это я не верю. Еще с девушками потанцует, – фыркает она.
И оказывается права. Отцу делается лучше. На следующий день его действительно переводят в палату, Рощин рвется его навестить, но напрасно. «Давно не виделись! – цедит отец в трубку, – Делом занимайся давай». Допускает до себя только мать и та доносит вечером: все вроде неплохо, уже шутит вовсю, все ест. Мать подробно перечисляет, что принесла отцу поесть, но Рощин не вслушивается, читает в это время письмо: заболевший коллега молит его поехать в Нижний Новгород, филиал их института, прочитать вместо него три лекции. Рощин прощается с матерью, идет советоваться с Дашей. Всего-то на два дня, и гонорар заплатят отдельный, Дашка – «за».
Ранним утром следующего дня он уже садится в нижегородскую «Ласточку».
8.
Он взял с собой работу, но читать не мог – смотрел в окно, поезд мчался сквозь пышную златотканную осень. Рощин едва замечал эту заоконную красоту, он видел отца – худенького, обернутого в трубочки. Смотрел на него и хотел одного: поговорить. Поговорить, наконец.
Пока отец еще шутит, пока злится, пока переспрашивает и отвечает невпопад.
Да обо всем.
О чем не успели, и успеют ли?
Как чувствуешь себя, помнишь ли, что случилось, почему ты оказался в реанимации? И что успел увидеть за две минуты клинической смерти?
Как ты вообще? Как анализы? Как левый глаз? Хорошо, хорошо, не буду, не сердись. Расскажи тогда… расскажи, что хочешь.
Про детство свое, про войну вот – помнишь ее?
Спрашивал про это Рощин сто раз, и сто раз отвечал отец, что не помнит, одно только осталось от войны: очень хочется есть. Все время. И не бывает невкусного съестного, все готов проглотить, нет, разжевать медленно, медленно, чтобы стекло в желудок.
Ладно не про войну, про юность, кто тебе нравился тогда? Кого ты любил? Ты любил, отец? Расскажи!
А эта, которой ты написал эсэмэску – она какая?
Длинноногая? Светлоглазая? Кудрявая и маленькая, по плечо тебе? Судя по маме, отцу нравились маленькие. А может, наоборот? Верста коломенская, горнолыжница, спортсменка? Сколько ей лет, пап? И… почему она согласилась? Кто она вообще? Циничная шалава? Истерзанная сороколетка, а тут – пожилой, зато импозантный, интеллигентный. Профессор!
Но может, это давняя история, и общаться они начали задолго до того, как обрушилось это все… тогда и она была «совсем другой».
Или это просто приезжая охотница за квартирами – ха, не на того напала! Где ты все-таки взял ее? Давно вы… встречаетесь?
Рощин, которому отец в кратких перебросах фразами во время какой-нибудь очередной распилки дров на даче не раз говорил о том, что иметь любовницу – хорошо, приятно! чуть не «нужно» – хранил верность Даше.
Хотя до, в эпоху поисков, были и у него две-три истории, и одна из них до сих пор его не отпустила до конца, но то в прошлом. Конечно, красивые женщины ему нравились и сейчас, и студенток симпатичных он всегда отмечал, но смотрел на них как на чудных зверьков – которым только еще предстоит превратиться в людей, в полноценных женщин. Еще его поражало, что женщины постарше – разные, а студентки почему-то были страшно похожи, так что и лиц особенно не рассмотреть, вместо лиц – джинсы, обтягивающие попу, рюкзачок за спиной, капельки наушников в ушах. Иногда он замечал эти наушники даже на собственных лекциях – и что? Сначала выгонял таких вон, но когда ввели рейтингование преподавателей и за «выбор студентов» стали доплачивать, махнул рукой. Наплевать.
Да, зверьков. К тому же он не представлял себе, о чем можно говорить вот с такой грациозной, славной, но пока пустой! кошечкой, рысенком растущим, почему-то их он замечал в первую очередь, хотя были и другие – не хищницы, нормальные увлеченные девчонки, и если вглядеться и привыкнуть, находились живые и веселые, он даже позвал однажды такую на выставку – причем на Дашке к тому времени был уже вовсю женат, года три как точно. Но в тот момент она уехала с Юлькой на море с подружкой, другой такой же мамашей и крохой-дочкой… Шла сессия, жара, он уставал, ел кое-как, скучал, но тоже как-то невнятно. Рядом с их институтом открылась галерея, и он пригласил, и сходили с беленькой, строгой… как ее звали? Настя, Настя Крылова, точно! Побродили по залам, а потом пили кофе, говорили об этом самом набирающем силу художнике, его жутковатых картинах. Насте нравилось, а он тогда объяснял, что изображать ад слишком просто, давняя традиция, а вот свет, рай – сложней… И было так блаженно, так приятно сидеть, потягивая капучино, неторопливо болтать всласть, но большего почему-то не захотелось. Настя и так смотрела на него с обожанием, с восторгом, к чему? И он тихо слился тогда.
Поезд мчался без остановок, за окном тянулся пестрый лес, Рощин поглядел, наконец, на сочетание оттенков красного и желтого, на островки зелени, слабо улыбнулся этому блещущему дню и подумал, что отец отчего-то всегда был равнодушен к природе.
Теперь, если все же удастся поговорить, он его обязательно спросит: почему? Ты посмотри, пап, какие краски, как деревья пылают!
Помнишь, однажды ты все-таки начал рассказывать про детство, как дал сдачу Витьке, кажется, Балтухатому, чуть не свернул ему челюсть. Он все время доставал тебя, задевал, в конце концов ты рассердился и дал, хотя был ему по плечо. После этого случилось чудо. Витька заткнулся. Даже не отомстил! Просто перестал тебя замечать. А потом сделался крупным воровским авторитетом, вообще жизнь двора была пронизана миазмами криминала – недаром отец знал кучу блатных песен, и приблатенность легко изображал, но сам был не таким, и бог его знает, откуда в нем взялась эта врожденная интеллигентность.
И еще он спросил бы о поступлении в институт, о том, как так получилось, что забитый мальчик из барака в Перово превратился в спокойного, неторопливого автора учебников и пособий, любимого преподавателя всех.
Да, пожалуй, не стоило начинать с эсэмэски, это потом, лучше двигаться издалека. Что-нибудь про… вон гляди-ка, озеро. Сияющее, темное, вытянулось вдоль полотна, все в золотых монетах, точно кто-то аккуратно касался черной воды ярко-желтой кисточкой. Очень умелый, поставит точечку, две – и замирает, любуется работой. Потом снова. А там и дубок опрокинутый пририсует, и парня в зеленых резиновых сапогах и белой кепке, стоящего вниз головой в воде, и его коричневую собаку…
Но ускоряется поезд, и краски размываются, все сливается, трава зеленая, точно летом, товарные вагоны на запасном пути, вскрики графитти. Елки плотным рядом вставшие у дороги – еще совсем молодые, внезапно весенние, лохматые.
И такая же дурашливая над ними – голубизна. Денек-то – солнечный! Небо-то! Как на картинах Джотто, а? Ты же любишь голубой, отец? Вот такой как раз – давай сошьем тебе из него рубашку?
А твой отец, мать, помнишь их? Знаю, они рано умерли, особенно мама, ты был подростком, и отец потом заболел, да, но все же. Ведь как-то ты общался со своим отцом – расскажи!
Да, еще моя мама. Как ты женился на маме? Но это Рощин знал. Знакомство в автобусе, незатейливый разговор, пикаперство образца конца 1970-х…
Нет, лучше про тайную свою жизнь расскажи! Про первую жену, кто она? Отчего вы разошлись и вроде бы очень быстро? Не живут ли где-то мои братья и сестры? Почему ты всегда молчишь, почему как на войне всегда? С кем сражаешься, отец? И Свиридова за что ты так любишь?
Но все-таки сильней всего хотелось спросить про женщин.
Сколько их было? Или уже не сосчитать? И кто они… преподавательницы? Проводницы? Неужто студентки? Нет, отец говорил про это, совсем недавно, как раз, когда разразился школьный скандал, что не понимает, как такое возможно и кому они нужны, эти слишком легкие победы над девочками, говорил и про студенток, что никогда бы не стал… Кто же они? Раньше? Сейчас? Кому нужен 80-летний полуслепой, полуглухой старик? Это купленные девки, отец? Вот, например, эта – опять, невольно сворачивал Рощин на эсэмэску – которую сослепу ты перепутал со мной? Я забит у тебя как «Кирилл», значит, ее звали на К? Катя? Капитолина? Кристина? Констанция? Клара? Они ж, кстати, имена другие часто берут, Эльвира там, Элеонора, хотя по паспорту она – Галя.
Да, совсем забыл: тот платочек, отец? Помнишь, среди литровых банок – воздушный, бирюзовый в коробке с тюльпанами? Ты еще разволновался тогда, когда застал меня на балконе, он предназначался – кому?
Поезд замедляется и встает. Владимир. Остановка – две минуты. Рощин поднимается, шагает к тамбуру и выходит на платформу. Здесь уже стоят курильщики из того же поезда– розовощекий детина возраста его студентов, высокий, с жидкой рыжеватой бородкой, к плечу его лепится черноволосая девушка готического вида, с сережкой в носу; седой желтозубый дядька смолит цыгарку рядом; неподалеку явная бизнес-леди с ярким маникюром и утомленным лицом… Все жадно затягиваются, пускают дым. Рощин проскакивает мимо, делает несколько шагов в сторону, и вдыхает. Пахнет совсем не по-московски. Очень просто, здесь есть, чем дышать: прель, морозец, горькая осенняя свежесть, яблоневые сады, слегка все же сигаретный дым. И небо гораздо выше, светлее. Он думает: да, хорошая земля, хочется здесь еще пожить, прав отец.
Вернувшись, он пытается читать, подготовиться хоть немного к первой лекции – зачем только согласился ехать? О чем будет рассказывать сейчас? Что нового он может сказать про «Бубновый валет»? И опять отвлекается, отец однажды расспрашивал его именно про эту группу, была выставка в ЦДХ, он только бурчал что-то в ответ – все равно не поймет, все равно не объяснишь ничего. Отец отступал, усмехался, не злился. И так ведь почти всегда. Он вспоминает одну за одной отцовские подачи: как тот спрашивал, хотел что-то узнать, и не только о художниках, о его жизни, и на самом деле всегда, всегда втайне сочувствовал ему, только сдержанно, без слов, Рощин вдруг ясно вспомнил этот особый полный сочувствия (какой же он идиот, что не понимал! Не считывал) быстрый отцов взгляд, который тот всегда тут же гасил, новым вопросом или резкостью.
Это он, он не желал последние годы с отцом общаться, когда тот просил. Это он застыл в обиде на него, за себя, за маму, он его всегда осуждал, с мамой заодно, что орет, что эгоист – судил не ведающим о милости судом. Вот тот и оледенел, превратился в железо.
Ты поэтому кричал, пап? Хотел докричаться? Оправдаться. Добиться любви. Кричал от беспомощности, от безнадеги. И в этой, случайно угодившей к нему в телефон эсэмэске Рощину послышалось сейчас то же – беспомощность. Никогда отец не был жалким, а тут…
И внезапно бесконечность отцовского одиночества захлестывает его. Сирота, пробивавшийся в люди, сам, всегда только сам, всегда один. Жена, без меры заботливая, но каменная, не слышащая ничего. Сын… чужой, погруженный в свои крендельки. И с каждым днем все меньше света, красок, форм, все тише звуки – затягивающая в свое глухое чрево, с каждым шагом сужающаяся бетонная труба.
Обогреться хоть купленной любовью, напоследок, нырнуть туда, где тебя терпят любым, ухватить и задержать проклятые прекрасные мгновения, летящие все быстрей. Папа, прости.
Рощин сам не заметил как задремал и вскоре провалился в глубокий сон, ему снилось, что он мчится, как поезд, но летит не вперед, а вниз в черном космическом пространстве, но лететь ему ничуть не страшно, только весело, это ведь батут, там внизу упругое, крепкое, поймает его, и подкинет высоко-высоко, он не пропадет, и это упругое – его отец. Он проспал до самого Нижнего Новгорода.
9.
Отца выписали через две недели.
Золотая осень уже позади, кончилась вмиг, как раз накануне. Резко похолодало и посыпал снег. День выписки отца тоже выпал насквозь сырой, слюдяной, с неба вместо снега летят серые льдинки.
Рощин забирает отца сам, на «гольфе». Ехать тяжко, лужи в полколеса, пробки, все сигналят, но в больнице ему везет: охранник пускает на территорию – бесплатно, может, положено у них так? Рощин паркуется у самого корпуса.
Прямо у входа в здание большая лужа с размокшим снегом, обойти ее с отцом тяжко. Рощин крепко держит его под руку, и не понимает: отец действительно уменьшился в размере? Он же всегда был чуть выше его, а теперь ниже, хотя спину держит и вообще молодцом. Лужу отец, конечно, не видит, Рощин командует – правей, еще правее, так… самому приходится шлепать прямо по воде – прекрасные купленные вместе с Дашкой прорезиненные полусапоги держат, не пускают влагу, он доволен, он как в детстве шагает по лужам! Да еще и крепко держит ветерана под локоток.
В больницу отец его к себе так и не пустил – ездила сюда, на другой конец Москвы, только мама. Но до доставки на дом Владимир Петрович все-таки снизошел. Мама осталась дома, она простыла, да и погода…
Отец – слаб, но как всегда четок. Командует, как лучше его посадить, дает застегнуть ремень безопасности, зорким невидящим оком глядит вперед, что-то различает, и всю дорогу указывает Рощину, кого обогнать, где лучше уступить, и ругает подрезавший их джип. Вообще, усевшись, отец чувствует себя гораздо увереннее, и как всегда – капитаном.
Он не ведает, мать уже призналась Рощину: отец продал на днях машину. Прямо из больницы, по телефону, все честно, на карточку тут же ему перевели, сейчас все это можно. Мать говорила об этом с облегчением, радуясь, но Рощин только промолчал в ответ и сморгнул – самурай отдал свой меч.
Что значили эти обмороки, от чего отец терял сознание и был так слаб несколько дней, почему сердце остановилось, врачи так и не установили. С сердцем действительно есть проблемы, но пока можно не трогать, «для этого возраста», «в этом возрасте», «что вы хотите для таких лет» – они все время это повторяли, по крайней мере в пересказе матери эти слова звучали постоянно, и сейчас, получая отцову выписку, он снова это услышал. Получалось: для этого возраста все не так уж и безнадежно. «Еще поживет ваш папочка», – доверительно шепчет ему одаренная выше всех возможных ожиданий медсестра (это Рощин, на радостях, что отца отпускают на волю), уже немолодая, видавшая виды, за эти недели как видно отведавшая импозантности и кокетства Владимира Петровича вполне.
– Поганец! – вскрикивает отец и краснеет от гнева, прямо перед Рощиным втискивается красный «Ниссан».
– Так-то! – чеканит отец, когда удается его обогнать.
Так!
С неба все льет, теперь это уже определенно дождь – потеплело. «Впереди авария, в правом ряду», – заботливо сообщает яндекс-навигатор, и они застывают в пробке. Почти не движутся, пусть.
– Пап, я подумал, почему мы никогда не разговариваем с тобой? – отчетливо и медленно, чтобы отец обязательно услышал, произносит Рощин.
Но отец не отвечает, глядит вперед, пытается разобрать, какой там, далеко впереди, на светофоре свет.
– Отец?
Молчание.
– Слушай, почему мы так редко с тобой говорим! – почти кричит Рощин. – не редко даже – никогда вообще? Мы ведь столько еще не обсудили. Пока ты лежал, я все думал – столько надо тебя спросить!
– Почему ты кричишь? – удивляется отец. Кажется, только теперь он все расслышал. – Красный?
– Да, – кивает Рощин, отец доволен: угадал. И продолжает:
– Спросить? Ну, спрашивай. О чем ты хочешь поговорить?
– Обо всем! Как ты рос, про детство твое. Про маму твою, папу.
– Мама – под конец болела все время, работала с утра до поздней ночи, я ее и не видел, бухгалтером, потом кровотечение, и все. Папа… характер был еще хуже, чем у меня, – не глядя на Рощина усмехается отец. – И тоже заболел потом, рассеянный склероз, болезнь не из приятных. Я у тетки потом жил, вчетвером в одной комнате. Но все-таки уже не в бараке. Сыновья ее меня не любили, оба в Германии сейчас. Так и рос, как сорная трава…
Раздается резкий старомодный звонок. Это трещит отцов мобильник. Он под рукой, в кармане пальто, отец вынимает трубку, доисторический, зато с крупными кнопками, громкость включена на полную, чтобы слышать, и Рощин слышит: голос женский, незнакомый, звонкий, вроде бы совсем молодой и тревожный. «Володя? – произносит он нерешительно, – ты? Как ты там? Как себя чувствуешь? Слышишь меня?»
Отец смотрит по-прежнему вперед и отвечает кратко: перезвоню тебе, не могу говорить, перезвоню! Обрубает связь. И розовеет, молодеет на глазах. Расправляет плечи, снова руководит Рощиным.
Дождь кончился, небо светлеет. Они вырываются, наконец, из пробки, подъезжают к светофору, впереди – пусто, сейчас полетят.
– Зеленый! – хрипло произносит отец на мгновение раньше, чем Рощин успевает тронуться. – Что стоишь?
– Еду, еду, – улыбается Рощин, и они разгоняются наконец.
– А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела! – поет отец, играя глазами.
И впервые за этот долгий месяц, полный разговоров с мамой, обсуждений медицинских тонкостей, анализов, размеров «благодарностей» для врачей, бессознательного смутного ожидания дурных вестей и бесконечных заочных бесед с отцом, Рощину становится по-настоящему спокойно.
Он громко, отрывисто сигналит, гонит этого желтопузого впереди, медлительного таксиста, тот бежит прочь. Рощин вжимает газ, они мчатся все быстрее, отец торжествующе стучит кулаком по колену, Рощин смеется.
Папа, живи всегда.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.