Текст книги "Радости моего детства"
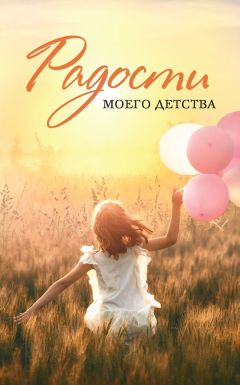
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Бабушка ответила ему тихой улыбкой:
– Когда мы видим, как нас Господь Бог спасает, то весь мир кажется краше. Вот и чай слаще и вкуснее тебе показался, внучек.
Ромка задумался и серьёзно произнёс: – Бабушка, но в этом чае правда отражались облака. Значит, это был чай со вкусом неба, и мне так понравился его вкус. Я понял, что хочу быть достойным неба. Только мне нужно ещё многому научиться.

Валентина Гилёва
Свет родной деревни

Однажды, собрав вещи, мы уехали в глухую деревню за сотни километров. Из крепкого, просторного, добротного дома в старую маленькую, покосившуюся и почерневшую от времени избушку. Мне было тоскливо, душа рвалась обратно в родное село, в детский сад, к ребятам. Ближайший садик был в девяти километрах от нашей деревни, поэтому я сидела дома с папой.
Магазина и больницы тоже не было. Мы вели натуральное хозяйство.
Папа работал пчеловодом. Совхозная пасека находилась за забором, а своя – в огороде.
Поэтому целыми днями он был дома и на работе одновременно. Сестра училась в школе, в далёком селе, а мама целыми днями пропадала на работе.
Обе они утром уезжали на автобусе, а вечером возвращались.
Зимой наша деревня одевалась в белоснежные, бескрайние просторы снегов. Мы оставались единственными жителями – дачники уезжали в город. Лишь иногда они проведали свои дома, сбрасывали снег с крыш, отмечали Новый год.
К нам в гости заходили заплутавшие охотники, беглые солдаты из военной части и настоящие странники. Наш дом для них был тем самым огоньком в ночи.
Мне казалось, что он светится от жаркого печного огня и измученные люди идут на этот свет. Нам было страшно, но мы всех впускали, и я чувствовала свою сопричастность к чужим судьбам. Думала, что, может, и не зря мы здесь. Спасаем людей от мороза, безысходности и отчаяния.
Я часто сидела на русской печи, которая занимала полдома. От неё пахло глиной и известью. Тихонько потрескивали дрова, завывал ветер в трубе.
Вспоминаю, как любила сверху за всеми наблюдать. Вот мама хлопочет на кухне: замешивает сладкое тугое тесто. Она молодая, красивая, с длинной косой, любящая и заботливая.
Мне сверху видно всё: и единственную комнату, и маленькую кухню. Возле меня клубочком свернулась моя любимая кошка Катька и тихо мурлычет.
Старшая сестра прибежала с улицы и зовёт кататься с горки, говорит, что её построил сосед.
Очень не люблю одеваться и говорю, что пойду, если сестра меня оденет. Она начинает пыхтеть и натягивать на меня одежду: слой за слоем. Наконец из меня получается капуста, и мы выходим на улицу.
Папа колет звонкие берёзовые поленья, высоко взмахивает топором. Я дивлюсь его силе и ловкости. Вдыхаю запахи снега и мороза, тёплого печного дыма и расколотых дров.
Спешу за сестрой. Подбегаю к горке. А она сказочная! Настоящая ледяная, извилистая, длинная. Поскорее сажусь на неё и качусь. Не качусь, а лечу так, что дыхание от восторга захватывает. Не обращаю внимания на то, что горка ещё не доделана, а сосед вносит в своё сооружение последние штрихи. И тут на меня выливается ведро холодной воды: сосед заливал горку! Я горько плачу от обиды, мокрая и холодная бегу домой.
И снова горячая печка, запах свежего хлеба, и папа наливает душистый травяной чай.
Я постепенно привыкла к уединённой деревенской жизни. Любила помогать папе на пасеке. Даже зимой хлопот с пчёлами хватало.
Пчелы зимовали в специальном домике со стеллажами – зимовнике. Туда мы с папой часто наведывались: папа прослушивал ульи: не расшумелись ли пчёлы, если тихо, то всё в порядке. Просматривал их: где мышь прогрызла – необходимо подлатать, где покрасить.
Короткими зимними днями папа в мастерской ремонтировал ульи, наколачивал рамки к лету, топил душистый воск. После зимовки пчёл пересаживал в чистый улей. Всю зиму папа нервно ждал весны, а как весна подходила, так начиналась долгожданная круговерть!
Самая любимая пора для нас с сестрой была – откачка мёда.
В летнем воздухе запах сена перемешан с благовонием мятных душистых трав. Старые брёвна рассохлись и лениво потрескивают от июльской жары. А в тёмных сенях деревянного покосившегося дома прохлада. Здесь кипит работа. От папы пахнет мёдом, воском и дымом. Мне боязно, но интересно. Папа вставляет в кассеты мёдогонки тяжёлые рамки, под завязку наполненные мёдом. Вращает рукоятку, и золотистый янтарь послушно сочится из ячеек сотов. Гудит и ухает большая железная мёдогонка.
Через отверстие на дне мёд мягко стекает в белоснежное эмалированное ведро. В сенях душно, пряный медовый аромат обволакивает всё вокруг. Временами беспокойно жужжат пчёлы, залетевшие на запах.
Папа ковшом зачерпывает янтарную сладость и наливает в чашку. Мёд струится, как атласная лента, попеременно складывается и образует горку.
Мы с сестрой нетерпеливо ждём обеда. На столе трёхлитровая пузатая банка с холодным молоком и свежий хлеб из русской печи. Папа ставит мёд в центр стола. Я беру кусок пшеничного хлеба, макаю пористую мякоть прямо в чашку и отправляю в рот. Во рту разливается нежная сладость, и я от удовольствия прикрываю глаза. Мёд – как парное молоко: свежий, тёплый и с пенкой.
После сытного обеда мы с сестрой бежим к пруду. Мимо большой душистой навозной кучи и огромного огорода, засаженного картошкой. У пруда зной не такой обжигающий, густо парит: будет дождь. Над водой низко склоняются ветви плакучих ив. По берегам растут осока и пахучий багульник.
Мы забираемся в папину лодку, ладошками зачерпываем тёплую, прогретую солнцем воду. Хочется купаться, но без взрослых нельзя. Возле пруда полно пустых ракушек, мы собираем их для куриц в стеклянную баночку.
Другой берег пруда обрамляет густой, могучий лес. Мы идём к нему по цветочной поляне, ища спасения от полуденного солнца. По дороге рассматриваем цветы. Вот мой любимый цветок с ласковым названием «часики». Цветочки малиновые, иногда почти белые, с красными пятнышками, по краю зубчатые. Возле тропинки благоухают заросли донника, лиловых васильков и белых ромашек.
Забегаем в лес. Здесь прохлада. Пахнет грибами, хвоей, влажной землёй. Под огромными ёлками попадаются нарядные мухоморы в юбочках. Из леса видно, как по пруду плавают наши белые гуси.
Слышим, из огорода доносится слабый крик: будут ругать – убежали без спроса. Со всех ног мчимся домой. Строгая мама велит идти с ней на поле, ворошить свежескошенное сено.
Всегда у нас полный двор скота: корова, телята, поросята, кролики, куры, гуси.
А однажды у меня появился друг, его звали Цыган. Телёнок был весь чёрный, будто сажа, только белые круги под глазами. Он всегда прыгал от радости, едва завидев меня. Я приходила и подолгу с ним разговаривала. А он хрустел сочной травой и молчаливо слушал, обмахивая себя хвостом.
Кроме меня и сестры детей в округе не было. Поэтому, когда мы ссорились (а ссорились мы часто), я дружила с животными. Моими дворовыми друзьями были кошки, собаки, телята, гуси, куры и корова чёрно-пёстрой породы – Вишня, мама Цыгана.
Однажды моего друга зарезали. Я увидела большие куски мяса и поняла, что это Цыган, долго рыдала и ненавидела папу. И дала зарок не есть мяса. Продержалась недолго. На следующий день голод сделал своё дело: я съела суп на мясном бульоне. А обида на папу прошла к утру.
Но с Вишней дело обстояло по-другому. Я пришла к ней в тот же день, вечером. Видно было, что она тосковала по сыну. Я обняла её снизу за шею, корова пахла свежим сеном, навозом, молоком и теплотой. Вишня ничего не ела, не двигалась и равнодушно смотрела перед собой. Потом она резко дёрнула шеей и отбросила меня.
Утром её повели на пастбище. Всегда послушная и покорная, она вдруг протяжно замычала и убежала одна в поле. До вечера мы с сестрой её искали. Ночью она пришла сама. Я услышала, что кто-то дышит и шевелится в ночной тишине под окнами.
После этого корова больше не выходила из своего сарая. Она стала угрюмой и непонятливой. Мама плакала, что придётся отправлять нашу кормилицу на убой, но выбора не было. У Вишни пропало молоко.
А я с грустью думала, что корова отдала нам всё, что у неё было: сына, молоко, мясо, кожу, внутренности и кости.
В этой деревне мы прожили четыре года. Потом переехали в село, где была школа. Часто спрашивала у папы, для чего же мы переехали в эту маленькую деревеньку, он задумчиво молчал.
Теперь мне кажется, что это были самые счастливые, наполненные чудесами и открытиями годы моей жизни.

Роман Алексеев
Пёрышки

Ризница нашего кафедрального собора большая, вся какая-то мягкая от ковров и множества облачений, и очень уютная: от тишины, от полумрака, освящённая лишь настольной лампой, бросающей жёлтый свет на склонившуюся над швейной машинкой матушку Марфу, от мягко ступающего по ковру отца Михаила, нашего молодого диакона, напевающего себе под нос праздничный тропарь:
– Во Иордане, крещающуся Тебе, Господи, тройческое явися поклонение…
У него был хороший баритон, но только немного гнусавый из-за насморка, а насморк у него случался часто, и он, видимо, очень страдал от этого.
Крещение Господне 1997 года осталось в моей памяти светлым и чудесным днём, поучительным даже.
Я вот уже года два как прислуживал в соборе алтарником, но, признаюсь, был не ахти какой хороший алтарник – неумелым и неуклюжим, хоть и очень старался, молчаливым и очень стеснительным. В алтаре, кроме меня, ещё прислуживали две пожилые монахини, Марфа и Анисия. Матушка Марфа была строга и требовательна, но добрая, а матушка же Анисия тихая, углублённая в себя, как-то созерцающая себя.
Когда я стоял в алтаре на службе, читая по обыкновению многочисленные записки и усердно молясь о здравии и упокоении, мать Анисия, проходя мимо меня, почти всегда указывала мне на икону, висящую невдалеке на стене, со словами:
– Твой ангел – Роман Сладкопевец, молись ему.
И я молился ему, впрочем, недоумевая, почему это мой святой, ведь он – Сладкопевец, а я не то что петь, а говорить-то особо не умел из-за ужасного косноязычия, моего многолетнего (и до сих пор даже) комплекса, доставившего мне много неприятностей, особенно в школе.
Праздничный день Крещения выдался в тот год холодным, солнечным, в дымке и каким-то хрустким. Утром, как всегда очень рано, я поехал в храм в прямо-таки ледяном автобусе и, изрядно озябший, с большим наслаждением вошёл в тёп лый собор, пахнущий ладаном, воском, молитвой и освещённый только лампадками. Приложился, крестясь, к праздничной иконе, к нашей чудотворной иконе Божией Матери, и вошёл в алтарь, испытывая благоговейный страх.
Матушка Марфа обернулась, услышав, как я вошёл:
– А, Ромочка, заходи, с праздником тебя! Что так рано?
Я ответил «Спаси Господи!» на поздравление и что-то промямлил в ответ, что, мол, боялся проспать. На самом деле я всегда обожал рано приходить что в школу, что вот и в храм. В школе, кстати, доходило до смешного: я мог прийти за час и сидеть, ждать на лавочке, невдалеке от двери класса, и уборщица ко мне привыкла и почему-то жалела меня.
Затем я похристосовался с отцом Михаилом, очень добрым и заботливым человеком, снял тёплую куртку и сел в ожидании.
Постепенно прибывали батюшки, диаконы и иподиаконы. Румяный от мороза отец Сергий, иерей, спросил меня, сидя на лавочке, переобуваясь и кряхтя:
– Ну как погода сегодня, Роман?
Я ответил:
– Да двадцать семь градусов, а вчера было двадцать девять, сегодня теплее.
Он, смеясь с прищуром и кивая находящимся рядом отцу Димитрию и другим священнослужителям, сказал:
– Слышали? Сегодня теплее, двадцать семь градусов, хе-хе-хе… Так ты прямо морж какой-то, Рома, хе-хе…
Я только неловко улыбался, мне было стыдно перед стоящими рядом молодыми иподиаконами, с некоторыми я уже успел сдружиться. Отец Сергий добрый, и пошутил он не со зла, конечно, но я всё равно на него обиделся.
Вскоре тихо и почти незаметно приехал наш архиерей. Суета, очередь за благословением, я по статусу последний. Очень внимательный и вдумчивый взгляд у владыки.
Литургия началась. Всё было торжественное, белое и в дыме пахучего ладана. Вот и таинство Причащения Тела и Крови Христа, я в общей очереди к Чаше, но бабушки заботливо и с некоторым уважением подтолкнули меня вперёд, мол, паренёк в алтаре служит, дайте пройти. Я, смущаясь и благодаря, прошёл вперёд.
Конец Литургии. Весь клир вышел во главе с архиереем. Я стою с краю, с ладаном в руке, чтоб вовремя положить в кадило. И вот, когда началось Великое освящение воды и владыка опустил крест в чаны и вёдра с водой, в собор залетает с улицы голубь. Обычный сизый голубь, ошалелый, должно быть, от мороза, раз залетел в храм; усаживается высоко на одну из балок прямо над нами, над амвоном, и деловито воркует и встряхивается. Я запрокинул голову посмотреть на голубя и увидел, что маленькие пёрышки – пух – летят сверху и опускаются на головы и плечи стоящих напротив меня батюшек, диаконов, иподиаконов и на владыку. Некоторые из клира и из прихожан тоже глядели вверх. На меня же ни одно пёрышко не упало, и так мне это показалось знаменательно и обидно, что я хотел даже, грубо нарушая устав и порядок службы, перейти на то место, куда опускались пёрышки, чтоб и на меня упало хоть бы одно пёрышко… Очень хотел, но, конечно же, не решился. И ни одно, хоть бы и самое маленькое, так и не упало. Зато упало мое сердце. Про себя я невесть что решил и даже подумал с горечью, что не отметил меня Господь таким образом и теперь я не попаду в рай, а остальные, на кого упали пёрышки, обязательно будут в раю…
Уже после Литургии, когда я одевался домой, матушка Марфа, заметив, видимо, мое нерадостное лицо, спросила меня:
– А ты почему такой печальный?
Я рассказал ей про голубя и пёрышки, еле сдерживаясь от того, чтоб не расплакаться, как маленький.
Она сказала на это, легонько похлопав меня по руке:
– Не расстраивайся, это всё глупости, молись Господу и Богородице да своему ангелу, а это все пустое. Иди домой с Богом, милый, иди.
Матушка Анисия молча смотрела на нас, перебирая чётки.
На следующий день мать Анисия после вечерней службы подарила мне книгу, Часослов, по которому я учился читать по церковнославянскому языку. Учили меня обе монахини, и с этим учением вышел как-то небольшой конфуз. В том же 1997 году, Великим постом, на вечернем богослужении во время чтения Шестопсалмия я сел в ризнице на маленький диван учить церковнославянский.
Диванчик этот располагался спиной к лестнице, которая вела из ризницы во внутренний двор семинарии. И вот я шевелю губами, прилежно выговаривая про себя трудные слова, и вдруг чувствую, что кто-то крепко ухватил меня за левое ухо и тянет вверх. Несколько ошарашенный этим поступком, я вскочил и обернулся, чтоб узнать, кто посмел это сделать, и заявить своё возмущение обидчику. Ухо моё тотчас отпустили. Сзади, в начале спуска лестницы, стоял наш Владыка, он-то и потревожил мое ухо. Позади него стояли двое ребят, иподиаконов, и улыбались так, как только могут улыбаться иподиаконы в подобной ситуации. Я автоматически потёр ухо, а архиерей строго и наставительно сказал мне:
– Чадо, не должно сидеть на Шестопсалмии, нужно стоять и молиться. – А глаза его улыбались.
Я сказал сбивчиво:
– Прости мя, Владыко… – И виновато прошёл в алтарь. Это мне урок.
После, в тот же год, я сам, своею волею, ушёл из алтаря и перестал практически ходить в храм Божий.
Прошло лет десять или одиннадцать. Я снова, слава Богу, вернулся в лоно Церкви.
Не проверял и не узнавал, но думаю, что, может быть, дорогие мне матушка Марфа и матушка Анисия уже отошли ко Господу. Определённо знаю про отца Михаила. Как-то, будучи в родном городе в гостях у родных, я увидел его на Литургии, он служил уже в сане протодиакона, и половина головы была у него выбрита. А я, неразумный, и не понял, почему. Знакомый батюшка объяснил мне, что так надо при облучении мозговой опухоли. К сожалению, с отцом Михаилом тогда я так и не увиделся, о чём очень жалею. Думаю, что он мне бы обрадовался. Он умер семь лет тому назад от опухоли мозга, ему было 40 лет.
Однажды примерно в то самое время, когда умер отец Михаил, я приехал в гости к родителям и в их доме, среди моих старых вещей, случайно наткнулся на старенькую книжку в тёмно-зелёной обложке с вытисненным золотистым и несколько стёртым крестом. Часослов, тот самый, подаренный. Я присел на стул, раскрыл его и в углу авантитульного листа прочёл забытую мною памятную надпись: «Будь в гармонии со своею совестию, с людьми – так, что касается вечных законов Божиих. И ты будешь блажен здесь и в вечности. На молитвенную память Роману от м. Анисии. январь м-ц 1997 г.». Я заплакал.
Как маленький, но уже не стыдился этого, и слёзы были хотя и горькие, но и радостные, освобождающие.

Владимир Анисов
Про солдатика

Мы с дочерью шагаем через реку. С большой высоты она просматривается на дальние расстояния в обе стороны. Огромный мост когда-то соединил два берега могучей сибирской реки. На моих глазах здесь вырос посёлок. Вырос и я вместе с ним. Теперь мы важно идём с ребёнком по этому стальному мосту. И я словно вновь проживаю ступени своего взросления, вспоминая важнейшие вехи детства. Мне сорок лет. Дочери почти десять. И наш мост как будто соединяет такие близкие и такие далёкие берега. Берег повзрослевших людей, покинувших свои причалы, с берегом юности, полной восторгов, ошибок, испытаний себя на прочность. Берег моего детства, хозяйкой которого теперь стала дочь, с берегом убегающих как река лет. Эти годы заботливо прибавляют седых волос и ответственности. И так хочется от многого уберечь моего маленького дружочка, предостеречь от опасных поворотов на этой стремительной реке, пока наши руки вместе соединены, как этот мост. Но у каждого взрослеющего человека своя дорога, свой путь, и пройти наши ребята должны этот свой путь самостоятельно. Что ты им сможешь тут посоветовать… Хотя какие-то зарисовки нашего детства, может, помогут им задуматься о выборе собственных тропок. Выбор этот будет часто маячить тревожными вопросами в потоке их стремительного течения жизни. А пока мы за руку с дочкой идём по мосту.
– Ты большой, прямо огромный, как медведь, папа!
– Я?
– Ты, ты! Не медведь, а медвежище! Даже не верится, что ты когда-то был маленьким. Папка, ты был маленьким?
– Коне-ечно.
– Прямо таким же, как я, маленьким-маленьким?
– И маленьким-маленьким, и потом побольше, и…
– И в школе учился?
– Было дело.
– И в садике спал после обеда, и полдники кушал?
– Уже и не помню, говорили про что-то подобное.
– Расскажи о своём детстве, когда тебе было лет десять. Ну, или почти десять.
– Многое забывается со временем, но что-то остаётся в памяти.
– Расскажи, что остаётся. Вы на переменах шалили? Какие игры для мальчишек были самые главные, а какие и для девочек? У нас теперь в смартфонах столько игрушек интересных. Мама говорит, что у вас даже и телефонов-то тогда не было, как же вам скучно жилось.
Я рассмеялся.
– Знаешь, открою тебе секрет.
– Какой ещё секрет?
– Нам жилось не то чтобы скучно, а…
– А телевизор, когда ты маленький был, уже был?
– Ага.
– А компьютер?
– У кого-то – да. Но жили мы очень весело. И на смартфоны тогда просто времени не хватало.
– Как так, у вас же их не было?
– Потому что нам было просто не до них.
– Во что же вы тогда должны были играть?
– Слышала когда-нибудь про «казаков-разбойников»?
– Нет.
– А про «колпачки» или «пробки», как их ещё называли?
– Что это за колпачки такие?
– А знаешь, как в лапте выжигать?
– Не знаю, конечно же.
– Мы много ходили в походы, строили свои штабы на деревьях, где можно было часами следить за врагом. У нас были «Зарницы». Куча интереснейших игр с мячом во дворе. А ещё мы делились на две группы, и когда была зима, искали спрятавшихся противников и забрасывали снежками друг друга – кто кого. Но всего уже и не вспомнить. Жгли костры за родной пятиэтажкой. Нас, конечно, иногда ругали взрослые.
– За что?
– Мы для костра доски старые то от заброшенного садика, то от гаражей бесхозных утаскивали. Сейчас понимаю, всё-таки не стоило подчищать все деревяшки, которые выглядели ничейными. Как-то это мелкой пакостью, воровством попахивает.
– Ну, ты же, папа, не вор?
– Нет, конечно. Хотя был один случай…
– Расскажи, расскажи!
Как я солдатика в его армию возвращал
Моя мама работала с маленькими детьми в детском саду. Много всего интересного случалось. И забавных ситуаций, и грустных – хоть отбавляй…
Но надо же ей было когда-то и своих деток воспитывать. То есть меня и мою сестру Наталью. О таком воспитательном моменте я помню до сих пор.
Вместе с мамой работало много других женщин. А одна из воспитательниц (если припомнить, её звали Ольга Николаевна) ещё и жила по соседству, в нашем районе. У Ольги Николаевны тоже были сын и дочурка, Артём и Настя. И мы как-то раз пришли к ним в гости. Пока взрослые обсуждали свои разные серьёзные дела, мы – малышня – играли в солдатиков. Девочки в подчинении, а главные генеральские должности у нас – у мальчишек. И до того была игра интересная, и так мне эта армия солдатиков в душу запала, что подошёл я к своей маме и попросил, можно ли мне забрать одного офицера домой.
– Ну не знаю, прилично ли это будет, – сказала мама. – Всё же, наверно, спрашивать нужно не у меня, а у хозяев.
И я решил обратиться напрямую к старшему судье этого дома, к Ольге Николаевне. Она сказала мне спокойно и твёрдо, что если я захочу поиграть, вечером всегда могу прийти к её сыну, но подарить игрушку отказалась. Причина тоже была… Вроде это был подарочный набор военных фигурок от каких-то родственников их сыну Артёму. Я очень огорчился и пошёл играть с ребятнёй дальше. Но настроение уже было не то. Воевал я вяло и не азартно. Скоро мои напарники по игре отстранили меня от боевых действий. И вот мне в голову пришло спасительное воровское решение.
«Да просто украду солдатика, – подумал я. – Это же так легко, почему не догадался об этом раньше».
И вот я снова подключился к играющим. А вскоре незаметно для других отодвинул одну боевую бравую военную фигурку. Затёр её за ногу и, улучив момент, опустил офицера к себе в карман. После чего сказал, что игра уже затянулась, и начал всячески уговаривать мать и сестру отправиться домой. Ведь уже был вечер, и ещё нужно было прогулять собаку, почистить зубы. В общем, причины нашлись… А солдатиков было немало, поэтому пропажи никто не хватился.
По дороге домой мы о чём-то горячо разговаривали с мамой и сестрой. Радость переполняла меня. Лето, казалось, удалось лучше некуда. Хотелось поделиться своей удачей. И вот прекрасный момент настал. Мама вспомнила о моей просьбе в гостях и призывала не жадничать и не заглядываться на чужое, тем более что дома своих игрушек хватало. И я проболтался:
– Свои игрушки, мама, я уже все заиграл до дыр. А солдатики Артёмки – они не простые. Они из металла отлиты и покрашены так, что переливаются в темноте. Я таких никогда не видел. Очень стоящие. А у него их всё равно навалом. Подумаешь, одним больше, одним меньше.
Мама остановилась и резко одёрнула за руку и меня, и сестру.
– Так ты что, украл, что ли?
Я испугался грозного вида мамы. И хотел сказать, что ничего страшного не произошло и я просто взял поиграть, а потом верну. Но её строгий взгляд подтолкнул меня на новое преступление.
– Да пошутил я, пошутил! Ничего я не украл. Что ты обо мне думаешь?
– А ну-ка, выворачивай карманы! – сухим тоном отчеканила родительница.
Солдатик быстро был найден. И наставница моя потребовала немедленно вернуть краденое хозяину и извиниться. И так мне стало стыдно и страшно, что если бы я знал, что такое начнётся, – никогда б не взял чужого. Чудовищней всего для меня казалось, что меня предаёт собственная мать.
«Ну, – думал я, – пожурит, покричит – неприятно, конечно, но на следующий вечер оттает. Ведь мама всегда простит».
Однако такого расклада я, признаться, не ожидал. Идти в сложившейся ситуации практически в тыл к врагу и самого себя отдавать в плен Ольге Николаевне?! Я начал сильно-сильно уговаривать маму разными проникновенными словами не поступать так бездушно со своим сыном.
Но мама оставалась непреклонной и требовала пойти и вернуть игрушку.
– Но ведь уже темно на улице. Вдруг они спят! – оттягивал я грозный суд над собой, в надежде перенести решение на завтра, а завтра, казалось, многое могло измениться. – Вот завтра прям с утра пойду и отдам, и извинюсь.
– Немедленно вернись и отдай.
Я начал хныкать, до того мне казалось ужасным прийти и раскаяться в таком постыдном мелком грязненьком деле перед маминой знакомой.
– Можно я хотя бы в почтовый ящик его подкину? Зачем мне извиняться? Как она на меня посмотрит? Ведь я же у неё лично спрашивал, можно ли взять оловяшку.
– Только что ты мне расхваливал достоинства своего ворованного офицера, а теперь уже – оловяшка? Нет, дорогой, за свой гадкий поступок придётся ответить, и сполна. Ты пойдёшь, лично вернёшь офицера и извинишься. А завтра на работе я спрошу у Ольги Николаевны, не забыл ли ты попросить прощения!
Я горько заплакал:
– Ну, можно хотя бы не извиняться? Или я на порог, к двери подкину.
Видя, как мне тяжело, за меня стала заступаться сестра:
– Мама, ну прости его, можно он оставит солдатика у себя? Видишь, как Вовке стыдно. Больше он так не будет. Правда же, брат?
– Не бу-у-уду, – уверял я.
И мать обратилась к сестре:
– Понимаешь, дочь, ведь он совершил страшное преступление в детстве, в самом раннем своём возрасте. Если этого сейчас не пресечь, он навсегда останется вором. Ты хочешь, чтобы твой брат вырос вором?
– Нет, мама, – испугалась Наталья.
– Так вот, если маленького щенка не приучить с детства проситься на улицу в туалет, он вырастет и станет гадить прямо дома каждый день, и ты его не переучишь никогда. Такое случалось. Разве мы хотим, чтобы наш сын и брат пакостил всю свою жизнь? Сначала он станет воровать у тебя, позже у нас с отцом, потом у других добрых людей. А в итоге – попадёт в тюрьму. Поэтому лучше набраться смелости, пойти и, если ты мужчина, пусть и маленький, но мужчина, – исправить свою горькую ошибку, искупить свой отвратительный поступок. И запомнить этот случай на всю оставшуюся жизнь, чтобы так больше по правде не поступать никогда.
После таких аргументов Наташа с матерью согласилась. В глубине души я понимал, что мама права. Но как же это было тяжело… И как было стыдно идти и отдавать себя на осуждение совсем чужим людям.
Сегодня, спустя много лет, я считаю, что моя родительница поступила именно так, как и должна была поступить, оберегая меня от будущих других более нелепых тяжёлых и опасных ситуаций. Ведь этот жизненный пример я уж точно запомнил навсегда.
А тогда моя мама виделась мне уж сильно принципиальным человеком. Очень строгой, до крайности. Позже она даже не посвятила в нашу тайну отца, приговора которого я боялся ещё больше. И всё же правосудие это воспринималось мне жестоким бесчеловечным и несправедливым. Об обокраденном Артёме я и не думал. Себя тогда, конечно, было жалко больше других. Но по требованию я отправился на собственную казнь.
– Здравствуйте, Ольга Николаевна, – сказал я на пороге.
– Здравствуй, Володя. Как будто мы уже сегодня виделись? Ты что-нибудь, может, забыл?
– Забыл. Я… Я…
По моему заплаканному лицу, как мне кажется, было уже всё видно. Но говорить тогда через силу пришлось, хотя это и было крайне трудно.
– Что же ты забыл?
– Я забыл солдатика. Забыл его вам отдать.
– Ну, ничего страшного. Ты, наверное, заигрался и просто в порыве игры спрятал одну из игрушек, как разведчика, а потом забыл. Так?
Она сдержанно, но ласково улыбнулась.
– Так… – сказал я. – Но… не совсем так…
Если шёл я в дом к знакомой моей мамы под страхом их завтрашнего разговора, то во время такого человечного приёма в душе моей что-то содрогнулось. И человеку, который явно хотел мне помочь оправдаться – я это сумел заметить, так не хотелось лгать. К тому же пока я шёл, очень на меня повлияла и строгая принципиальная позиция матери. И когда дверь открыли, показалось, что самое страшное – первый шаг – уже сделано. Очень не хотелось врать теперь после всех этих мыслей самому. Лично. Не по чьей-то указке или из-за маминой будущей проверки. И я решился сказать правду.
– Не совсем так, – опустив голову, низким подавленным голосом продолжил я. – Ольга Николаевна, простите меня, пожалуйста!
– За что же?
– Я тогда вечером совершил подлость, сам не знаю как.
– Я, кажется, догадываюсь, – проговорила она.
– Мы играли, и я решил забрать у вас офицера… – В тот момент пришлось собраться с духом, и я проговорил покаянные слова, дав чёткую оценку своего поступка: – И я… Я украл солдатика. Простите, я никогда так больше не стану совершать…
– Правильно сделал, что набрался храбрости и признался. Наверное, это очень тяжело. И всё же мне тоже неприятно… Однако не делай больше таких поступков. Верю, что ты всё пережил и осознал. А если надумаешь поиграть с Артёмкой в солдатиков – приходи.
Я шёл домой; дышалось так легко, как будто с меня сняли тяжелейшую ношу, как с верблюда, который неделю бродил по обжигающему песку пустыни. Я был свободен от своей позорной вины. И этот случай стал замечательным уроком и мне, и сестре на всю нашу жизнь.
– Да, папа, бабушка была строгой, но правильно тогда всё сказала. Правда?
– Конечно, правда.
– Больше тебе не хотелось воровать?
– Очень не хотелось. Урок уж больно запоминающийся.
– Правда ведь нужно слушаться родителей?
– Очень даже правда! Вообще родители плохому тебя не станут учить.
– Но ведь родителей так трудно слушаться! Иногда хочется пошалить или сделать что-то, чего они не разрешают. Часто кажется, что я лучше знаю, как мне поступить.
– Хорошо, а представь, что тебя просто может кто-нибудь обмануть. Осознанно из зависти или по злой шутке научить плохому чему-то, например предложат попробовать закурить?
– Пап, ну неужели ты думаешь, я такая маленькая и не вижу, где плохое, а где хорошее? Кто меня сможет сбить с пути?
– Все, доченька, так думают. И потом ошибаются… Тоже все. Конечно, у каждого свой путь и свои испытания, которые никто за него не пройдёт. Но всё же определённые моменты нужно запомнить и принять от родителей, как железное непреклонное правило. Образно говоря – зарубить на носу. Такие предписания, как «посмотри на дороге налево-направо». Как «приучай себя не опаздывать, а всегда давать время к размеренной ходьбе в нужное для тебя место, в школу, в спортзал, на автобус». Как «старайся избегать вранья и любой неправды».
– Ну, и то, что ты только рассказывал: не воровать.
– Да, не воруй. Как – не говори о других плохо, а прежде всего с себя спрашивай и на себя смотри построже. Такие вот правила… Честно служи своей стране и честно выполняй работу – не для начальников, а для совести, для своего достойного вклада… Ведь мы работаем для людей. А люди заслуживают уважения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































