Текст книги "Радости моего детства"
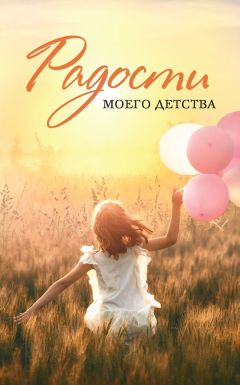
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Елизавета Грехова
Два больших куста и два маленьких

Небольшой домик, он же сарай, грядки с овощами, зеленью, ягодами и цветами, дырявый шланг от насоса, пустые ржавые бочки, жужжание, стрёкот, чириканье, шелесты и шуршание. Мама пропалывает клубнику, у её ног высится куча сорняков. К их корням прилипли влажные комья земли, сами сорняки беззащитно и как-то смиренно смотрят в безоблачное знойное небо. Мама – сама кара, само правосудие.
– Нужно сообщить их родным.
– Что? – Правосудие недоумевает, поднимает на меня кристально-голубые глаза.
– Нужно родным сообщить об их смерти, иначе они будут числиться пропавшими без вести.
А я – само милосердие и предупредительность.
Мама смотрит на вырванную кучу, смеётся:
– На столе вёдра, небольшие, иди жимолость собирай.
– А сколько её?
– Два больших куста и два маленьких.
– Есть, мэээаааам.
Чёрно-фиолетовые ягоды жимолости такой же продолговатой формы, что и её листья, – и в темноте куста часто хватаешь «обманку». Собирать жимолость – это кисло, грязно и утомительно.
Ягоды очень нервные и чувствительные, чуть дотронься до ветки – и они уже падают в обмороке на землю. А муравьи их не подбирают, они лениво проползают мимо: знают, что будет ещё. Их уже навалом, этих гниющих, сдавленных ягод. Насекомые видят землю из падали и не спешат. Сейчас время и место их рая, сейчас они цари.
– Сколько здесь муравьёв! Их просто куча!
– Там ещё ведро есть, – с грядок доносятся тяжёлое пыхтение и невнятное монотонное бормотание.
– Предлагаешь мне их собрать?
– Ну да.
– Мам, я про муравьёв!
– А, не расслышала. – Смеётся и спустя время: – Их, наверное, можно на варенье. Или пожарить.
Зажимаю ветку, закрываю глаза, а…
…тётя Катя ушла за молоком и булкой, вернётся минут через десять. Она нажарила нам тоненьких блинов, но есть не хочется. За десять минут можно сделать многое. Построить космическую станцию и ракету. Посмотреть «6 кадров». Устроить воображаемое наводнение и спасти зверей. Ещё раз прочитать «Мурзилку». В комнате семейного общежития темно, мы прячемся от чего-то ну очень страшного. Сначала – бок о бок, но после я потихоньку отхожу, маленькими бесшумными шагами. Лёша не сразу замечает, светит слабым фонариком на стены и по углам, пытается найти меня. Зовёт и говорит, что это не смешно. Давлюсь в кулак, лишь бы не расколоться. Подкрадываюсь, зажимаю ему рот. Он испуганно вскрикивает мне в ладонь и дёргается, а я сквозь смех: «Тише, тише, это я. Сейчас я медленно уберу руку, а ты без резких движений…»
Я ослабляю пальцы, медленно отстраняю их от ветки. Некоторые ягоды доверчиво и послушно остаются в ладони, всё ещё нервно подрагивая. Но есть и такие, кто запальчиво бросается вниз в царство избалованных насекомых. Наверное, это происходит так.
Висят две жимолости рядом, и одна спрашивает:
– Что там внизу?
– Не знаю, а как хотелось бы увидеть!..
– Вчера Семён упал, и больше его не видели. А сегодня с утра слетела Ленка.
– Всегда мечтал узнать, что же там внизу…
– Семёна и Ленку жаль.
– Ах, отчего же жимолость не летает, как птица!
– Ну и глупости у тебя, висим – и хорошо же.
– Не знаю, не знаю…
На куст садится воробей, жимолость со всей силы отрывается от ветки и лети-и-ит. А там темень, духота и неизвестность.
Но я подбираю даже такие. Ибо каждая жимолость должна выполнить свою сакральную миссию – желудок, компот, варенье. Особенно смешно забирать ягоды, которые приметились муравьям. Неотвратимо тянусь за жимолостью, они начинают суетиться, образовывать недовольные кучи, быстро шевелить крохотными усами. Шук-шук-шук. На самом деле они бесшумные, но мне кажется, что они могли бы передвигаться и с «шух-шух-шух».
– Как там муравьи? – Мама поднимается из-за густых кустов, дует на тёмную с проседью мокрую прядь, которая лезет ей прямо в нос.
Я отбираю ягоду у бушующей («шух-шух-шух») толпы, кладу в ведёрко:
– Всё хорошо, они со мной по-братски поделились.
Муравьи в шоке застывают, услышав такую наглую, просто неслыханную ложь.
Два маленьких куста безьягодны. Стоят грустно, косятся на набирающую сок смородину, созревающую малину, стыдливо опускают взгляд и вздыхают. Так и не придумав, как исправить это неловкое положение, просто решаю на них не смотреть.
Подсаживаюсь к последнему большому кусту. И ветки медленно пустеют. Куст недовольно, громко шелестит и потрескивает. Он самый обильный на ягоды, они крупны, и сладки, и…
…захожу в сарай. Он не засмоленный, сколоченный из голых золотистых досок, которые уже ссохлись. Доски пропускают полосы мягкого света, разрезая меня на линии закатного горизонта. Тшшшш, тише, Звезда, размычалась тут. Сажусь на маленький табурет, этакий табуретёнок, протягиваю руки, сдавливаю, и в ведро падает жимолость, вывалившаяся из ладони. Будто барабанная дробь. Тррррррррр, тррррррррр. Удивлённо смотрю на Звезду, на руки, на ведро, снова на Звезду. Она невозмутимо разглядывает пространство перед собой, изредка шевеля ушами. Ладно, может, так и надо. Сдавливаю снова – в ведро падает ягода, сухие листья и веточки, крохотные паучки. Я надоила полведра жимолости. Звезда начала вздрагивать – её кусал слепень, и жимолость беспорядочно попадала на землю, смешиваясь с разлагающимися ягодами, в чьих внутренностях копались муравьи-хирурги, с удивительной точностью извлекая крохотные кусочки мясистого тельца.
О нет, я убила её, убила!.. Из ведра волной доносится осуждение, а с рук капает сок от раздавленных ягод.
Несусь к маме:
– Мама, мама, я…
Она спокойно смотрит на мою протянутую ладонь в красно-фиолетовых разводах, лицо, полное театрального ужаса.
– Мама, кажется, я…
– Дособирала? – улыбается.
– Ну да, – перестаю кривляться я.
– Молодец.
Сорняки уже были утрамбованы в мешки, теперь мама заканчивала подрезать «усики» у клубники. «Усики» клубники – так и представляется плод средних лет и среднего достатка с небольшим пузиком и маленькими, ухоженными усиками. В его владении среднего размера куст и дети, тоже среднего количества, а жена, вся такая из себя средняя клубника – сверху красная, но с белым, недозревшим кончиком.
Я поражаюсь, как у мамы всё так хорошо и быстро получается. И она не устаёт. Точнее, устаёт, но как-то так светло, что ли. Светлая и доб рая усталость. То ли многолетний опыт, то ли ещё что…
Отношу два маленьких ведра с жимолостью в домик и вижу огромное железное ведрище со здоровенными, горящим алым ягодами клубниками. Да, эти – моей «средней» воображаемой семейке не чета. Ставлю два ведёрка моих капризуль около этих великанов. Малыши лежат спокойно, даже, можно сказать, достойно, наконец-то не вздрагивают и не вырываются. Гляжу на них с умилением: ведут себя почти как взрослые!
Смотрю на часы – на даче нам торчать ещё минимум часа два. О нет…
– Мам, что дальше?
– Иди нарви чесночных палочек. Пакеты на двери, на гвозде. Только перчатки надень, сок у них очень едкий.
Мама не остановилась на клубнике, теперь она вырывает сорняки вокруг пионов. Думаю, не будь у нас забора, она занялась бы и сорняками у соседей. И вообще во всём дачном посёлке.
– Алло, здравствуйте, это та самая компания по тому самому делу?
– Здравствуйте, та самая, по тому самому! Вам сорнячки?..
– Да! Совсем одолели, всё захватили!
– А у вас забор есть?
– Нет, конечно же, нет! Мы ознакомились с вашими условиями!
– Хорошо! А жимолость поблизости?
– Специально для вас высадили.
– Тогда мы с дочерью едем!
Мама зашла в домик.
– Ты чего?
– Эм, перчатки ищу.
– Сзади, в белом шкафу, в первом ящике. Хотя давай сама дам, а то искать будешь полжизни.
Мама достает перчатки, протягивает мне. Я торжественно отвечаю:
– Достойное занятие для половины жизни – искать.
Мама улыбается. Она так классно улыбается и так редко, что рядом с ней я готова быть клоуном сколько угодно, лишь бы она улыбалась. Ездить на эту дачу, собирать жимолость, чесночные палочки, муравьёв, кротов – лишь бы ей помочь. Всё же преодолеть свою лень и помочь.
– Ищи хоть всю жизнь, но с Богом. И молитвой, – всё ещё улыбается мама, но глаза уже серьёзные.
В домике много бумажных икон, расставленных по полкам, две деревянные – Спасителя и Богородицы, повешенных на стену. Я хочу что-то ответить, но молчу и только смотрю на них. «Хорошо» – слишком просто. «Я знаю» – как-то резко. «Я попытаюсь, честно, я буду стараться, мама» – это правда, но я… стесняюсь это произнести.
– Иди, иди, время не ждёт. – Мама выходит из домика, так и не дождавшись моего ответа.
– Есть, мээээаааам, – шёпотом.
И взяла я пакеты да перчатки, преисполнилась мужества да храбрости. И пошла я собирать палочки чесночные, именуемые также стрелками. И клонилось светило к горизонту, горизонт встречал его ласково. И рвала я стрелки со смелостью, а их – видимо-невидимо. И хотелось бы слово молвить более, рассказать, как сраженье чудное совершилось на грядках с зеленью, где чеснок отдавать свои палочки не хотел мне, собирателю.
Но это уже другая история.

Сергей Добронравов
Лялин переулок
Посвящается Ксении и Ирине

Мои родители были людьми бедными и незнатными. Наверное, незнатность звучит странновато после триумфального шествия и провала советской власти по странам, слава Богу, не континентам. И после не менее триумфальных шествий демократических реформ. Как-то повезло, знаете ли, родиться на стыке времён… Бедные и незнатные – это очень обтекаемо по отношению к моим родителям. Относительно культурно и очень верно.
Именно так и следует говорить воспитанному товарищу, детство которого прошло в чистенькой нищете, по-советски – в честной скромности. Чистенькой благодаря матери и нищете – благодаря отцу.
Сейчас, уже спускаясь с холма, трудно зафиксировать тот период, когда я был счастлив внутри своего детства. Наверное, где-то лет в восемь-десять… Проблемы на нуле. Возможностей – миллион. Помню, как кажется, 70-й…
В столице праздник, столетие дедушки Ленина, Владимира Ильича. Яркое солнце. Экологически чистые лужи. Плюс ободранные коленки. И что-то выбросили в магазины, как я теперь догоняю… И мне куплены новые сандалеты. Глянцевые, жёсткие. Плюс белые гольфы. Всё моё. Также было куплено великолепное землянично-розовое мороженое в стаканчике за 9 коп.
Бабушка Ксения – мама отца – ведёт меня на демонстрацию, у меня стандартный флажок, маленький псевдокумач с трафаретом советской троицы на здоровской круглой палочке (в будущем – мачта для плота взвода солдат, попавших в бурю).
Вдруг ловлю себя на мысли, что уже не помню, когда именно родился великий вождь… Удивительно… Действительно, сик транзит[7]7
Sic transit gloria mundi – так проходит мирская слава.
[Закрыть]. Вот-вот… Именно так и проходит!..
Ещё одна империя позади. Причём не самая короткая. Македонский, который Александр, сумел уложиться в сроки гораздо меньшие.
Правда, и людей положили поменьше… Наверное, смешно сравнивать античного полубога с вождём мирового пролетариата. Наверное, так же смешно было в своё время сравнивать вечных живых солнечных фараонов с выскочкой из провинциальной Македонии. Сын одного из царей, да мало ли в Аттике царей! Ну, повезло Филиппу, ну хапнул рудники и золото Афинского союза, ну вложил в сына… Тоже мне, вечно живой…
Год на вскидку не помнится, но слово «столетие» неслось из всех репродукторов и врезалось в долгосрочный участок, а мне тогда было лет восемь-десять, и в тот миг у меня были самые гармоничные отношения с окружающим меня взросло-советским миром.
Лялин переулок…
Там в королевском одиночестве я провёл своё летнее детство. В нагретых июлем дворах и переулках в двух шагах от Покровки… В бывшем доходном доме. Среди книг, довоенных шкафов и чудовищной по размерам ванной комнаты.
По тёмной лестнице на антресоль… «Здесь жила прислуга», – говорит бабка Ксения.
«Здесь жила Прислуга», – слышу я.
Кто ОНА?!! Жила на антресоли! Надо же…
Из лично моих наблюдений антресоль – это полка в коридоре для хранения санок, шуб и прочего зимнего. Но не так давно я узнал, что антресоль – это верхний полуэтаж дома. Метаморфозы советской эры, всадник Овидий может присесть и отдохнуть…
Так как мои родители были людьми бедными и незнатными, незнатными настолько, что не могли позволить себе путёвку в пионерлагерь, – меня сдавали на лето бабкам. И часто скидывали туда же и на весенние выходные, так как по молодости мама и папа обожали компашки с киношками.
Мои летние родители – бабушка Ксения. И её матушка, моя прабабушка Ирина.
Со Сретенки, родины мамы, в двухлетнем возрасте меня перевезли – мы переехали – в Новые Черёмушки. Так меня и перекидывали из Черёмушек на Покровку, родину папы, и обратно.
И так продолжалось, теперь я вспоминаю уже отчётливей, с первого класса по пятый. В первый год ещё перекидывали. А потом уж я сам. Челночком. Удивительно…
Сейчас такое не практикуют, а тогда было нормой. Возможно, народу было поменьше или порядка побольше. Не знаю… Не апология, отнюдь. Но факт исторический. Маленьких не трогали. Гуляй – где хочу.
И вот мне восемь…
Худенький. Не дистрофик, но близко. Кости тонкие, мяса минимум. Невысок. Буду откровенным до конца – коротышка. Сандалеты просят каши, штаны на лямках, другие на мне не держатся. В общем, красив, как бог… Домашнее имя – Вишенка. По причине жалости к недомерку, больших тёмных глаз и девичьей фамилии матери, Вишневецкая.
– В твоём возрасте, – говорит мама, – я тоже была Вишенкой…
Проверить не могу, верю на слово.
Бабка Ксения говорит: «Тебе пора домой, мама соскучилась». И выдаёт три пятачка. Один запасной. Могу потерять. И я парю над асфальтом, через Лялин пешком, на Покровку, до «голубого сундука», где «Аннушка», там направо, по Чистым мимо «Колизея» до Кировского метро. Собственный мир. Кино наяву. Идёшь, впитываешь… Взгляд на уровне сумок.
Ну где ещё попадётся к просмотру Москва 60-х? Опускаешь пятачок. И вниз, на юго-запад, до конечной, до «Калужской». Второй пятачок кондуктору, и автобусом № 42 до новых, чистеньких пятиэтажек. Это же здорово! Если два раза третий медяк не потерял, то заработал на эскимо! Бабка приучала к аккуратности гениально и просто. Эскимо стоит 11 коп. Одна копейка выдавалась мне безвозмездно. Счастье подступало вплотную, но не давалось. Пятачки терялись. Шла настоящая война, чтобы не потерять третий. С переменным успехом и с минимальным перевесом в мою сторону. Удивительная штука – детство…
Громадный коридор. Налево комната бабушки Иры (моя прабабушка). Здесь я бываю редко. Не пускают. И правильно делают. Никелированные шары на кровати – моя недосягаемая мечта. Шары гулко катятся между вырытых, тщательно замаскированных ловушек и громят вражеские укрепления.
В пробитую брешь врывается конница. Мячик – это несерьёзно!
Нужны настоящие стенобитные орудия. Жизненно необходимы. Штурм крепости – это не шутки. Четыре шара, абсолютно ненужные моей прабабке. Кровать без них не развалится, так ведь? Но бабушка Ирина так не считает. И я думаю с детской жестокостью: «Ладно, я подожду…» Я уже настолько большой, что знаю, что прабабушки умирают вперёд своих правнуков…
Очень высокий, под потолок, тёмный шкаф. Нижняя полка заставлена вареньем. Знают, куда прятать… Шкаф трудно открыть даже ключом.
Шкаф – громадина. Он необъятен. Разобрать его невозможно. Авиационные зажигалки 41-го его пощадили. Он здесь навечно. Аналогом египетских пирамид. Фасетное зеркало, уже мало что отражающее. Горы вязаных салфеток. Стада фарфоровых слонов и слонят.
Бабушка Ира говорит мало. Со мной общается ещё реже, делает это через дочь, бабку Ксению.
– Скажи, чтобы всё доел… Скажи, чтобы долго не гулял…
Но она меня любит. Не в своей комнате, а на нейтральной территории. Например, на кухне, такой же необъятной. Восемь газовых плит. Рабочих две. У окна.
Принадлежат двум живым. На остальных плитах не готовят. Как плиты, они умерли вслед за владельцами.
В комнате у бабки Ксении бабушка Ира меня тоже любит.
Что такое любовь к правнуку, когда ты из другой эпохи? Бабушка Ира гладит меня по голове и покупает с пенсии цветные карандаши.
Бабка Ксения приносит альбомы и блокноты из типографии, где работает уж не знаю кем…
Это ОТКУП.
Чем больше я рисую, тем меньше я смотрю на кроватные шары. Знают моё слабое место мои старушки…
Я обожаю рисовать. Бабушка Ира ходит с палочкой, ну просто суперклюка, с натурально вырезанной птичьей головой, «птица-секретарь» с отполированным клювом. Я срисовал, и… как кажется, у бабок был шок. Как я теперь понимаю…
Вечером к чаю были «студенческие» пирожные, по рецепту общежитий 60-х. Печенье намазали сливочным маслом, тонко и холодно полили вареньем и сверху накрыли вторым. Печенье самое дешёвое. «Космос», что ли…
Моё первое заработанное пирожное, самое дорогое… Того рисунка я больше не видел…
– Скажи ему, что он хорошо рисует, – сообщила бабушка Ира бабушке Ксении.
У бабушки Иры на стене чёрный репродуктор, который ловит только «Маяк». Уж не знаю, из какого кино его привезли… Ловит постоянно. Его не выключают. Не помню, чтобы он не бормотал через приоткрытую дверь. Ночью он молчит, они оба молчат. Днём он исправно выдаёт последние новости. Я думал очень долго, Бог свидетель, я честно напрягал свою бестолковку. Потом прихожу к бабушкам на кухню и говорю:
– Он всё врёт. Последние новости уже были. Он говорил. Почему опять последние?!
– Кто он? – спрашивает бабушка Ксения.
– Ну, кто? Репродуктор!!!
И бабушка Ира засмеялась. Это одно из самых дорогих воспоминаний для меня взрослого. Наряду с теми «студенческими» пирожными, которые мне нравятся до сих пор.
Запомнился вечер. Феноменальный! Мой восьмой день рождения. Каникулы после второго класса. Первый летний выходной. И впереди целая жизнь. Бабушки купили мне пожарную машину. В «Детском мире», что на Лубянке. Выделили через профком бабки Ксении.
Настоящую!..
В длину 72 см. Заводная. Большая. Железная. Тяжёлая. Лестница в три колена. В фарах лампочки. Пока едет – горят. Сирена. Отдельно клаксон. Тугая пружина под кузовом. Два ключа. Первый я потерял через день. Бабушка Ксения, предвидя катастрофу, второй привязала к машине суровой ниткой.
Это было ПОТРЯСАЮЩЕ. Никелированные шары – это смешно! Это несерьёзно! Вот он, Таран, который сокрушит любую оборону! На штурмовой лестнице устроилась всадники с дрессированными конями. Как только оборона была пробита, конница рассыпалась веером, поэскадронно. Вражеская пехота была обречена на поражение.
Господи, Ты же в курсе! Они отдали за эту игрушку половину собственной пенсии, помести их в Рай!..
Подоконники в комнате у бабки Ксении мраморные, сейчас я прикидываю, ширина около метра, но вспоминается, что больше. Левое окно заставлено фикусами, кактусами и трёхлитровыми банками, где готовится удивительный напиток – гриб. Вкуснее только грушевый лимонад. Но дюшес по праздникам, а гриб – каждое утро.
Каждое утро я выпиваю чашку. Бабки тоже пьют. Каждая по чашке. Больше нельзя. Гриб погибнет. Но это не всё. Когда смотришь на него, надо думать о хорошем. Иначе тоже погибнет. Надо же, какое дело… Этого нельзя, того нельзя… Я смотрю на гриб и снова думаю о шарах с кровати бабушки Иры, когда она умрёт. Удивительная штука – детство…
А правый подоконник отдали мне! Нет, вы можете такое представить?!
Мраморная поверхность, длиною в окно и шириной в мир. Мрамор помнит 1905 год. По крайней мере, эта дата выбита на клейме газовой колонки в ванной комнате. Собственно, читать меня научили рано, лет в пять. Но читать я научился на этом подоконнике.
Летние каникулы будут продолжаться с первого класса по пятый. В шестом маму повысят до приёмщицы в химчистке, и она родит мне младшего братика Дмитрия от папы, который пересядет с грузовика на такси.
Структура жизни качественно уплотнится, и после шестого меня сошлют в пионерлагерь, и я, что называется, почувствую разницу. Детство закончится. Меня переведут в отроки…
…Я отрываю глаза от книжки и смотрю вбок, на своё отражение. Оно неподвижно, и сразу за ним глубоко внизу по Лялину задребезжала трамвайная трель, рассыпаясь на искры и приглашая меня в мир больших, непонятных взрослых…
…Но каникулы всё ещё длятся, время не вышло, и я вижу, повернув голову, на сопливом уровне моего носа рыжие фонари, голубые искры и бесконечные линии проводов…

Наталья Лешукова
Будем жить
Одеяйся светом яко ризою…
(Пс. 103, 2)

Мне очень хочется зареветь и закричать изо всех сил: «Никуда не поеду!» Но мама так тревожно смотрит на меня, что моё сердце вдруг заходится. Крик остался где-то у меня внутри. И я думаю о том, почему это случилось с мамой…
Она, такая красивая и милая, стала чем-то похожа на бабушку Валю, нашу соседку. И плечи опустились, и даже ростом стала меньше… Но ведь мама совсем не старушка! Так зачем же она крутит и крутит пальцами пуговку, которая и так вот-вот оторвётся – держится на одной нитке…
И какая же она уже старенькая, эта её вязаная кофточка… У мамы совсем мало одежды. Сколько себя помню, и зимой и летом ходит она в длинной и узкой серой юбке. Только летом меняет тёплую кофточку на тонкую в цветочек. Серая юбка маме идёт, но как же мне хочется, чтобы у мамы была бы ещё и пышная юбка в сборку, как у её подруги тёти Оли. Зато у мамы есть очень красивая шаль, мягкая и пушистая. Но она надевает её очень редко. Бережёт… Это подарок папы.
Папа пропал из нашей жизни, когда мне было три с половиной года, и с тех пор я его не видела… А я так скучаю и жду его каждый день. Мама говорила, что у него теперь новая семья, но я почему-то не верю… Как можно взять и завести другую семью, если семья уже есть? Может быть, в его сердце попал осколок кривого зеркала? И он, словно Кай, про всё забыл? А вдруг он сильно-сильно заболел и просто не желает, чтобы мы с ним мучились? От этих мыслей хочется плакать. Потому что очень жалко маму… Она расстроится. А ей нельзя.
И я покорно подставляю голову, через которую мама натягивает трикотажное платьице с ярким рисунком. Но разноцветные ромбики и полосочки какие-то «взрослые», ведь это платье мама перешила мне из длинного свитера, который отдала ей тётя Оля. Вообще-то я умею одеваться. Но маме нравится делать это самой, хотя я уже большая девочка… Я не возражаю – у мамы такие нежные руки. Я усаживаюсь на край скрипучего дивана, а мама становится передо мной на колени, чтобы надеть мне туфельки.
Они куплены на вырост. Мама всегда экономит на одежде, считая, что лучше потратить деньги на книжки, игрушки и полезную еду. А снисходительным продавщицам говорит, что я расту не по дням, а по часам. И это правда. В этом году осенью я пойду в школу. Ой, скорей бы! Я уже умею читать по слогам и считаю до десяти, а все сказки Пушкина почти наизусть знаю. А вчера я так нарисовала в альбоме соседских котиков Ричика и Мурзика, что все говорили: «Как похожи!»
Я улыбаюсь, но тут же вспоминаю, что сегодня мы надолго расстанемся с мамой… А вдруг, если ещё раз хорошо-хорошо попросить её, она передумает и возьмёт меня с собой в больницу?
Мама стряхивает с ресниц непрошеную слезинку и говорит, целуя меня:
– Шурочка, пойми: деток в твоём возрасте никто не оставляет одних. И в мою больницу тебя не пустят. Обо мне не волнуйся: тётя Оля мне поможет, ты ведь знаешь, какая она добрая.
А тётя Агафья уже ждёт тебя. Я ведь рассказывала тебе, как хорошо летом в деревне…
Я вспоминаю мамины рассказы о сельской жизни и немного успокаиваюсь. Вчера, за чаем, она так славно всё описала, что мне даже захотелось ехать… Но всё равно с мамой расставаться так не хочется… И я на всякий случай шмыгаю носом и вдруг говорю:
– А тётя Агафья – она какая? Страшная? Как Баба-яга?
Мама прячет улыбку и строго выговаривает мне:
– Нельзя говорить про людей плохо, тем более если их не знаешь. А вот тётя Агафья хорошо тебя помнит. Мы гостили у неё, когда ты была ещё совсем маленькая. И вы очень подружились. Никакая она не страшная. А очень добрая и хорошая. Зовут её все ласково – тётя Агаша. Сама она к нам приехать не сможет: хозяйство у неё большое: корова, утки, курочки, огород. Трое её детей уже давно взрослые и живут далеко. И маму свою навещают, увы, нечасто…
Я не успела подумать о том, как это печально. Прозвучала команда:
– Выходим! Не опоздать бы на электричку. Так что не отставай.
Входная дверь громко захлопывается за нами. Я вздрагиваю: что же со мною теперь будет?
Двери лифта плавно раздвигаются – мама пропускает меня вперёд, вслед проталкивает большую клетчатую сумку на колёсиках.
– Как хорошо дышится! – бодро говорит мама, когда мы выходим из подъезда.
И мы вдыхаем упоительный утренний воздух. А я вдруг чувствую её затаённую печаль. Её страх перед болезнью. Но отвечаю не менее бодро:
– И вообще всё будет хорошо.
Брошеные дети рано учатся чувствовать и понимать то, что порой стоит за бодрыми словами.
Начало июня, а в сквере у дома ещё цветёт поздняя сирень и удивляют горожан огромные соцветия-свечки невесть откуда завезённых в наш северный город каштанов. Но сегодня гулять среди этой красоты нет времени – мы с мамой спешим к метро. Надо успеть на первую электричку в Серафимовку.
В электричке душно, жарко и суетно. И так много желающих продать самые лучшие в мире часы, носки, книжки, открытки… Почти все отворачиваются от артистов, которые поют красивые песни или просто играют на аккордеоне, а некоторые делают вид, что совсем их не замечают. А мне отчего-то жаль этих чудаков – они всеми силами стараются понравиться, а в глазах у них тоска и боль. И я радуюсь, когда мама даёт мне монетку и глазами показывает, что надо отдать её очередному артисту… Хотя и немного стесняюсь.
Через некоторое время я начинаю дремать, положив голову на мамины колени. Мне уютно и хорошо. И ничуть не мешают шум, разговоры и чей-то смех… На душе спокойно. Вот так бы ехала и ехала бесконечно. Только вот все путешествия, и большие, и маленькие, когда-нибудь заканчиваются. Зато потом начинаются новые…
– Просыпайся, дочь! Приехали! – вдруг доносится словно издалека мамин голос.
Я поднимаю голову с её коленей и не сразу понимаю, где я.
А мама уже призывно машет рукой, глядя в запылённое стекло, и говорит мне:
– Смотри, тётя Агаша уже нас ждёт.
Мы выходим на перрон. Солнце брызжет лучами во все стороны. И меня сразу охватывает восторг. Рядом настоящий лес! Совсем не дремучий, а весёлый! А с другой стороны такие интересные и разные дома: и маленькие, из брёвен, словно в сказке, и большие, за красивыми заборами… И я никогда ещё не видела столько цветущих деревьев, только в книжках. От их запаха сладко закружилась голова. А под ними ещё и разноцветные ирисы, и ещё какие-то неведомые мне цветы. Мне вдруг вспомнился домик старушки-садовницы из сказки о Снежной королеве…
Восторг сменяется тревогой. Я вспоминаю, что у мамы всего десять минут на прощание. И электричка увезёт её обратно в город… А мама уже торопится навстречу двинувшейся к нам высокой пожилой женщине в цветастом платке. Одной рукой она катит сумку, другой – крепко сжимает мою ладошку.
– Добрый день, тётя Агафья! – чуть виновато говорит мама, остановившись и слегка подталкивая меня к ней. – Вот моя Шурка.
От пристального взгляда у меня вдруг забегали по спине мурашки. Я пытаюсь спрятаться за мамину спину, но она быстро возвращает меня на место и бережно подталкивает к тётушке Агафье. Руки у неё крепкие и сильные – они сразу обхватывают мои плечи. Не вырваться! И я покоряюсь.
– Не беспокойся, Наденька, – неожиданно ласково говорит тётя Агафья. – Я позабочусь о девочке. Всё будет хорошо. Буду за тебя молиться Николаю Угоднику да святителю Луке. И ты молись! Вот принесла тебе иконку… Это святые Вера, Надежда и Любовь. Они твои небесные заступницы. Проси их помощи, чтобы укрепил Господь руки врачей.
Мама смущается:
– Да я вроде как маловерная. И молиться не умею совсем – не научена… Спасибо. Знаю, что ты не обидишь мою девочку. А мне уже пора обратно. Вы идите, идите…
Мама резко отворачивается и вытирает платком намокшие глаза. Я обнимаю маму, стараясь за эти краткие мгновения впитать каждой клеточкой своего тела как можно больше её тепла.
Тётя Агафья властно забирает меня у мамы, но не двигается с места, пока не тронулась мамина электричка. И мы вместе с нею машем руками вслед.
– Ну что, идём? – говорит тётя Агафья. – Не бойся, я только с виду страшная. Осилим два километра до нашего села?
Она берёт сумку с моими вещами и ведёт меня по серой дороге с трещинами. Маленький пристанционный посёлок вскоре остаётся позади. Никогда не думала, что это так красиво, когда в траве много цветов. Названия многих из них я знаю: клевер, мышиный горошек, ромашки… Но больше всего на обочинах высоких, похожих на зонтики белых соцветий. От них исходит приятный сладковатый аромат, от которого чуть кружится голова. Агафья кивает в сторону зарослей:
– Глянь-ка, сколько сныти ныне наросло. Не знала про такую травушку? Так знай: сныть-трава очень полезна для здоровья. У нас, да и вообще на всей Руси, её издавна и квасили, и солили, и сушили впрок. А какие вкусные щи из свежей сныти! Ныне люди забыли про пользу сныти, за сорняк её принимают, а зря. Знаешь батюшку Серафима?
Я радуюсь, что могла ответить утвердительно. Мама недавно про него рассказывала. И картинки в книжечке показывала. Батюшка старенький, сгорбленный, а глаза такие детские-детские и ласковые, словно голубые озёра…
– Батюшка Серафим только ею, снытью, и питался, – сказала тетя Агафья, – и радостный был всегда. Подрастёшь, я тебя научу суп из сныти варить – за две щеки уплетать будешь и радоваться. Ты у меня без дела не заскучаешь: будем и стряпать, и шить, и грядки полоть. Чего не знаешь – научу. У меня хозяйство большое. И курочки есть, и гуси, и коровушка дойная. Молочко у неё сладкое, что мёд.
Два километра – это оказалось не так уж далеко, особенно когда есть с кем поговорить. А тётя Агафья знает столько всего интересного… И вот мы уже идём по тенистым сельским улочкам, засыпанным мелкими камушками, и мне нравится ощущать их под ногами и даже слегка пинать те, что покрупнее. При этом я успеваю разглядывать сельские дворы, и мне уже не терпится поскорее увидеть незнакомый дом, в котором предстоит провести много дней.
– А вот и наш дом, – неожиданно говорит тётя Агафья, сворачивая на дорожку, что ведёт к зелёной калитке, возле которой красуются две невысокие берёзки. Дом с синими ставнями и резными наличниками выглядывает из-за них почти так же, как на картинке из моей самой любимой и самой толстенькой книжки со сказками. И дорожка к нему такая чудная – из дощечек, вдоль которых цветут в траве одуванчики и ещё какие-то синие и розовые мелкие цветочки. А над ними порхают белые бабочки и гудят шмели. Тётя Агафья первой поднимается на ступеньки крыльца и открывает дверь со словами:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































