Текст книги "Бортнянский"
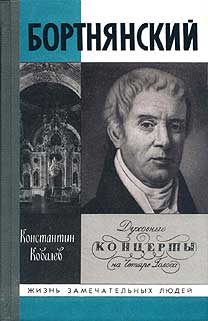
Автор книги: Константин Ковалев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
На статью «Театр» был написан отклик. Автор отклика не поставил своего имени в конце. Решил остаться анонимом. Высказывая, на первый взгляд, противоположную точку зрения на оперу и итальянскую музыку, автор отклика на самом деле – тоже горячий поклонник отечественного искусства. Он ратует за развитие национального музыкального театра. Он не отрицает достижений русских музыкантов. Высказывая свою, в общем-то иную, но не противоположную по сути Плавильщикову точку зрения, он пишет:
«Вы хотите непременно Россию записать в музыканты и руки, собирающие лавры, украсить балалайкою. На что ей такой шутовской наряд?..
Итальянцы говорят, что в русской музыке нет ничего привлекательного. Вот это уже непростительно! Какое жестокое ухо, слыша каждый день по улицам песни извозчиков, не может приучить себя к согласию здешнего напева, – иному бы это всю душу расщекотало...
Приторная сладость, которую вы упрекаете итальянской музыке, не есть порок ее существенный, но дурных музыкантов, так точно, как дурные стихотворцы не означают недостаток языка, но бедность умов. В устах этих переторговщиков все высокое делается надутым, забавное низким, сладкое приторным».
Плавильщиков не оставил анонимный отзыв на свою статью без отклика. Продолжая тему, он писал ответчику:
«Российский народ, благодаря Всевышнему, во основании души своей имеет ко всему непостижимую способность... это ему написано в книге судеб. Рассмотрите сами себя прилежнее, вы увидите, что я говорю правду... Наша музыка имеет свою унылость и свою веселость... Извольте купить собрание русских песен и попросите кого-нибудь, чтобы вам их спели, и вы уверитесь, несомненно, что наша музыка по различию обстоятельств имеет различную и верную свойственность...
Если же позволено выводить следствия из несомненных начал, то я осмеливаюсь угадывать, что из припасов русской музыки искусный сочинитель, хотя бы он и у итальянцев научился правилам согласия, без всякого чуда может создать язык сердца».
Свое мнение об опере высказывал и баснописец И. А. Крылов, перу которого принадлежали многочисленные оперные либретто, в том числе и знаменитые «Американцы», положенные на музыку Евстигнеем Фоминым. «Я отваживался бы выслушать приговор просвещенной публики, – писал Крылов, – которой одной автор оставляет назначить истинную цену сочинения, я выбрал театр своим судилищем, публику – судьею... Конечно, в публике могут быть зрители, которым всякое действие кажется на выворот, но таким ничем уже угодить не можно, и лучше стараться угождать прямым знатокам, нежели людям, которые для того только почитают себя знатоками, что ездят всякий день в театр раскланиваться со своими знакомыми...» В одном из писем он советовал обладавшей прекрасным голосом В. А. Олениной – внучке М. Ф. Полторацкого, той самой Олениной, которой Дмитрий Степанович преподнес свой «Сборник романсов и песен» с дарственной надписью «Offert par Bortniansky am-lle Barbe d’Olеnine»1: «Вы можете петь очень приятно, лишь бы не погнались за большими крикливыми ариями, где часто больше шуму, нежели чувства, и видна одна претензия на превосходство, которая всегда вооружает слушателя на певца, если это не первейший талант».
Некий неизвестный в «Сатирическом вестнике» за 1790 год обрушился с критикой на распространяемые повсеместно частные оперные театры, видя в этом одни лишь убытки. «Склонность к театру и представлениям весьма возросла в здешних жителях. Некоторый род особенного честолюбия, или лучше сказать особенной склонности промотаться, заставляет людей чиновных и богатых объявлять себя открытыми врагами публичного театра... Многие, потратя деньги на заведение всех принадлежностей к театру, тогда, когда еще нашлись только в состоянии забавлять в доме своем жителей операми, услышали уже вопль разоряемых крестьян... Некоторые слабоумные сельские дворяне, заслыша издалека о гремящей славе театра какого-нибудь знатного человека, приезжают также сюда принимать уроки расточения. Сии дворяне не только проживают на сие все доселе скопленные ими деньги, но и много накапливают на себя долгов...»
Ему вторил анонимный же баснописец в журнале «Утра, еженедельное издание...», который с иронией восклицал:
Имение свое ты гнусно промотал,
Ты Музыкантом стал,
О стыд для дворянина!
И далее советовал:
Ему пят сот душ я дарю,
Но с тем, чтоб более он глупостей не делал,
На скрипке б никого обедать он не звал,
Из Музыканта бы опять Балбес он стал...
Много и постоянно писал и думал об опере Гаврила Романович Державин. Он глубоко и аргументированно выступил в защиту оперы как жанра, способного поднять русский театр на новые высоты. В одном из своих писем, найденных нами в архивах, он полемизировал с немецкими эстетиками, неодобрительно отзывающимися о европейской опере.
«Господа эстетики, к удивлению моему, при свойственной им глубокой ко всяким мелочам учености, слушали итальянскую большую оперу и шутливую французскую большую и малую вместе; шутливая или лутше сказать шутовская опера итальянцев, за исключением малого числа сочинений... ни на что не походит; красота музыки постороннее, но единственное ее достоинство. Не различать сей оперы от большой тоже, что почитать сказку за историю. Большая французская опера родится в чудесный век Лудовика 14-аго. Сама исполнилась чудесностей и заимствовала содержание свое из мифологии и поетических сказок. Но итальянской чудесности сей не одобряют и в своих операх не терпят. Они утверждают про свою оперу, что она возобновленная и усовершенствованная трагедией греков, ссылаясь на прекрасные лирико-драматические сочинения знаменитых Зения (Апостоло Дзено. – К.К.) и Метастазия, в которых строго соблюдены все правила древних...
Итальянцы ограничивают единство сцены пространством, подлежащим взору зрителей, так чтобы новые сцены являлись их взору единым образом, преграждающим зрение предметами, и утверждают, что ограниченные таким образом перемены сцены менее оскорбляют истину...
Итальянцы еще успешнее защищают введенную ими перемену в размещении хоров. Но как сие более относится к успехам музыки, нежели поезии, то я оправданий их здесь не помещаю.
В заключение скажу, что немецкие эстетики никогда видно со вниманием Метастазиевых опер не читали. Иначе не могли бы так нелепо о италианской опере судить. Часто, конечно, очень часто в Италии в театре зевают, говорят, едят мороженое и пьют лимонад, но многие на то есть и достаточные причины. Возьмем в пример одну из лутчих опер Метастазия. Будь и музыка соответствующая, выйди на сцену Фемистокл или Ораций. Победитель персов, спасая римлян, запоет бабьим голоском, и все вероподобие представления... исчезло. Вторыя лица обыкновенно действуются такими же кастратами. Их неподвижность, неловкость, огромные туши действительно отвратительны. Прибавьте, что вообще все оперные актеры учились только музыке, а действовать на театре вовсе не умеют. Прибавьте, что голосом и знанием музыки первые только три лица – Soprano, Prima donna, Tenor – отличаются, а все протчия лицы самыя плохия. Прибавьте, что в Италии одну оперу играют тридцать раз кряду, и вы согласитесь, что как бы она ни была хороша, при таком представлении позволительно вздремнуть, а при долгом не грех и без просыпу спать...»
Державин не только защищал, но и разумно критиковал западноевропейский музыкальный театр. Тонко анализируя оперу в целом и, в частности, отечественную оперу, он позднее придет к знаменательному выводу. Он напишет: «Ничем так не поражается ум народа и не направляется к одной мете правительства своего, как таковыми приманчивыми зрелищами. Вот тонкость политики ареопага (правительства. – К.К.) и истинное поприще оперы. Нигде не можно лучше и пристойнее воспевать высокие сильные оды препровожденные арфою, в бессмертную память героев отечества... как в опере на театре».
И, словно подытоживая тернистый путь российской оперы в XVIII столетии, Державин подчеркнет: «Долгое время опера была забавою только дворов, и то единственно при торжественных случаях, но как бы то ни было, ныне уже стала народною».
Диспуты Державина и Бортнянского, не всегда сходившихся во мнениях, наконец вылились в их творческое единство. Они выступили с совместным произведением, где и слова, и музыка обладали достоинствами, не позволявшими умалить друг друга.
Как-то в Строгановском дворце, что стоял на Невском проспекте у Мойки, случился грандиозный пожар. Вечера у мецената на время отложились. Пока восстанавливали здание, Гаврила Романович предложил Бортнянскому написать поздравительную кантату в честь их общего друга и в честь обновленного дворца искусств. Через две недели текст ее был готов, а чуть позднее Дмитрий Степанович принес поэту готовые ноты. Когда в 1791 году в перестроенном по проекту А. Н. Воронихина здании собрались именитые российские музыканты, художники и писатели, чтобы отметить юбилей хозяина, их встретили звуки оркестра. Так была впервые исполнена «Песнь дому любящего науки и художества».
Ныне Дмитрий Степанович чувствовал, что находит вкус в сочинении музыки на известные поэтические тексты. Песни и гимны сыплются из-под его пера как из рога изобилия. Он сближается с именитыми российскими поэтами – М. М. Херасковым и князем Ю. А. Нелединским-Мелецким. Такое содружество обещало рождение ряда интереснейших произведений. Бортнянский пишет их, вот-вот закончит. Но события, последовавшие затем, вновь резко меняют его жизнь...
Ссоры Павла Петровича с супругой, сначала едва заметные, а затем все более явные и продолжительные, стали основной причиной распада собранного ею артистического кружка. Тем, кто был удостоен милости великой княгини, вскоре пришлось покинуть двор наследника. В их числе был и Лафермьер. Бортнянский, который всегда стоял как бы в стороне от интриг, связанных с семейными размолвками наследника престола, избежал его гнева (и даже позднее – когда пытался вступиться за опального Суворова, что могло грозить крушением всей карьеры). Но течение музыкальной жизни в Павловске было нарушено. Уже никто не заказывал композитору опер. Павел, вконец ушедший в военное дело, и думать не хотел о казавшейся ему в то время невыносимой слащавости музыкальных спектаклей в узком «семейном» кругу. Но и тут сыграла свою роль музыка Бортнянского. Одним из популярнейших военных маршей того времени, под который вышагивали павловские гренадеры, стал так называемый «Гатчинский», написанный Дмитрием Степановичем по заказу Павла...
Мария Федоровна, оказавшись в некоторой изоляции, пребывала в крайнем огорчении, оттого что ее музыкальный наставник редко стал бывать в Павловске. Натянутые отношения с супругом не мешали ей время от времени устраивать для себя в летнюю пору музыкальные вечера. Чтобы как-то вынудить композитора почаще бывать в резиденции, она придумывает для него сюрприз-ловушку, в конечном счете связавшую его по рукам и ногам.
Во время очередного приема при «малом» дворе секретарь Марии Федоровны Г. И. Вилламов передал Бортнянскому свернутый в трубочку, перевязанный лентой с печатью на конце документ. Дмитрий Степанович был крайне взволнован, Иван Михайлович Долгорукий, бывший тут по случаю, даже подошел к нему и взял его под руку. Естественно, ведь таким образом обычно запечатывались отнюдь не частные записки или письма, а указы или постановления великокняжеской семьи. Дмитрий Степанович ничего не знал о бумаге, неожиданность его и смутила.
– Что сие означает? – удивленно спросил он.
Вилламов лишь загадочно улыбнулся и пожал плечами.
– Указы Их Высочества, как вам ведомо, я вручаю лично в руки. Соблаговолите прочесть.
– Что-нибудь произошло? – Бортнянский хорошо знал переменчивые нравы двора.
– Прочтите скорее, для вас новости приятные. – Вилламов дружески потрепал композитора за локоть и откланялся.
Иван Михайлович помог Бортнянскому развернуть свиток, в котором, кроме всего прочего, они прочли:
«Жалованная грамота на участок земли в Павловске...
Объявляем всем и каждому, что в Павловске нашем жалуем сим нашему Дмитрию Бортнянскому место,.. как ему, так и наследникам его в вечное и потомственное владение без платежа за сие подати, поборов или откупу. Дозволяем ему поступать с оным по своей воле: продавать, дарить и закладывать кому заблагорассудит; предоставляя мы себе только, в сем случае, право покупки или выкупа онаго, так как и всего на оном месте построеннаго предпочтительно перед всеми, на тех же самых условиях, на каковых оное сим Бортнянским другому кому уступаемо будет и сие право, при всякой перемене владельца, существовать имеет. А для сего всякой владелец, в случае продажи и уступки оной, повинен дать нам о сем наперед знать. В чем же полагая ему в пользовании сим имением никакой иной обязанности, как поступать во всем по государственным узаконениям и ничего такого не предпринимать и не дозволять другому делать, чтобы доброму порядку и благочинию противно или бы соседям предосудительно было...»
Так на высоком берегу речки Славянки, прямо напротив павловской крепости Бип, Дмитрий Степанович получил участок земли с домом, где он мог отныне жить постоянно или хотя бы летом. Никогда не имевший в собственности каких-либо поместий, всегда в официальных анкетах на вопрос «сколько имеете во владении мужескаго душ людей крестьян» отвечавший «не имею» композитор превратился в хозяина «дачи». Его новый приятель, граф Д. И. Хвостов, не преминул воспеть событие в своих стихах – «Д. С. Бортнянскому, на прекрасный его домик в Павловске»:
Ты, Орфей реки Невы!
Посреди людской молвы,
При обители фортуны,
Взяв священной арфы струны,
Весел в садике своем.
О Суворове хлопочешь
И душой усердной хочешь,
Чтоб он буйства сверг ярем.
Событие, конечно, было знаменательным, но у порога стояли уже более серьезные перемены. Несмотря на возраст – он только что отметил свое сорокапятилетие, – композитор полон юношеской энергии. В его густой, эффектно откинутой назад шевелюре все более приметны седые пряди, придающие лицу чуть бледноватый, но благородный и утонченный оттенок...
К осени 1796 года мытарства Бортнянского по службе возросли еще более. Казалось, что никогда уже не будет конца беготне и постоянной суете, которая окружала его со всех сторон. Тем паче не хватало времени для творческой работы. Одолевали заботы по петербургским делам, по благоустройству павловской дачи. Они отнимали и время, и средства. Денег недоставало, чтобы содержать возросшее хозяйство, они словно испарялись сразу же после получения жалованья придворного капельмейстера. Кроме всего прочего, он явно ощущал некий творческий застой. Как-то ничего не писалось, а вместе с прочими обстоятельствами и делами это угнетало все сильней. Ведь прошло почти двадцать лет после возвращения из Италии. А с тех пор он так и остался в низшей музыкальной должности при «малом» дворе. Чтобы продвигаться по службе, нужно было бы на долгое время оставить музыку совсем, ибо придворные заботы и хлопоты занимали все внимание и время. Но Бортнянский не умел так жить. И от перипетий придворной жизни он также давно отошел. Притом опасны были светские «игры» в это время. Во всем проявлялось предчувствие скорых перемен.
В октябре из Петербурга в Гатчину пришла неожиданная весть: императрица Екатерина тяжело больна. «Большой» и «малый» двор затаились. В первых числах ноября срочная депеша была доставлена прямо в личные покои Павла Петровича. В ней сообщалось, что государыня лежит при смерти и уже несколько дней не приходит в сознание. Прочитав письмо, наследник впал в странное состояние. Еще никто не видел его таким – бледным, резким и неразговорчивым. В тот же день вместе с Марией Федоровной он выехал в Петербург. 6 ноября 1796 года императрица скончалась в присутствии наследной четы. Весь этот день Павел никого не принимал и ни с кем не разговаривал. Как замечали те, кто знал его близко (заметил это и Иван Михайлович), со следующего утра что-то произошло в его поведении и психике. Его дела и поступки обрели черты той решительности и вспыльчивости, того безоговорочного упорства, которые четыре года спустя его погубили.
В последующие – не годы, а дни – многие бывшие друзья и приближенные нового российского императора неожиданно получили важные государственные должности, а также крупные вознаграждения. Среди них были бездарные проходимцы. Но были и талантливые люди, вошедшие в анналы русской истории.
8 ноября вызванный через графа Безбородко в царские покои статский советник Николай Александрович Львов (тот самый Львов, который издал «Полное собрание Русских песен с их голосами», гармонизированные в опере «Ямщики на подставе» Евстигнеем Фоминым) получил важное, строго секретное поручение – отправиться в Москву, в Успенский собор Кремля, и вывезти оттуда все необходимые регалии для обряда венчания на царство. По сию пору ничего подобного не бывало. Регалии всегда хранились в Успенском соборе. Да и обряд венчания на царство производился только там, за стенами священного Кремля, в древней русской столице.
У Павла имелся на этот счет свой замысел, в который были посвящены лишь избранные. Он собирался совершить обряд возложения императорской короны на... останки убиенного три с лишним десятилетия назад и не успевшего короноваться отца, мужа Екатерины – Петра III. Как бы восстанавливая попранную справедливость, Павел вместе с тем демонстрировал свою волю: больше не должно быть в России бунтовщиков-самозванцев наподобие Емельяна Пугачева.
Обряд – священное дело. Он должен производиться по установленным обычаям и правилам. Значит, должна была состояться церковная служба – естественно, с пением. Задуманное действо должно было потрясти всех. Павел тотчас вспомнил о Придворной певческой капелле. Песнопения при возложении царских регалий должен исполнять лучший в империи хор.
Наследник потребовал к себе директора капеллы. Но такового не оказалось. Доложили, что после смерти Марка Федоровича Полторацкого вот уже полтора года на этой должности никого нет. Покойная императрица не успела решить: поставить ли управлять капеллой итальянца или же выбрать кого-либо из отечественных музыкантов?
Павел разрешил дело, как говорится, в один присест. На пятый день своего правления он подписывает «Указ нашей придворной конторе». Текст указа был лаконичен:
«Коллежскому советнику1Дмитрию Бортнянскому, поручив в управление хор придворных наших певчих, повелеваем производить ему из придворной конторы жалованье и все то содержание, какое имел предместник его действительный статский советник Марко Полторацкий». В указе Бортнянский был уже назван коллежским советником, а не асессором, так как в этот же день, 11 ноября, он получил и новый чин.
Через неделю по прибытии Львова из Москвы на кладбище Александро-Невской лавры была раскрыта могила, из которой извлекли останки императора Петра III. Еще неделю спустя —25 ноября – приведенные в мало-мальски приличный вид, уложенные в гроб, они были поставлены в монастырском соборе. В торжественной обстановке, в присутствии не слишком широкого круга лиц совершился необычный церемониал возложения императорской короны на череп мертвеца. И наконец еще через неделю теперь уже гроб с венчанным императором был перевезен в Зимний дворец и поставлен бок о бок с гробом, где уже почти месяц лежало тело Екатерины. Так вновь «встретились» бывшие муж и жена, император и императрица, жертва и убийца.
Декабря 5-го дня состоялось отпевание покойных. Хор Придворной певческой капеллы пел «Панихиду», сочиненную к сему случаю Дмитрием Степановичем Бортнянским. Это стало первым «экзаменом» композитора на новом посту...
С этих пор пути Бортнянского и Ивана Михайловича Долгорукого понемногу разошлись. Иван Михайлович был облагодетельствован немного ранее. Получив должность вице-губернатора в Пензе, а затем – губернатора во Владимире, он ушел в иные хлопоты и не всегда уже мог заниматься своими литературными упражнениями постоянно. Когда же он возвращался к ведению записей, имя композитора, сыгравшего такую важную роль в судьбе князя, уже было для него где-то в далеких закоулках памяти, в полузабытой, но счастливой и исполненной радужных надежд юношеской поре... К счастью, его память хранила множество подробностей, которые и позволяют проследить как бы страницу за страницей немаловажной главы в истории жизни Дмитрия Степановича Бортнянского.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































