Текст книги "Бортнянский"
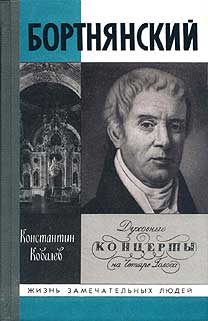
Автор книги: Константин Ковалев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
«Петергоф, 2 июля:
По получении сего письма вы немедленно отправитесь в Царское Село и уговоритесь, чтобы попросить часть зеленых фонарей у Бецкаго, другую у Стрекалова, третью у Чернышева...»
«Гатчина, 6-го июля:
Настоятельно необходимо переговорить с вами о тысяче вещей для праздника, особенно об убранстве итальянской залы, так как мне кажется, вы не хорошо меня поняли...»
«Гатчина, 8-го июля:
Продолжайте приготовления для театра, потом мы будем делать репетиции и до тех пор, пока не достигнем совершенства. Необходимо во что бы то ни стало поставить в оркестр клавикорды: взять их из Шарбоньера...»
«Гатчина, 8-го июля:
Я приказала привезти из города цветочныя гирлянды, которыми как-то раз был убран большой зал на Каменном острове еще до нас, и думаю, что эти же самыя гирлянды могут послужить для украшения театральной залы. Можно их приподнять красивыми бантами из цветной бумаги. Я думаю, что нам удастся украсить эти залы, почти ничего на них не потратив...»
Получилось, что не столько театр давал представления для павловских зрителей, сколько все окружение наследника играло в театр. Каждый новый спектакль был событием, менявшим привычный уклад жизни. В этом смысле Бортнянский превращался на время в дирижера павловского быта. Под его музыку, или, по пословице, под его дудку, в прямом смысле слова, «плясали» придворные, невзирая на чины, положения и звания.
Все основные артистические силы двора участвовали и в «Празднестве сеньора». Каждый играл как бы самого себя. Ивану Михайловичу досталась роль де ля Жаннотьера, депутата, выбранного деревней для встречи господина. Ну и посмешил же князь именитую публику, особенно в том месте, когда его герой разучивал менуэт, но никак не мог толком сделать реверанс и одновременно снять шляпу и поклониться. И все это было проделано Иваном Михайловичем с особой изящной неуклюжестью и ловкостью, так, что сам сеньор – великий князь смеялся до слез. Князь Голицын ловко спародировал павловского садовника Григория Ломакина – всегда пьяного и надоедливого в многочисленных и постоянных рассказах о своих давнишних боевых заслугах. «Отставной солдат Грегуар», спевший гимн своей шпаге, стал поистине любимцем публики.
Непринужденно была разыграна вся комедия. По сюжету Бабетта любит Люка, Аннета – Любена. Все преграды рушатся на пути к их счастью, которое сливается в общий праздник, связанный с приездом сеньора. Сам же «господин» не появлялся на сцене, ведь он сидел в зале в первом ряду, бок о бок с Марией Федоровной, и благосклонно внимал своим приближенным. Все задуманное удалось на славу: и песенка Перетты с поздравлениями великому князю, и угловатые реверансы де ля Жаннотьера, и советы для новобрачных Перлажуа, поставившего в пример всем семейное благополучие самого «сеньора», и грубоватая песнь Грегуара. А танцы в конце – разве не вызвали они всеобщего восторга и не заставили именинника вновь смеяться от души. Воистину вечер был прекрасен...
«Сверх роли в драме мне дали и в опере и в балете работу. Во всех искусствах заставили дебютировать: в опере я играл потешного приказчика, а в балете буффу»... – записал Иван Михайлович и, перечитав, удивился скупости своего пера. И впрямь выписать увиденное и пережитое стоило немалых мук.
Лето 1786 года выдалось дождливым. Пришлось уменьшить количество забав и театральных представлений в Павловском парке. Но успех «Празднества сеньора», умелая игра актеров, а главное – дивная музыка вызвали желание испробовать силы участников представления в новой опере, более объемной и сложной. Мария Федоровна обратилась к Лафермьеру с просьбой написать либретто. Уже в июле оно было готово. Тут же была и написана музыка – Бортнянский не заставил долго себя ждать. Оперу назвали «Le Faucon» – «Сокол». Композитору пригодились кое-где мотивы итальянской оперы «Алкид», поставленной прежде в Модене.
В августе дожди не переставали вовсе. В один из таких серых, похожих один на другой дней Мария Федоровна предложила супругу развеять придворную публику чтением новой комедии. Иван Михайлович еще раз уточнил – то было в августе.
Павел Петрович, уже тогда не всегда ладивший с женой, на этот раз любезно согласился. После обеда собрались в кабинете великого князя. Задерживались лишь Лафермьер и граф Чернышев. Наконец они появились оба. Граф, как всегда, элегантный, подтянутый. Тонкие, женственные черты его лица, румянец щек, грива темных волос, светлые глаза выдавали хрупкую, одаренную натуру. Вослед за ним в кабинет вошел автор, в новом сюртуке, в галстуке, завязанном на французский манер. Мария Федоровна указала место графу подле себя, а Лафермьера попросила сесть за пульпет у клавесина, что он тут же и исполнил.
Собравшиеся с любопытством поглядывали друг на друга в предвкушении новой постановки. Павел Петрович сидел в кресле, чуть нахмурившись, и никто не проронил ни слова, зная, что может вызвать его жесткую реплику. Но вот Мария Федоровна сделала знак рукой Лафермьеру, тот не спеша поправил свои пепельные кудри, развернул листы бумаги и приготовился читать.
– Ну что же, господа, – прервала молчание великая княгиня, —по всеобщей просьбе и к нашему удовольствию собрались мы здесь нынче для того, чтобы ознакомиться с новою комедией, имеющей быть поставленной в нашем театре. Господин Лафермьер старанье приложил и написал либретто, а господин Бортнянский уже и музыку приготовил. Не так ли, Дмитрий Степанович?
– Да, Ваше Высочество. Уговор у нас с Францем Германовичем, что я в конце чтения проиграю несколько арий.
– Так тому и быть. Ну и начнем, если на то против нет никаких мнений.
При этих словах все посмотрели в сторону Павла Петровича. Тот, ничего не сказав, лишь кивнул головой.
Лафермьер начал.
В свое время еще М. Седен написал либретто на подобный сюжет для оперы П. Монсиньи. Лафермьер и взял его за основу новой комедии. Сюжет был прост и известен. В одной из глав «Декамерона» в свое время шел рассказ о соколе – любимой птице некоего Федериго дельи Альбериги. Этот же герой, в данном случае – Федерик, попал на страницы либретто павловской оперы. Несчастный юноша воспылал сильной страстью к молодой вдовушке – Эльвире. А его слуга Педро к тому же влюбился с первого взгляда в служанку Эльвиры – Марину. Федерик тратит все свои средства, чтобы обратить на себя внимание Эльвиры. Но та после смерти мужа решает отдать свою жизнь лишь единственной цели – воспитанию сына. Она любит его больше всего на свете: «Я берегу свое состояние только для сына. Я люблю только сына. Он для меня все!» – говорит она.
Огорченный неудачами Федерик думает бросить свою затею и уехать в деревню, где проводить горестные дни в охоте за дичью. Педро тоже уговаривает его забыть «об этих бабенках»:
Нас ждет приют беспечный,
Нас ждет приют беспечный,
К нему без лишних слов.
И в глубине кувшина,
И в глубине кувшина
Утопим мы любовь...
Незаменимым помощником друзьям в деревенской жизни становится прирученный к охоте сокол. Любимец Федерика, он каждый день доставляет ему радость прекрасной куропаткой к обеденному столу.
Но вот Эльвира, удрученная болезнью сына, который привык к Федерику и тоскует без него, особенно без его сокола, предполагает поехать к своему поклоннику в деревню. На этот шаг ее постепенно толкает Марина. Отрицая скучную судьбу вдовы, она произносит панегирик женитьбе:
Кто брак зовет несчастьем,
Тот враг нам, а не друг, —
патетически восклицает юная служанка...
В этом месте Лафермьер на мгновение остановил чтение и взглянул на Марию Федоровну. Та улыбнулась, не скрывая своего удовлетворения. Либреттист знал, о чем пишет. Будучи поверенным тайн великой княгини, он был посвящен в интимные стороны ее жизни, знал о ее размолвках с мужем...
Кто брак зовет несчастьем,
Тот враг нам, а не друг, —
повторил чуть громче Лафермьер. Кроме того, он ловко вплел в сюжет намек на необходимость более «теплого» отношения матери-вдовы (сиречь – «державной императрицы») к сыну (сиречь – Павлу). Обоим супругам угодил...
Федерик, узнав о намерении Эльвиры, обещает ей роскошный обед. Но, как назло, в день приезда дамы ему не удалось добыть никакой дичи. Обед, да и честь самого Федерика попали под угрозу. Единственной мыслью, которая приходит ему в голову в тот момент, была мысль сделать жаркое из любимого сокола. Федерик мечется, мучается перед выбором, но наконец решается. Сокола зажаривают. Эльвира, отведав кушанье, восторженно хвалит его, но когда узнает о том, что, вернее, кто был ей подан на обед, восхищается преданностью Федерика и отвечает на его любовь взаимностью. Тут же соединяют свои сердца Педро и Марина. Кроме двух влюбленных пар, в комедии появляется ряд второстепенных персонажей и среди них, конечно же, так полюбившийся всем солдат Грегуар – садовник, списанный еще графом Чернышевым с натуры для «Празднества сеньора».
– Не правда ли, забавная комедия? – заключила чтение Мария Федоровна. Она заранее знала сюжет и теперь ждала откликов, и в первую очередь – мужа.
Никто не проронил ни слова, все смотрели в сторону кресла, где как бы дремал Павел Петрович. Тот не издал ни звука. Молчание затягивалось. В памяти присутствующих еще были живы картины тягостных для постороннего взгляда сцен, возникавших между властительными супругами, порой по совершенно неожиданным и самым ничтожным поводам.
Павел Петрович будто вздрогнул или очнулся от какого-то забытья. Его состояние мгновенно передалось другим. Лафермьер, побледнев, провел рукой по лицу.
– Не хватит ли опер, дорогая? – медленно произнес Павел.
Пришел черед побледнеть Марии Федоровне. Каждый раз, начиная новую постановку, она боялась подобных вопросов. Все ее старания утихомирить мужа, привлечь его невинными забавами к домашнему уюту, хоть как-то отвлечь от все более поглощавших его время занятий военной муштрой в последние месяцы, казалось, сводились на нет. Что-то происходило в их отношениях. Но что? Женским чутьем княгиня предполагала незримое присутствие между ними другой женщины. Тогда кто же она? Нелидова? Дурнушка, с которой потерявший рассудок наследник проводит вечера в философских и эстетических беседах? Неужели она? Или же иная, имени которой Мария Федоровна не может угадать?
– Все эти спектакли, сударыня, лишь отнимают внимание от более важных дел. Не так ли? – последний вопрос Павел бросил в сторону присутствующих.
Никто не посмел нарушить молчания.
Но тут князь слегка улыбнулся и поднялся с кресла.
– Впрочем, идея «Сокола» не дурна, – обронил он и вышел из кабинета.
Напряжение, царившее все это время, сразу же спало. Мария Федоровна, выдохнув воздух, истерически рассмеялась. Но, овладев собой, пригласила к клавесину Дмитрия Степановича. Тот сыграл арию Федерика из первой части, комический соль-минорный романс Жанетты – дочери Грегуара – «Le beau Tirsis», и заключительный хор, долженствующий быть лейтмотивом ко всей опере. Все были в восторге. Евгения Сергеевна Смирная, не выдержав, расцеловала смущенного композитора под всеобщий смех, невзирая на шутливо грозящий пальчик Ивана Михайловича. Решено было поставить спектакль незамедлительно. Тут же и распределили роли.
Премьера «Сокола» состоялась вскоре – 11 октября 1786 года. Декорации, как и музыка, имели успех. По совету автора «воспользоваться видом Шале» – в них воспроизводился один из уголков Павловского парка.
На первый взгляд легкая опера-буффа сродни появившейся спустя полвека оперетке, обрамленная изящной мелодичной оправой, придававшей ей аромат изысканного, но дорогого антиквариата. Постановка показала предельно виртуозное мастерство русского маэстро, выписавшего отдельные арии и балетные вставки утонченно, скрупулезно и профессионально. Теплота музыки, ее непринужденность, раскованность и даже игривость были легки для восприятия, обладали естественной эмоциональной выразительностью, а законченность формы сделала «Сокола» произведением поистине хрестоматийным. Из Гатчинского театра опера перешла на сцену Павловского. А оттуда – на подмостки многих усадебных театров того времени. Спектакль играли у Апраксиных, Орловых-Давыдовых, Шуваловых. В многочисленных списках расходилась партитура оперы, и стало даже модным держать в томе тисненный золотом и обтянутый кожей нотный альбом с автографом «Сокола»...
«Le Faucon» понравилась их высочествам, – записывал Иван Михайлович, – и действительно была затейлива, вся в тогдашнем вкусе, то есть очень романтическая, довольно велика и состояла из трех действий. Музыку для нее сочинил г. Бортнянский превосходную.
Итак, вытвердили мы оперу; зрелище было прекраснейшее, я сам имел ролю не важную; первые играли Смирная и Вадковский, камергер... Представление удалось, и несколько раз было повторено с большим удовольствием...»
Именно в те дни восхищенный Иван Михайлович сделал предложение актрисе Смирной и, о счастье! получил согласие. Ах, что за дни! Князь взглянул на два портрета, висевшие перед его столом. На одном был изображен он сам, юный, а рядом – княгиня Долгорукая, тогда еще тоже молодая, семнадцатилетняя, блистательная актриса.
«Смирная была понятна и училась хорошо; войдя в возраст, в ней открылись дарования превосходные: она прекрасно пела, танцевала, играла на арфе и к театральному выражению, то есть к декламации, была очень склонна. Собою не хороша, но миловидна, мала ростом, но стройна.
В этой опере Смирная отличалась чрезвычайно, она выказала мастерское знание театрального искусства, и голос ее нежностью своей производил чудеса...»
Ивану Михайловичу снова пригрезилось, как зимою, в метель мчались они в свадебной карете, как вдвоем выступали они в петербургских театрах, и перо само собой застрочило далее.
«В эту зиму я очень развлечен был. Кроме театра придворного, я продолжал играть... Вдобавок я собрался сам сочинить маленькую оперу, которую разыграли в доме гр. Пушкина1... Сочинение неважное, но для безделки искусства большого не надобно, и я с изрядным успехом выплелся из дерзкого предприятия быть сочинителем. Тут играли трое нас Долгоруковых...» Иван Михайлович даже и не заметил, как наряду со своей меньшой сестрой и Смирную уже назвал своей фамилией...
Ровно через год после «Сокола» – 11 октября 1787 года – в стенах увенчанного на крыше голубкой Павловского театра прозвучала новая и последняя из «французских» опер Дмитрия Степановича Бортнянского «Le Fils-rival, ou la Moderne Stratonicе» («Сын-соперник, или Новая Стратоника»). Это была, может быть, единственная в своем роде опера-сериа, написанная русским композитором, где одновременно заметны и многие элементы оперы-буффа. Главным героем ее стал прототип небезызвестного дона Карлоса, испанского принца, влюбленного в свою мачеху.
По поводу постановки этой оперы Иван Михайлович Долгорукий записал в своем дневнике так:
«Испанская наша опера готовилась с большим великолепием. Музыка сочинена Бортнянским еще трогательнее и лучше, нежели для прежней... Опера Дон Карлос произвела на театре особенное действие и не могла не понравиться всем: великолепие декораций, богатство костюмов, превосходная музыка, заманчивый склад интриги в опере – все пленяло и взор, и слух, и чувство зрителя...»
«Сын-соперник» ставился чрезвычайно пышно. Декорации выписывались долго и тщательно. Дона Карлоса пел Ф. Вадковский, Элеонору – В. Аксакова, как всегда, блистала Е. Нелидова. Не остались без дела и Чернышев, и Голицын, и Виолье. Что же касается костюмов, то навряд ли можно найти случай в музыкальной истории России, когда они были бы столь ошеломительно роскошны. Мария Федоровна собственноручно, с согласия мужа, распорядилась выдать актерам все великокняжеские фамильные сокровища. И если первое действие исполнители пели в суконных платьях с золотыми галунами, то во втором они переоделись в шелковые костюмы, усыпанные драгоценными каменьями. Подлинные бриллианты, изумруды, аметисты, бирюза, жемчуг – все блистало со сцены разноцветными лучами и чрезвычайно украшало обстановку спектакля. Очарование вечера достигло предела в тот момент, когда Иван Михайлович Долгорукий, игравший отца дона Карлоса – дона Педро, появился на сцене весь обшитый алмазами, снятыми с парадного золотого кафтана Павла Петровича, который тот носил в особых случаях на торжественных придворных выходах. Наряд князя стоил фантастическую сумму – почти 300 тысяч рублей. Не обошлось и без курьеза. Иван Михайлович так вошел в роль и расчувствовался, что в момент, когда он в одиночестве пел на сцене арию, сделал резкое движение рукой. Мария Федоровна, сидевшая по правую руку от Павла Петровича, изредка поглядывала на реакцию супруга. Тот был изрядно доволен. Но тут вдруг случилось недоразумение. «В самое жаркое время моей игры, когда я один на сцене вел очень чувствительную арию, нечаянно порвалась нитка в погоне на плече, и посыпались с меня крупные жемчуги как град. Я весь был в роле, и конечно бы этого не заметил, но великая княгиня, не снимавшая глаз с своих вещей, тотчас увидела урон их и не могла воздержаться, чтоб не вскрикнуть – „Ах!“ – привставши с своего места. Это меня привело в смущение, и я с трудом мог опять войти в свой театральный характер». Оркестр затих. Зал затаил дыхание. Павел Петрович вцепился в ручки кресла. Но тут же махнул рукой в знак того, чтобы спектакль продолжали. Ступая по драгоценностям, актеры доиграли третий акт.
«Слава Богу, однако, ничего не пропало; после спектакля велено было подмести театр со всякой осторожностью, и на завтра великая княгиня изволила сама рассказывать с удовольствием, изображающимся в каждой черте ее лица, что в пыли найдено всяких вещиц ценою на четыре тысячи», – заключил в своих записках Иван Михайлович Долгорукий.
«Сын-соперник» стал триумфом Бортнянского. Восторг превзошел все ожидания. Но это была и лебединая песнь композитора в оперном жанре. Больше Дмитрию Степановичу опер сочинять не пришлось...
Начиная с 1787 года среди просвещенных европейских читателей стал популярен наполненный любовными похождениями и интригами роман Бернардена де Сен-Пьеpa «Поль и Виргиния». Иван Михайлович зачитывался им. Припомнил он, что попала книга в руки и Дмитрия Степановича. Идея написать музыку на этот сюжет к композитору пришла как-то сразу, он уже не помнил, кто первый об этом заговорил. Осуществить намерение не представлялось возможным. Служба опять таки заставляла отвлекаться на всякие мелочи. Для неожиданных случаев исполнения музыки на воздухе во время прогулок Дмитрию Степановичу пришлось специально переложить отдельные номера из оперы «Сокол», которые должен был теперь исполнять духовой секстет. Он заканчивал знаменитый в будущем Квинтет, концерт для чембало с оркестром, трехчастную Концертную симфонию. Застолья и другие развлечения сопровождались его мелодиями.
Летом 1787 года очередное традиционное празднование именин Павла снова напрочь перечеркнуло все его планы. Иван Михайлович Долгорукий сохранял у себя копию одной бумаги, оставшейся от тех незабвенных дней. Проект театрального празднества, составленный Марией Федоровной для того же коменданта села Павловского Карла Ивановича Кюхельбекера в июле 1787 года, гласил:
«Фейерверк будет спущен за колонною; у колонны будут две палатки для зрителей... Главная аллея ко дворцу будет иллюминирована сводами из одноцветных белых огней...
На озере будет хорошенькая лодка с навесом из дранок, вся покрытая разноцветною иллюминациею; в ней поместятся музыканты. Эта лодка будет тихо плавать взад и вперед, чтобы придать красивый вид от дворца; это непременно произведет отличный эффект, вследствие отражения каждаго предмета в воде, которое, удваивая иллюминацию, придаст блеск и живописность рисунку...»
На сопровождение музыкой действ вроде той самой «плавающей взад и вперед хорошенькой лодки» и уходили все силы даровитого композитора.
И все же, оставляя на время все свои заботы, Бортнянский бросается писать новую оперу. Сюжет «Поля и Виргинии» манит его, но он чувствует, что не успеет и не сумеет закончить ее. В конце концов пришлось ограничиться лишь рядом романсов на французские тексты. В самом деле, друзья уже давно просили его написать цикл песен для домашнего музицирования. Сама прелестная княгиня Елизавета Алексеевна, невестка Павла, будущая императрица, как-то обратилась к нему с таким предложением. Всем известен был ее талант, ее сильный и чистый голос. Специально для юной певицы и подготовил сборник французских романсов Дмитрий Степанович. Книгоиздатель Брейткопф охотно взялся отпечатать ноты. В 1793 году «Сборник романсов и песен» увидел свет. Текст к музыке написал Лафермьер, но из-за все нарастающей немилости к нему великого князя он просил не ставить на титульном листе своего имени...
Романсы Бортнянского становятся как бы его новой визитной карточкой для входа в лучшие дома и салоны Петербурга. Продолжая исполнять обязанности придворного капельмейстера, он теперь большую часть времени проводит вне двора. Тонкий вкус, знания настоящего коллекционера живописи, приобретенные им еще в Италии, сближают его с покровителем российских дарований, образованнейшим человеком своего времени графом Александром Сергеевичем Строгановым. Впрочем, знакомы были они и прежде.
Еще в 1789 году труппа из Павловска выступала на сцене театра Строганова с комической оперой «Нина, или Безумная от любви». Не преминул и Иван Михайлович отметить этот факт в своей летописи:
«Летние увеселения на даче вскружили голову любезному старичку графу Строганову, и ему захотелось поставить у себя в комнатах маленький театр, на котором первыми действующими лицами были, разумеется, жена и я... Нашли жену мою способной играть Нину. Она взяла ролю1, выучила, выработала и в течение двух недель явилась в ней перед публикой довольно многолюдной, а наипаче отборной. Все бояра, иностранные дипломаты были на этом спектакле...
Все ей рукоплескали, – восторг был общий,.. все признали, что никто в России не мог бы так очаровательно блеснуть в этой роли, как жена моя. Все в Евгении соответствовало принятому ее характеру, речь утомленная, голос нежной, выговор приятной, походка медленная, взор меланхолический, наряд простинькой, игра без всякого жеманства, все, все было в ней совершенно».
Иван Михайлович остановился и подумал: не переборщил ли он в похвалах? Нет, нет, то был действительно триумф его жены. Да, ну конечно же, и дирижера!
«Оркестром правил Бортнянский, хоры были из придворных певчих. Весь спектакль произвел действие прекраснейшее».
Дмитрий Степанович Бортнянский по совету же А. С. Строганова в свое время вступил в Музыкальный клуб.
Клуб этот открыт был в знаменательный 1783 год. Знаменательный потому, что именно тогда был обнародован вышеупомянутый указ Екатерины II о театре и об опере. Музыкальный клуб открывался в России впервые. Общественная организация, объединяющая лучшие силы страны, прообраз подобных общественных объединений XIX столетия, из недр которых вышли талантливые и выдающиеся музыканты и композиторы, способствовала становлению отечественной композиторской школы.
«Музыка составляет главный предмет общества нашего, – гласил устав клуба. – Большая зала назначена для оной. Концерт будут играть два раза в неделю, то есть по средам и по субботам... К сему случаю позволяется каждому члену приводить раз в неделю одну даму из фамилии своей».
Таким образом, наряду с профессионализацией музыкального дела возрастали и общественные силы, способные привить любовь к искусству, развить настоящие вкусы и способности. Состоять членом такого клуба для Бортнянского было столь же почетно, как и ответственно.
Ведь устав гласил также: «Твердость учреждаемого общества не отменно требует того, чтоб при выборе членов, долженствующих оное составлять, иметь главным предметом, удалять елико возможно неравенство состояний и разнообразие мыслей, для предупреждения всем могущим от того возродиться неустройствам. И так, основываясь на сем правиле, первый при выборе сочленов наших предмет да будет тот, чтоб не принимать таковых, которых поведение и образ жизни могли бы быть предосудительны обществу нашему...»
В Музыкальном клубе Дмитрий Степанович познакомился с Д. И. Фонвизиным и ветераном русской сцены И. А. Дмитриевским, которого знал шапочно еще по книпперовскому театру. С автором «Недоросля» композитора сближало сходство во взглядах на то, какое место должен занимать Гражданин в своем Отечестве. Образ Стародума, поборника неуклонной справедливости, преданного общественным идеалам, видящего в службе Служение им, надолго западет в душу Бортнянского. И уже в иные времена, когда «стародумство» расценивалось наравне с «чудачеством», он не раз вспомнит о фонвизинском герое.
Однажды, когда Дмитрий Степанович был у Строганова на приеме, к нему подошел высокий, статный, с тронутыми сединой волосами человек.
– Вы и есть тот самый павловский Орфей? – начал он без представления и безо всяких предисловий. – Я – Державин.
С того момента и началась их дружба. Принимать гостей у себя Бортнянский мог лишь изредка. Для того нужны были средства, которыми композитор не располагал. Но в доме у Державина он был завсегдатаем.
Не чин, не случай и не знатность —
На русский мой простой обед
Я звал одну благоприятность;
А тот, кто делает мне вред,
Пирушки сей не будет зритель.
Ты, ангел мой, благотворитель!
Приди – и насладися благ;
А вражий дух да отженется,
Моих порогов не коснется
Ничей недоброхотный шаг!
После того как бывали съедены «шекснинска стерлядь золотая, каймак и борщ», выпиты «в крафинах вина, пунш», друзья садились в кабинете и допоздна спорили. О чем же? Да все о том, что Гаврила Романович очень любил оперу. Но бывал резок и неожидан в своих суждениях. Таков уж характер.
– Опера представляется мне собственным миром. Она перечень или сокращение всего зримого мира. Скажу более, она есть живое царство поэзии. Она образчик или тень того удовольствия, которое ни оку не видится, ни уху не слышится, ни в сердце не восходит, по крайней мере, простолюдину.
– А мне думается, что опера у нас еще не показала своих собственных достоинств. Фомин с его «Ямщиками на подставе» лишь предположил такую возможность. Да так предположил, что простолюдину, как вы выражаетесь, его музыка вполне близка и понятна, – отвечал Дмитрий Степанович.
– Эка, хватил. Я о другом хотел сказать. Знаемо, даже великий Суворов разведывал, что о нем говорят ямщики на подставах или крестьяне на сходках. Славный должен знать о своей славе. Слава есть страсть душ благородных, и она на подвиг подвизает. Вот ее-то и должно искусством возвышать. Опера, думаю, этому способствует. Подлинно, после великолепной оперы находишься в некоем сладком упоении, как бы после приятного сна, забываешь всякую неприятность в жизни.
Державин достал из резной шкатулочки витую трубку, не спеша набил табаком, раскурил.
– Но вот-таки у нас важных опер, сколько я знаю из прежних, только две, сочиненные еще Сумароковым. Его «Цефал и Прокрис» создал наш музыкальный театр. Есть переведенные из Метастазия и других иностранных авторов, но они играны на тех языках, а не на русском...
– Сумароков писал тексты. А что главнее – музыка или слова? – нетерпеливо перебивал его Бортнянский. – Мы-то все считаем, будто только слова. От этого все наши композиторы в тени по сию пору. А опера без музыки, что поэт без лиры. Теперь мы только Сумарокова и вспоминаем, а про музыку «Цефала» кто вспомнит? У кого еще в памяти многие наши мелодии? Канули в небытие... Эх, да что там...
– Со слов все начинается, – Державин отбросил нераскуривавшуюся трубку. – Самой первой степени поэт, ежели он в слоге своем нечист, тяжел, единообразен, единозвучен, не умеет изгибаться по страстям и облекать их в сердечные чувствования, —к сочинению оперы не годится. Не позаимствуют от него выразительности и приятности ни лицедей, ни уставщик музыки... Хочу я об этом написать, да все времени не хватает...
– А как же, к примеру, Пашкевич? Арии его напевают и по сей день, а кто похвалит слова? Думаю, опера наша переживает момент перерождения. Ждет российская музыка еще своего гения.
– Ну если ты так завернул, то скажу прямо – тебя, Дмитрий Степанович, я считаю первым у нас оперным композитором. Да и концерты твои хороши. У меня дома им специальный реестр составлен для нотной библиотеки. Берут все в округе. Поют славно...
– Ой ли, – улыбнулся Бортнянский, – наверное, теперь уж мне не до оперного жанру. Видно, судьба моя писать всю жизнь хоровые концерты. На них-то хоть прокормиться можно...
Опера, как музыкальный и вместе драматический жанр, вызвала в эти годы большую полемику на страницах российской печати. Известный русский драматург и актер Петр Алексеевич Плавильщиков высказывал в этом споре крайне резкие суждения. Не отрицая оперы в принципе, Плавильщиков, однако же, был ее явным противником. «Многократно я также обманывался и в комедиях, а в операх никогда, – писал он. – Впрочем, хотя бы и совсем не было дурных опер; но музыка всегда отвлекает зрителя от привязанности к завязке зрелища; да и самое изображение страсти тогда получает свою душу, когда естественный тон его оживотворяет; а в музыке, как бы она близко ни подходила к смыслу речей, всегда более видно искусство сочинителя и игрока, нежели естественное выражение какого-нибудь чувствования».
Русская опера утверждалась. Отечественные композиторы набирались опыта и сил. В пылу возникавшей полемики такие гневные высказывания Плавильщикова, как его рассуждения об итальянском влиянии на музыку России, были вполне естественной реакцией на засилье приезжих маэстро в музыкальном театре. В статье о театре Плавильщиков сформулировал свои мысли так:
«Мы имеем свою собственную музыку; а музыка и словесность суть две сестры родные; то почему же одна ходит в своем наряде, а другая должна быть в чужом? Неужели мы не умеем выдумать для себя забавы и увеселений? И неужели мы должны спрашиваться у других, что нам должно быть приятно и что противно? Неужели для всех народов на свете природа – мать, а для нас одних мачеха, которая не дала нам никакой собственности? Нет: сие предубеждение происходит от собственной нашей неосмотрительности и какого-то вредного влияния ненавидеть свое собственное. Имея наиприятнейшую свою музыку, многие дамы большого света повыписывали к себе итальянцев, из коих иные, ходя по Италии, с трудом выпевали себе на башмаки в неделю, а здесь, разъезжая в каретах с гордым и презрительным видом к своим легковерным благотворителям, делаются судьями российским талантам; и от их-то пристрастного решения зависит ободрение русскому...»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































