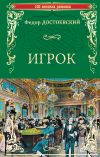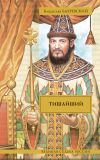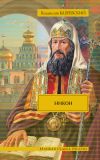Текст книги "Бархатный диктатор (сборник)"
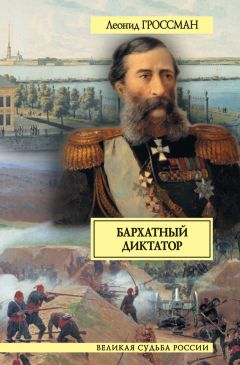
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
Morbus Sacer
– He повинен! В этой крови не повинен! В крови отца моего не повинен… Хотел убить, но не повинен, не я!
«Братья Карамазовы»
Доктор медицины и хирургии
Степан Дмитриевич ЯНОВСКИЙ.
Прием больных на дому от 10 до часу.
Служащих департамента
казенных врачебных заготовлений
при министерстве внутренних дел
по вторникам и пятницам от 9 до 11.
Один только вид этой квадратной медной дощечки, вычищенной до блеска, с прямыми и ровными черными буквами, уже вносил успокоение в смятенное сердце. Достоевский входит в переднюю, опускает свой циммермановский цилиндр на трюмо и, быстро поправляя отстающие от пробора тоненькие прядки, пытливо рассматривает в зеркале свое бледное лицо. Ночь провел он тяжелую, до утра, как больной, метался в полусне-полубдении. Томили и жгли безобразные видения. Снова являлся этот мучительный призрак желтого безбородого старца с отвислым подбородком и окровавленными чреслами. Быть беде! Смерть подступала к нему, грудь давило, трудно дышалось. Он тяжело болен, это ясно. Ипохондрические припадки – вздор. Скоро хватит кондрашка. Даже не даст дописать «Белых ночей». А может быть, еще до того сойдет с ума? Ведь бессонница да кошмары хоть кого доведут до помешательства. А прежде-то, в инженерах, начитавшись Гофмана, хотел притвориться безумцем. Шалил, интриговал, писал брату: «У меня есть прожект: сделаться сумасшедшим. Пусть люди бесятся, пусть лечат, пусть делают умным…» Сколько было сил, как пренебрегал опасностью! А теперь – нет, нет, не приведи бог!
Нетерпеливым движением шеи он расправляет слишком тесный ворот. В приемной душно. К тому же как-то стемнело, или, может быть, это только представляется ему? Нет, в самом деле надвинулись тучи, быть грозе.
Он ждет терпеливо и тихо. Как будто бы что-то в углу затормошилось. Он один или же?.. Да, конечно, тот снова привязался, пристал, злоязычный бездельник, как клещ присосался. Вон юлит, семенит и кружится, заискивает, хихикает, издевается. О шельмец, интриган и развратник! Поспевает повсюду… Разлетелся к Краевскому: «Новую повесть пишу… Пером моим водит родник вдохновенья… Ведь я глубже, чем Гоголь… Ведь будущность-то у меня блистательная… Графы, князья ищут моего знакомства. Сам принц Лейхтенбергский хвалил мою повесть. Читают меня напропалую. Первенство в литературе остается за мной навсегда…» Хлестаков! Что ты корчишь гримасы величия? Вообразил себя гением? Самозванец, близнец, тезка, однофамилец ничтожный! Шепчешь под нос, улыбаешься, ножкой лягаешь, зловредный ты мой соглядатай, Федор Михайлович младший, подлец, Достоевский второй! Только и знаешь бродить по трактирам, спускать на бильярде семейные сотни, французским шампанским тешить зев свой в «Отель де Франс» на Малой Морской, да по темным чуланам дразнить, и, насытившись, подло пугать своих Минушек, Клар и Марьян. Заболеешь, – болей в наказание! Соглядатай проклятый, Гришка Отрепьев! Тащить меня по салонам, к сиятельствам в дружбу, к Виельгорским, Одоевским и Сологубам? Чтоб там подставить подножку, чтобы бесстыдно оскандалить и в обморок бросить меня перед юным, прекрасным созданием? Чтоб дать моим злобным завистникам повод писать эпиграммы? О, пасквилянт, интриган и насмешник, вьюном вьешься, бесстыжий…
Скрипение двери. Доктор Яновский, выпуская больного, приглашает к себе в кабинет. Старательно и долго моет руки, медлительно вытирает их белым, чуть накрахмаленным полотенцем, радушно вспоминает последний вечер у Майковых.
Затем, расправив бакенбарды на круглом лице, усаживается и вопросительно смотрит на своего пациента. Тот испытывает легкое смущение.
– Доктор, мне кажется, я очень болен.
– Вид у вас превосходный. На что же вы жалуетесь?
Достоевский, волнуясь и в смущении, говорит о своих кошмарах, бессонницах, головокружениях, ночных страхах. Доктор внимательно слушает и смотрит успокоительно. Он щупает пульс, вглядывается в язык, выслушивает, выстукивает, обследует.
– Все в порядке. Легкие здоровы, сердце тоже. Пульс у вас, как у женщины. Небольшое нервическое возбуждение – это не опасно. Скажите, вы не испытывали в жизни каких-нибудь сильных испугов – быть может, тяжелых впечатлений в детстве?
В измученных глазах больного огонек радости. Кажется, причина болезни найдена: испугов – сколько угодно – и тяжелых, и сильных, и в детстве. О далекие ранние годы, и вы уже тенью задеты! Каждый возраст жизни представал перед ним, словно собранный весь, в немногих, но резких чертах. Детство в городе – это верблюжьи халаты больных и синие маковки лавры, деревянные гравюры Ветхого завета и размалеванные балаганы под Новинским. Сумрак детской (закоулок в передней) и сырость больничного сада. Из прошлого снова развившись, вносит немного спокойствия в его смутные тянутся облики, лица, события, и лента ушедшего времени, думы. Он понемногу овладевает собою и тихим глухим голосом рассказывает:
– Я родился, доктор, и рос на окраине Москвы, в больнице для бедных. Старая округа убогих домов, приютов призрения и гноищ. Во всех переулках юродивые, калеки, слепцы, божедомы. Помню низкие потолки казенной квартирки, темный чулан за перегородкой в прихожей, служивший нам детской. Я уверен, что вы не положите ваших детей в такую гробницу. Двор с непрерывной вереницей хворых и нищих, в лохмотьях, в язвах, в струпьях, в рубцах, изможденных, хилых, худосочных. Помню покойницкую с душным и тяжким запахом разложения, – по вечерам тускло мигала лампада в этом погребе для мертвецов, – помню больничную контору, где вечно толпились эти дважды отверженные – бедностью и болезнью. Правда ли, доктор, что наши больницы возникли из приютов прокаженных?
– Возможно, но, кажется, московские лечебные заведения нисколько не похожи на средневековые лепрозории.
– О, здание было великолепно! Огромный дом, воздвигнутый по всем требованиям государственного архитектурного образца – четверка каменных львов над решетками ворот, могучая колоннада подъезда, торжественная лестница и ширококрылая императорская эмблема, высеченная в остром треугольнике фронтона. А рядом – какая грусть и нищета!..
Он погрузился в эти безрадостные воспоминания детства.
– Я помню, доктор, скорбные листы на столе у отца с описанием всех болезней… Загадочность и жуткость латинских терминов… Делириум тременс, морбус лунатикус… Помню, раз через двор пронесли одну раненую девушку, громко и пронзительно кричавшую… Любовник где-то на опушке Марьиной рощи, в припадке ревности, несколько раз пырнул ее ножом по лицу, по животу, по груди. Щека ее зияла рваной раной, кровь заливала шею и грудь, насквозь пропитывая наброшенный на плечи полушалок. Я навсегда запомнил ее пронзительные крики от боли и ужаса перед надвигающимся на нее концом. Молодая, гибкая, крепкая, она вдруг оказалась отбросом, жалким выкидышем жизни, добычей смерти и, вся трепыхаясь, она возмущенно причитала и отчаянно голосила о помощи. Вся больница приняла в ней участие, но к вечеру, помню, она скончалась. «Гулящая девка, – говорила нашей няне экономка: – по жизни и смерть». Но я не мог успокоиться – это было первое убийство, поразившее меня, первая кровь, насильственно пролитая на моих глазах… За что, за что? Кто дал право убить эту девушку, юную, смуглую, сильную? Кто осмелился посягнуть на ее жизнь, вонзить нож в это крепкое тело? Убить человека… Возможно ли это? И ужас перед смертью навсегда сошел на меня и словно стал спутником всей моей жизни… С тех пор, словно по пятам, меня преследуют преступления, кровь, убийство…
– Почему же навсегда? Почему – спутник вашей жизни?
– С того самого дня меня охватил страх гибели неведомой и верной. Ко мне стала приходить смерть – отвратительное ощущение! – придет, долго всматривается в лицо мое и потом медленно, словно нехотя, уходит… Удаляется, шаркая туфлями и как бы обещая вскоре совсем вернуться. Надо мною всегда тяжело нависает опасность.
Он задумался.
– Помню, тем же летом в деревне мне померещился в поле днем огромный пушистый белесоватый волк с огненными глазами, несущийся прямо на меня, лязгая своими сверкающими клыками… Пахавший крестьянин, крепостной моей матушки, успокоил и обласкал меня – никогда не забуду этой защиты, – но я еще долго дрожал и плакал в его черных загорелых пальцах, покрытых взрыхленной землею…
– Галлюцинация? Это часто бывало с вами?
– Нет. Но в последние годы я иногда испытываю странное состояние. При сильном умственном возбуждении, во время работы или резкого спора я ощущаю вдруг дуновение, проносящееся по всему телу, мысль становится ясной, ослепительной и холодной до нестерпимой яркости, я достигаю как бы предельного расцвета всего моего существа, необычайной полноты бытия – и затем теряю память и погружаюсь в глубокий мрак. Верно, так наступает летаргический сон?..
– Нисколько. Когда впервые вы испытали такое состояние?
– В день, когда я узнал о смерти моего отца.
– Вы так любили его?
– Напротив, я его почти ненавидел.
– Расскажите же мне об этом. Это весьма существенно для определения ваших припадков.
– Мне кажется, почти у всех бывают страшные поворотные дни, когда в их жизнь входит кровь, входит смерть, входит преступление. У одних раньше, у других позже, но эти дни неизбежны. Ко мне этот призрак явился рано, перед вступлением в жизнь…
– Вам следует бороться с такими мрачными представлениями, мой милый…
– Доктор, перед вами преступник.
– Ну, полноте, полноте. У вас несомненная склонность к ипохондрическому самообвинению.
– Ведь не всегда преступник тот, кто вонзает кинжал. Ведь есть, согласитесь, тайные, неведомые злодеи.
– Поверьте, вы никак не относитесь к этому разряду.
– Ведь преступление, доктор, можно совершить и мысленно, в затаенной ярости, в молчаливой ненависти, в состоянии скрытой мстительности. А осуществлять преступные замыслы можно в раздраженных и злобных мечтах, в кошмарах, в бреду, в исступленных видениях. Разве для совести твоей, для воли, для сознания это не то же преступление? Разве нравственно ты не тот же убийца?
– Бредовые представления, друг мой, как и всевозможные видения в состоянии сна или опьянения никак не зависят от нашей воли…
– Однако кто виновнее: случайный грабитель, зарезавший твоего брата, или же ты, возжаждавший его смерти?
– Я думаю, – грабитель. Но вы, кажется, собирались сообщить мне о смерти вашего батюшки?
– Отец мой… Я никогда ни с кем не говорил о нем. Но вам как врачу…
– Говорите, говорите.
– Отец мой… О, мне даже вспоминать мучительно… В жизни его несомненно скрывалась какая-то тайна. Никто никогда не узнал, почему в молодости он навсегда оставил отчий дом и навеки отрезал себя от родных. Бежал ли от них, был ли изгнан? К чему ему было с Украины, из дома священника, от родовитой, влиятельной матери, от брата, сестер и знатных родных, от южного солнца уходить за тысячу верст в неизвестность, одиночество, холод, не имея с собой никаких документов, безродным бродягой? Непонятно, тревожно и странно, как вся его жизнь и как страшная его гибель. Тайна в начале пути, быть может, преступление, мучение и казнь под конец… Он задумался, словно вникая в загадку.
– Это был самый несчастный и самый мучительный человек, какого я встречал в моей жизни. Мы трепетали его взгляда и бежали от его голоса. С раннего детства он был для нас страшен…
– Чем же? Строгостью? Взыскательностью?
– О, хуже, хуже! В детстве мы боялись его мелочной требовательности, его угроз и попреков. Долго служил он военным, участвовал в трудных походах, работал в гошпиталях, привык к суровости воинских уставов и ужасам битв, отступлений, разгромов. Быт лазаретов ковал его мрачную душу. Как только мы подросли, мы поняли, что он замучил нашу мать своими пороками – скупостью, развратом, бессмысленной ревностью, горьким пьянством. При нас он не раз доводил ее до истерик и горького плача. Не щадил ее даже в беременности низкими своими подозрениями. Он дрожал над каждой тряпкой и над каждой поломанной ложкой, вел реестр белью и столовой утвари, вечно хныкал о своей нищете, – хотя получал оклад штаб-лекаря при казенной квартире и дровах, занимался практикой и владел небольшим поместьем в Тульской губернии. Лицемер и притворщик, он охотно жаловался на свою бедную участь, вечно ждал разоренья. Он был чувствителен и жесток, любил музыку и зверски расправлялся с крепостными, тиранил всю семью и питал непреодолимую тягу к французским словечкам, каламбурам и анекдотам. Подозрительность его не знала границ. Вечно ему казалось, что его обкрадывают, всех слуг он считал ворами, озирался, дрожал, что его ограбят и зарежут… Это бросало его в состояние мрачной и гнетущей тоски, давящей и изнуряющей горести, из которой единственным выходом было вино…
Воспоминание вызывало почти физическое отвращение, тошнота подступала к горлу, тяжелый холод, словно дуновение из сырой покойницкой, прошел по всему телу.
– Он пил горькую. Один, запершись, тайно и стыдясь своего порока, он заливал себя коньяком, водкой, наливками… Он любил после рюмки сладкое – варенье, пирожное, мед, пастилу, густой турецкий кофе. Мать все приготовляла ему… и он жадно глотал алкоголь и лакомства. Помню его лицо – правильное, но испитое и злобное, маленькие глазки с жестким взглядом, взъерошенные волосы, тонкий нос, отвислый оплыв под подбородком. Крупное адамово яблоко постоянно шевелилось и двигалось по его шее, как орешек в горле индюшки. Благообразно и отвратительно… Женская прислуга у нас не держалась – кроме старух. Василиса – прачка, помню, сбежала. За красавицу Веру, горничную, отец в исступлении и ярости как-то отвесил пощечину дяде, любимцу и лучшему другу бедной матушки. Это был ее младший брат, богатый приказчик-суконщик, певец и красавец, гитарист и кутила, беспечный балагур-весельчак. А Веру тотчас же прогнали… Старший брат, лучше всех понимавший характер отца, от него отвращался. Он обожал нашу мать, болезненную и кроткую, он не мог простить отцу его распущенности…
– В чем же она выражалась?
– В пьяном виде его начинало неудержимо тянуть к женщинам – не к матери, больной чахоткой и изнуренной родами – восемь человек детей! – к любовницам, которых он ухищрялся заводить всюду: в палатах, в своей квартире, среди больных на практике, в деревне. Он был одержим тем жестоким сладострастием, – да, да, мучительным, безжалостным, хищным! – из которого рождаются все грехи, все страдания, все боли… Он словно был укушен каким-то ядовитым насекомым, тарантулом похоти, гнавшим его все к новым и новым возлюбленным. Он никогда не выбирал их, все были для него хороши… и это было отвратительно и грязно… В нем было много непонятного и отталкивающего – он любил крыс, пауков, тараканов. «С ними веселее, чем с людьми», – говаривал он…
– Как же он погиб?
– О, после смерти матери он совсем опустился. Покойница следила за ним, ободряла, поддерживала в нем обличие добропорядочности. Когда ж похоронили мать, он сразу впал в свои пороки. Он совершенно распустился, дико запьянствовал, дал полную волю своему паучью сладострастию. Он, нужно вам знать, ведал отделением больных женского пола, и это облегчало ему удовлетворение его похоти. Вскоре его не стали держать на службе. Он вышел в отставку и поселился с дочерьми в деревне. Здесь он почти истязал их своей подозрительностью, издевательством, оскорбительными насмешками. Лез под их кровати, высматривал – не запрятаны ли там их любовники. А сам на их глазах устраивал в доме оргии с домашней прислугой, крепостными работницами, сенными девушками. Крестьяне знали это и копили свою ненависть, чтоб отомстить за жен и дочерей, опоганенных старым клещом, как они прозвали его.
Кресло доктора Яновского начинало странно покачиваться. Воротник железным кольцом сжимал горло. Подступающий ужас заливал все своим холодом. Тревога нарастала и становилась невыносимой. Голова слегка кружилась. Но сквозь колеблющееся и плещущее сознание выступало отчетливо видение прошлого. Что-то начинало дергать глаз и челюсть, щеки вздрагивали, язык вращался с непонятной быстротой, слюна перехватывала дыхание.
– Помню один вечер. Мы со старшим братом проводили лето у отца, в его Даровом. Запой и загул. Сестры в отчаянии заперлись у себя наверху, не смея дохнуть. Старика рассердило их отсутствие. «Что ж, я должен ужинать без семьи? Родные дочери не признают меня? Бегут отца? Привести их!.. Вера, Саша!.. Нечего гнушаться родителя, хоть и пьяненького. Ничего, что тут Катеринушка – она мне друг, а стало быть, вам мачеха. Вера, подойди, поцелуй ее руку, прими ее благословление. Что? Не хочешь? Пьяная, мол, баба? А сама любовников под постель, небось, прячешь? Эх, ты, тихоня-блудодейка…» Старшего брата наконец взорвало. – «Не смейте так оскорблять сестру, стыдитесь, старый распутник!» И весь бледный, трясясь от возмущения, он вывел горько плачущую девушку из-за этой гнусной трапезы. «У, жестокий сладострастник! – проскрежетал он в сенях. – Убить его мало!» Как ни были страшны эти слова, я понял их, и сознаюсь – в ту минуту разделял вполне чувства брата. «Когда-нибудь на глухом перевале, поверь, ужо укокошат его, – продолжал старший брат, – не вечно же им терпеть эти безобразия». – «Что ты, что ты, Михаил! – взмолился наш младший, Андрюша, тихий и кроткий подросток весь в мать. – Можно ли так про отца?» – «Можно! – отрезал старший. – Как еще живет такой человек – не пойму… Мать вогнал в гроб и теперь дочерей истязает». – Прав, прав Михаил, думал я, болея за сестер и вспоминая замученную покойницу…
И вот все произошло по словам брата, словно напророчил. Крестьяне отца, сговорившись, по пути из Дарового в Чермашню, куда он ехал «учить» их дубинкой за нерадивость к работе, накинулись на него и покончили с ним. Смерть ужасная – сдавили половые органы, так что со стариком удар мгновенный… Говорили потом разное: будто за жестокое обращение убили, но мы знаем – за оргии в барском доме Дарового. Слишком тяжел и необычен был способ убийства – что стоило им придушить, ударить по голове… Ведь скрыть преступление все равно было невозможно. Нет, тут талион, древний закон мести, око за око…
Доктор налил стакан воды и протянул его пациенту.
– Вы так побледнели, выпейте… Погодите: немного бестужевских капель…
Достоевский отпил, стуча зубами по стеклу.
– И вот, когда мне в училище приехавший родственник во всех подробностях рассказал об этом убийстве, когда мне представились жесткие, черные, заскорузлые пальцы, сжимающие, как клещами, тело старика, скорчившееся от непереносимой боли, мне показалось, что судорога прошла по мне, что я вдруг с невероятной ясностью понял и старческое сладострастие, и глухую ненависть крепостных, и невыносимую муку этой жестокой казни. Я пожелал смерть отцу, и она наступила – разве это не злодейство, разве я не преступник, не отцеубийца? Казнить меня надо! Все вокруг наливалось кровью и начинало сочиться багровым потом смерти. И все поняв, познав и увидев в одной ослепительной вспышке, я вдруг провалился в глубокую черноту. Потом не помню ничего… Когда же очнулся, все поглотила одна невыносимо гнетущая мысль: я преступник, убийца, я повинен в страшной смерти отца…
(Недавно, проезжая по Германии, Достоевский осматривал в городских музеях собрания старинной живописи. На всевозможных орудиях пыток и казней, на крестах, напоминающих виселицы, корчились обнаженные тела с пронзенными бедрами, надсеченными коленями, изъязвленными лбами, пробитыми ладонями и пригвожденными ступнями. Желтые, как гной, обнаженные тела, покрытые рваными язвами, с подведенными, впалыми животами и тощими ребрами, лица в кровавом поту, сведенные в исступленные гримасы невыносимых болей, – все эти издерганные и напряженные последними судорогами мускулы и кости были поистине ужасны. И об этих корчах разбойников и равви, прилежно и мучительно запечатленных на старых полотнах предшественниками Кранаха и Дюрера, всеми этими забытыми мастерами мрачного германского Возрождения, вспоминал теперь Достоевский, думая о трупе тощего старца, брошенного у перелеска, на полпути между двумя глухими деревушками.)
Доктор внимательно смотрел на него, но он не мог продолжать рассказа. Воспоминание взволновало и растравило душу. Он чувствовал приступы ненависти к прошлому, к детству, к первым урокам, к отцу. Непереносимая гадливость заполняла все до тошноты, до головокружения, казалось, заливала горло терпкой и едкой волной. Он еле слышал, как доктор Яновский, словно стремясь осилить его непреодолимую тоску, пытался пробиться своими беспомощными медицинскими советами сквозь этот ужас, стыд и отвращение. Хотелось закрыть лицо руками и рыдать долго, неутешно. Казалось, из другого мира праздно и пусто звучали бесполезные указания:
– Бывайте больше на людях, в театре, танцклассе, в гостях, ресторациях. Поменьше уединения… Ежедневно перед вечером совершайте прогулку по Невскому, не обращая внимания на климат. Что же касается медикаментов, то видоизмененный декохт Цитмана и корень сасса-парилли…
Слова стучали и падали, как деревяшки, бессильные разорвать эту черную, тягостную и непроницаемую завесу бедствия и безнадежности, отнимавшую у него все живые силы, свет, звучанье, легкость мысли, счастье дышать, – всё… Что-то душило за горло. Да, несомненно он болен, но он не хочет, не должен расстаться с этим недугом. Тоску сменит сейчас необычайное счастье, райская радость, всемирное озарение. Все окрасится в золото, все зальет неизъяснимое блаженство, он познает никому не ведомое, он проникнет в сокровенное мира, он ощутит сверхчеловеческое…
Издалека, снизу, из глубокой пропасти, до него еще донесся его собственный, сдавленный, испуганный, протяжный крик, жалобный и беспомощный, как звериное мычание, пока он падал с кресла в лучи и радугу неимоверной ослепительности, со всех сторон обволакивающих холодом беспредельного счастья его замученную и пылающую голову.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.