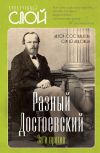Текст книги "Бархатный диктатор (сборник)"
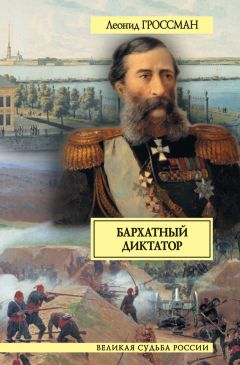
Автор книги: Леонид Гроссман
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
Итальянчик Антонелли
…он прибыл в Петербург и, чтоб добыть денег, решился на один подлый донос, то есть решился продать кровь десяти человек, для немедленного удовлетворения своей неутолимой жажды к самым грубым и развратным наклонностям…
«Записки из Мертвого Дома»
Он следил за ведомостями. У Вольфа и Беранже, у Излера и Доминика, во всех кофейнях и ресторациях на Невском, получались немецкие, польские, даже французские листки. Он мог, не читая, отбрасывать «Инвалид», закапанный ликерами отставных гвардейцев, и бегло пробегать «Пчелку», всю залитую шоколадом департаментских юнцов. «Газета прений» сообщала ему все политические известия. За чашкою кофе, за тарелкою бульона узнавал он о всех треволнениях в Париже, Берлине и Вене.
В тот день, зайдя пообедать в известный трактир у Полицейского моста, он с жадностью прочитывал сообщение о восстании в Генуе. Революция в Италии продолжалась. Правительственные войска отступили перед народной гвардией инсургентов, занявших три главных форта городских укреплений. Новый отряд королевских войск под начальством генерала Ла-Мармора начинал вытеснять вооруженные отряды мятежника Авеццаны. Достоевский с волнением следил по телеграфическим депешам за этой отчаянной борьбой старой власти с народной революцией.
Вдруг овладело им неприятное ощущение, – словно стеснение какое-то, как-то не по себе, неудобно и даже тревожно стало, словно что-то хотелось с себя сбросить, как гусеницу, проползающую по шее. Он сделал невольное движение, приподнял глаза, и… все разъяснилось.
Прямо напротив, за тем же столом, не читая и даже не завтракая, неподвижно и очень прямо сидел перед ним в красном своем плюшевом жилете с широчайшими отворотами «а la юная Франция», с пышным у горла фуляром модного цвета апельсинной корки и крупными перстнями (тонкие профили женщин в агате и яшме, подернутых жилками) беспокойный и странный гость Петрашевского, сожитель этого безбожника Феликса Толля, бывший филолог, теперь канцелярский чиновник – Петр Дмитриевич Антонелли.
Низкий, заросший и поразительно плоский лоб лоснился, как масленка фонарщика, а пухлая и влажная нижняя губа, тяжело отвисая, придавала лицу его алчный, почти ростовщичий вид. Не мигая смотрел он на Достоевского, но, заметив его удивление, преобразился, нагнулся, расплылся улыбкой, салютовал взмахом руки, и, сияя вспотевшим лицом, наклонился к столу, пробегая мышьими глазками по газетным столбцам.
– Интересуетесь бунтами на Западе? Генуэзским восстанием? Следите за европейской революцией?
И носом своим, острым и длинным, как бритва, уткнулся в шуршащий инфолио газеты.
– А с чего вы заключаете? – равнодушно уронил Достоевский. – В газете ведь много статей…
– Да вижу, вижу, что привлекает ваш взгляд. Вон – бульвар итальянской демагогии, – придумывает же Булгарин политические прозвания! – триумвират головорезов, республика контрабандистов. (Он суетливо и быстро бегал глазами по столбцам.) «Маццинисты вооружают каторжников и уголовных преступников…» (Он понизил голос.) Вот вам петербургская полицейская оценка великой итальянской революции…
– Великой? Но мне кажется, в событьях последнего года Италия не на первом плане…
– Ошибаетесь… Эй, мальчик, горькой водки и пару слоеных – послаще! (Тяжелая длинная капля повисла и упала с припухлой губы.) Есть только два решения социального вопроса в Европе, и оба, заметьте, ведут на мою родину.
– Каким же это образом?
– Только Италия может предложить миру новые союзы из испытанных старых объединений. Всю теперешнюю политическую смуту разрешит папа…
– Кто?
– Его святейшество Пий Девятый. Он предложит бунтующим массам всемирную организацию католической церкви. Вы соображаете? Ватикан приложит свой опыт объединения миллионов и всемирного владычества над ними к делу мировой революции. Я спрашиваю вас, – кто тогда устоит на троне из всех королей обоих полушарий?
– Мне кажется, вы, Антонелли, рассуждаете, как католик…
– Нисколько. Я говорю от имени всех наций, всех бедняков, всех работников, всех оборванцев, всех лаццарони мира! К ним-то и обратится с протянутой рукой глава католической церкви.
– Однако первый вольнолюбивый папа бежал из Папской области от возмущения римской бедноты.
Антонелли ответил не сразу. Он посматривал куда-то вбок. У стойки появилась буфетчица, полная, откормленная, блистающая сытостью, довольная и здоровая, как огромный, разжиревший сверкающий кот, с надменной безмятежностью присевший на край прилавка. Мышьи глазки Антонелли задержались довольно долго на полновесном торсе хозяйки, пока тяжелая губа его отвисала все ниже, заметно увлажняясь и подрагивая.
«Э, да ты, видно, действительно падок на сладкое», – подумалось Достоевскому. Вспомнился особый петербургский тип: любители кондитерских и Мещанских, способные на все ради удовлетворения грубейших плоских наклонностей.
– Папа скоро вернется в Квиринал, вот увидите (Антонелли опрокинул рюмку и прожевывал пирожок), уже по всей Италии составляются петиции…
– Он вернется для борьбы с мятежом.
– Рано или поздно он примкнет к революции. Я говорю вам о неизбежном мировом движении. Папа благословит толпы на последнюю победу. Кардиналы, епископы и пресвитеры поведут во всех столицах блузников и чернь на баррикады. Конклавы изберут советы верховных комиссаров, конгрегации и консистории превратятся в народные трибуналы. Смертные приговоры будут ссылаться на латынь евангельских текстов, гильотина воздвигнется на папертях костелов, потоки крови прольются именем Христа. И весь мир окутает единая несокрушимая организация римского первосвященника, ставшего диктатором мировой революции…
– Какая странная фантазия, – удивленно произнес Достоевский, внимательно всматриваясь в своего собеседника.
– А разве Фурье не фантазия? или Кабэ? А Прудон или Консидеран? Согласитесь, что у всех установителей земного рая воображение самое необузданное…
– Но все же – глава церкви и гильотина…
– Так что же? Священнослужители присутствуют же теперь при казнях. Ни одна капитальная экзекуция в Петербурге не обходится без священника…
– Социальная революция никогда не пойдет путями церкви. Ватикан мог организовать Средневековье, но справиться ли ему с рабочими секциями Парижа?
– Вы не хотите Рима? Не надо. Уступаю вам святейшего отца. На Апеннинах есть Неаполь. А в Неаполе… – вы догадываетесь о чем я говорю? – в Неаполе – цех угольщиков…
Он таинственно воздел палец к небу. Тонкими розовыми жилками переливалась камея в массивном перстне. Достоевский почему-то долго не мог отвести глаз от этого крупного, тонко точеного, нежно окрашенного камня.
– Угольщики? – произнес он сквозь легкий сон созерцания. – Это что же такое?
– А весьма неплохое сообщество, – протянул итальянец, сильно снижая голос и озабоченно озираясь по сторонам.
Вокруг, среди пыльного бархата и потускневшей бронзы, равнодушно жевали челюсти петербургского среднего люда, с его крупными аппетитами и ограниченными окладами. Все были погружены в невозмутимое прожевывание своих порций.
– Вы только послушайте: железная организация, беспрекословное подчинение, глубокая тайна, жертва всем во имя общего дела. Клятвопреступнику смерть! Кровью спаяно все. И единая воля – очистить лес от волков, Европу от хищных тиранов. Беспощадная война с полицией, – долой кальдераров! Упорное пусканье корней в армию, школу, бюрократию, неутомимое стремление опутать сетью грандиозного и таинственнейшего комплота весь священный союз европейских монархов… и нашего тоже, конечно.
Под гудение органа он говорил почти шепотом, но остро оттачивая в медном голосе труб каждое слово и почти вонзая его в слушателя, как заговорщик кинжал – бесшумно, коротким и четким ударом.
– Но на Россию союз этот вряд ли распространит свое действие. Да и на Западе, кажется, он не достиг заметных успехов…
– А восстание в Папской области, а революция в Пьемонте, Неаполе? А военные бунты во Франции, а июльские дни в Париже? Всего этого вам мало?..
– Но этот союз ваш тоже какой-то… католический, иезуитский. У нас все пойдет другими путями, я в этом уверен.
– Нет вернее путей, нет организации крепче и действеннее. От нее затрещит по швам весь феодальный мир – и распадется, как труп. Мы устроим «бараки» для сборищ в столицах и во всех губернских городах – ха-ха! – у каждого губернатора под носом – «хижина угольщиков», мы разбросаем по всем уездам «рынки», всю страну, от Камчатки до Эйдкунена, покроем сетью союза, а где-нибудь здесь, под самым Зимним дворцом, ну, хотя бы на Миллионной, устроим верховную венту… Вы представьте себе – император, министры, фельдмаршал, директора департаментов, генералы воображают, что они управляют страной, а на самом-то деле параллельно, секретно, неведомо властвуем мы, разрушаем деспотию, развинчиваем болты, очищаем место для новых построек, воздвигаем в оврагах и топях фундамент будущих фаланстер.
Достоевский слушал задумчиво. Его чем-то прельщали эти безрассудные планы, в которых история, политика, будущность странно сливались в какую-то невообразимую, дикую и чем-то привлекавшую его утопию…
– У вас, кажется, опять разыгрывается фантазия, Антонелли…
– Эх, Федор Михалч, без фантазии-то революции вам не состряпать! А ведь вы, небось, не за старый режим?
И суматошливые глазки Антонелли вдруг недвижно пронзили лицо его визави.
– Вы ведь, кажется, слышали мнения мои у Михайлы Васильича…
– Слышал, слышал. Да знаю, не все ведь в такой большой компании выскажешь… Вы ведь известный писатель, немало, верно, замыслов про себя таите… Знаем вас, российских Эженов Сю! Там какие-нибудь «петербургские тайны» замыслили и незаметно, мимо носа цензуры, коммунизм проведете в «Отечественные записки». А лучше бы, знаете, тайно…
– Как же так?
– В собственной типографии. Секретным набором, – шептал Антонелли. – Так на Западе действуют. Кажется, ведь и у нас что-то такое замыслили? Правда ведь? Правда?
– Не-нет, не знаю, – отвечал медленно Достоевский.
– Будто? Уж вам ли не знать? Литератору! Полно, знаете! Говорят, заказан станок в разных мастерских, отдельными частями, и где-то будет он собран. Вот это удачная мысль! Вот за это нужно хвалить наших! Это уже зрелый шаг! (Он был вне себя от восторга.) А где соберут его? – бросил он как-то небрежно.
– Вам лучше это знать, – с трудно преодолеваемым отвращением проговорил Достоевский, – ведь не я вам, а вы сообщили мне о типографском станке…
– Так неужто не знаете? А мне так хотелось распространить свой трактат о применении карбонарской организации в России. Вы подумайте только – в Орле, Таганроге, Ревеле малые венты шлют депутатов в центральные ложи Киева, Иркутска, Архангельска, всех трех столиц (разумею и Царство Польское). Рядом с каждым губернским правлением – ячейка всероссийского заговора. За каждым земским исправником – слежка ученика или мастера. В каждом уезде – строжайший надзор и неустанная пропаганда фактами. Все невидимо, даже по внешнему виду благопристойно, а между тем власть подрывается ежеминутно. Председатели казенных палат играют нам на руку, городничие – наши агенты, становые пристава пляшут по нашей дудке. Сеть жандармских округов плотно подбита филиацией всеславянского цеха угольщиков. Из провинции делегируют членов в высшие разряды, ведущие сношения с заграницей. А от них великие избранники направляются в единую верховную венту, незаметно управляющую всею Российской империей из меблированных комнат Штрауха на углу Морской и Гороховой… Недурно, ха-ха?
Было в этих политических планах что-то шутовское. Достоевскому вдруг показалось, что этот итальянчик, как любой петербургский акробат, должен превосходно вращать на мизинце тамбурин или держать на своем длинном носу стул, как славный Киарини или Пацциани из адмиралтейских балаганов.
– Кто же войдет в вашу верховную венту?..
– Представители с мест, а от Петербурга – Спешнев, я и, конечно, вы, Достоевский. Не удивляйтесь. Такими людьми, как вы, должна дорожить революция. Вы по природе – заговорщик, вы агитатор, трибун… О, вы способны убить тирана… Да, да, вы из расы героев-убийц, как Брут, Равальяк…
Достоевский бледнел. «Вы ошибаетесь, я не убийца», – хотелось сказать, но почему-то не выговаривалось…
– Вы поведете толпу на штурм цитаделей, вы завершите последним ударом разгром всего… Вы подумайте только: красный петух в деревнях, а в столицах, в губернских центрах – восстания и травля властей. По всей России – разбой и пьянство! Бунты в армии, распад администрации, хищения, прокламации, публичные скандалы, вымирающие селения, восстающие фабрики, голод, эпидемии, поджоги… И тут-то – кинжал в тирана!
Красный жилет Антонелли, казалось, пылал, как зарево. Оранжевый шелк фуляра взметался, как языки пожарного пламени. Щеки лоснились, блистала губа. Оратор словно хотел вовлечь собеседника в свои страстные прорицания. Но Достоевский молчал и внимательно следил за ним. Он давно уже имел свою мысль об этом чрезмерно разговорчивом и излишне пытливом мятежнике.
– Так неужели же вы, Достоевский, не примете в этом великом деле участия? Неужели же пламенным своим пером не заклеймите тиранов? Быть не может того, никогда не поверю!
Достоевский поднялся. Поправляя плащ, окинул холодным взглядом собеседника.
– Да уж если бы и участвовал, то вам, поверьте, о том не сказал бы.
Антонелли опешил, вильнул своим острым носом и даже привстал.
– Почему же?
– Да так. А кстати, Антонелли (в нем вдруг проснулось желание сразу сорвать с негодяя маску, дерзко пренебречь опасностью – это не раз с ним случалось), вы вот знаток устройства католической церкви, союза карбонариев, всяких там тайных обществ. А вам неизвестно, как Фуше – в своем роде ведь тоже гениальный систематик и устроитель – организовал в Париже при консульстве высшую полицию?
И оба молча, слегка побледнев, прошагали, как два автомата, вдоль тусклой бронзы и пыльного бархата, сквозь гуды органа и дым, из трактира на Невский.
По повелению Его Императорского Величества
В 1849 г. на одном из балов-маскарадов какая-то таинственная маска подошла к Пальму и сказала: «Берегитесь, вас сегодня же ночью будут арестовывать».
Из воспоминаний Е. И. Ламанского
Ночь была в Петербурге. Холодная, с ветром весенняя ночь.
Уже черное небо бледнело, болезненно истончалось, становилось прозрачнее, мертвеннее, малокровнее, и дольше блестела игла с кораблем над воздушной колоннадой Адмиралтейства.
Лед со звоном сошел с Невы, но мосты еще были разведены. Ждали льда с Ладоги. И тонко звенели ночами осколки разбитых покровов по черной реке и стыли на своих пьедесталах фиванские сфинксы, уже явственно различимые в прозрачной завесе хиреющей ночи.
В Петербурге начиналась весна. В шустер-клубах расчищались кегельбаны. Сквозь выставленные рамы явственнее доносились тоненькие переливы тирольских цитершлегеров. «Северная пчела», осторожно и ни в чем не нарушая благоговения перед мудрым и кротким правительством, невинно и мило подшучивала над мокрыми дачами в Полюстрове или Парголове. В самой столице уже усиленно готовились к открытию увеселительных садов и огородов.
Он навсегда запомнил эту последнюю весну своей молодости. В бессоннице бледнеющих ночей слагалась горячая повесть о гениальном и беспутном скрипаче помещичьих оркестров и бродячих трупп, забулдыге и отверженце жизни, матерински обласканном одною запуганной девочкой. Рассказ расстилался, вырастал, развертывался в необычайную историю одной несчастной женщины. Вдруг все оборвалось.
В апрельскую хворую ночь в жизнь его вошла блестящая наголо сабля и что-то навсегда отсекла. Беззвучно, одним своим холодным сверканьем перерезала жизнь надвое, разрубила судьбу. Повисла над ним новым дамокловым мечом на целое десятилетье. Неожиданно и неумолимо повлекла за собой и ввела в его жизнь чужих и грозных людей – тюремщиков, следователей, надсмотрщиков, комендантов и плац-майоров, тесно замкнувших на долгие годы в свой заклятый круг его, государственного преступника Достоевского первого.
На заре голубой подполковник с нижним чином и полицейским приставом усадили его в карету – словно смольнянку или театральную воспитанницу (никогда он не пользовался столько каретами, как в эти нелепые месяцы). Вот Фонтанка, вот опрятное и зловещее здание у Летнего сада. Напротив в бледном свете утра чуть розовеет укрепленный замок нежного цвета перчаток Лопухиной. Карета круто переламывает за угол свой бег. Распахиваются ворота, узкий подъезд, полутемная лестница, – но зато наверху просторный нарядный аванзал. Посреди сверкающий цоколь. На его высоте, склоняя застенчиво нежную голову к плечу и прикрывая легчайшей мраморной тканью от взглядов жандармов и штатских свой девичий торс, светилась тысячелетней улыбкой сама Анадиомена, лукаво и дразняще обнаженная Венера Калипигос.
Откуда попала сюда, в покои Орлова и Дубельта, в этот грозный раздел личной царской канцелярии, пенорожденная Киприда? И для чего воздвигла она свой сияющий торс в этом тюремном преддверии, среди следственных дел, обнаженных сабель и шпорного звона? Не для того ли, чтобы в последний раз радовать взгляды важнейших государственных преступников, перед отправкой их в крепость, на каторгу, на эшафот?
(Недавно только в Париже он стоял перед милосской богиней. Без рук она была еще прекраснее. Казалось, они ей и не были нужны, она словно отказывалась принимать что-либо от жизни, звать, влечь к себе, удерживать… Она и с отсеченными конечностями была победоносна и прекрасна. Сила ее притяжения не требовала иного орудия, чем спокойное совершенство ее черт и сверкающая гармония тела. Но в то петербургское утро Киприда игриво и задорно улыбалась, обнажаясь перед хмурыми сподвижниками Орлова.)
Мимо богини его проводят в белый зал. По углам и вдоль стен – посетители пятниц, но нет самого Петрашевского (неужели прямо в крепость?). Множество незнакомых лиц. Брат Андрюша? Откуда? Растерянно смотрит девица с Невского, весьма миловидная, в шелковом платье, с маленьким зонтом и в шляпке с огненным острым пером. Найдя ее в постели одного из подлежащих аресту в известной гостинице Клея, жандармский капитан доставил и эту добычу в Третье отделение вместе с рукописями и запрещенными книгами.
– Зачем же ее привезли к нам? – с изумлением вопрошал по-французски плотный седой господин во фраке со звездою, – ведь здесь не ночной ресторан, не зал Энгельгарта… Отпустите эту… даму. Voyons, ne soyons done pas ridicules, во всем должен быть смысл.
Это был тайный советник Сагтынский, член следственной комиссии.
И вот снова распахиваются двери. Голубые патрули с обнаженными саблями. И меж них высокий и тонкий, спокойный и уверенный, как всегда, словно ведя за собой твердой поступью двух жандармов, легко и свободно, вошел в белый зал человек необыкновенной и поразительной наружности.
Все взгляды обратились к нему. Жандармский майор метнулся к дверям со своим листом, но, словно смущенный бесстрастьем вошедшего, почти с робостью задал свой вопрос:
– Фамилия?
– Николай Спешнев.
Он стоял, как всегда, прекрасный и невозмутимый, невольно и как-то неосознанно блистая своим челом поэта и мыслителя, весь в черном, в ослепительном белье, бархатном жилете, атласном галстуке. И на этот раз все в нем было сдержанно, законченно и строго. Нисколько не походил он на петербургских щеголей, а скорее напоминал европейских политиков или ученых, как изображали их в то время модные эстампы, прилагаемые к журналам и брошюрам.
И пока он медлительно и бесстрастно ронял свои ответы майору, Достоевский снова жадно всматривался в этот странный облик кроткого Мефистофеля, столь пленивший его своим ироническим и бесстрастным выражением.
Все в этой внешности было доведено до последней степени совершенства и какой-то высшей выразительности: шелковистость темных волос, блеск и непроницаемость глаз, алость губ, отчетливая линия лицевого оклада, изящнейший очерк бровей и безошибочно точный разрез глаз. Казалось, голова эта была отточена самыми гибкими бархатистыми напильниками или тончайшей стеклянной бумагой.
Но при этом поражающем блеске красота его чем-то интриговала, дразнила и смущала зрителя. Возможно, что это впечатление получалось от странной неподвижности этих безукоризненных черт. Казалось, лицо было вылеплено из матового фарфора и только местами тронуто киноварью игрушечного мастера. Это была почти кукольная голова с образцовым и тонким овалом, ярко-вишневыми и слегка припухлыми губами. Глаза его смотрели недвижно и непроницаемо, каким-то многомысленным и загадочным взглядом, с остановившимся и тревожащим блеском, словно способным заворожить и внушить свою волю. Улыбка, еле заметная, почти неуловимая, и все же раздражающая, змеилась в уголках этих сочных гранатовых уст. Лучистая светлость и ледяная бесстрастность облика вызывали в памяти изображения древних кумиров, а безоблачная ясность знания, разлитая во взгляде, напоминала чем-то голову тициановского равви перед фарисеем, протягивающим монету.
Тайный советник Сагтынский в тоне тончайшей светской приветливости, почти извиняясь, сгибал свой тучный стан под холодным взглядом Спешнева, предлагая ему присесть, подождать, обещая с улыбкой хлебосола сигары и завтрак. Тот недвижно смотрел на него, ничего не отвечая.
Достоевскому вспомнились их первые встречи. В то время он еще не утратил юношеской способности влюбляться в красавцев, облеченных чарами таланта, необычайной биографии или внешней неотразимости. Спешнев завладел его воображением. Что Тургенев! Вот настоящий властитель душ, призванный вести за собой людей и повелевать ими, аристократ, богач и красавец, отдающий себя всего на служение отверженному человечеству.
Первоначально эта слепящая и раздражающая красота не только глубоко поразила, но одновременно как-то мучительно смутила и даже чем-то испугала. Слишком уж явственно сказывалось превосходство этого нового лица перед всеми «нашими» и даже перед самим великим пропагатором – Петрашевским, фатально терявшим в глазах своих слушателей авторитет вождя, как только в круг их являлась молчаливая фигура этого участника европейских политических и рабочих союзов, автора важнейших научных исследований о тайных обществах и знаменитых заговорах, сражавшегося на чужбине в рядах отважнейших инсургентов. Такая слава таинственно окутывала его, порождая легендарные толки о чрезвычайных поручениях, возложенных на него каким-то высшим комитетом европейской революции в целях подготовки отсталой России к всеобщему перевороту; говорили о каком-то всемирном заговоре, в осуществлении которого Спешневу назначена роль начальника штаба славянских повстанцев, их зажигателя и предводителя, и много таких же неясных, чрезвычайно тревожащих и во многом непонятных слухов бродило о нем.
Достоевский любил, не отрываясь, следить за ним на собраниях, во время прений, когда он внимательно слушал ораторов, изредка как бы срезая шумную разноголосицу мнений своей отточенной фразой. Пред всеми теоретиками пятниц он имел великое преимущество прямолинейных и решительных суждений. Когда один из коломенских фурьеристов отстаивал мысль, что новое учение об устройстве человечества перенесет древний завет о любви к ближнему в научно организованные общины, Спешнев сдержанно, но как-то неопровержимо заметил:
– Любовь к ближайшему даст нам армия граждан с сильными руками.
Когда Петрашевский изложил однажды принципы переустройства крепостной деревни в фаланстеру, Спешнев медленно, но как бы диктуя новый закон для высекновения его на скрижали, произнес:
– Нам нужна не фаланстера, а стальная организация заговорщиков с неумолимо строгой иерархией, обязывающей каждого члена беспрекословно повиноваться приказам неизвестных инстанций.
– Но ведь это может нарушить мирные пути к реформе общества и привести к тирании немногих, к насилию и даже антропофагии…
– Гракх Бабеф считал, что социальные замыслы нужно осуществлять с оружием в руках.
– Но французская революция захлебнулась в крови…
Еле заметная усмешка тронула коралловый рот Спешнева.
– Французская революция – только предтеча другой, более великой и более величественной революции, которая будет последней в истории человечества.
* * *
…В белом зале Третьего отделения не прекращается шум. Все утро – суета, перекличка, проверка, опросы. В полдень среди трепета всех жандармов и чиновников появился сам граф Орлов, высокий и тонкий, с крохотной, как булавка, головой. Укоризненно звучал горестный голос оскорбленного в лучших чувствах отца:
– Будьте же чистосердечны. Царь в неизреченном своем милосердии предоставляет раскаявшимся с первых допросов обрести снисхождение…
К вечеру стали по списку кое-кого вызывать в кабинет к Дубельту. Уже прошли и не вернулись обратно Момбелли, Спешнев, гвардеец Григорьев.
– Отставной поручик Достоевский первый!
Его ведут бесконечными коридорами – направо ряд камер, налево глухая стена. На дверях надписи: «Казначейская», «Канцелярия для производства дел по преступлениям государственным»… А вот наконец: «Кабинет управляющего III отделением».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.