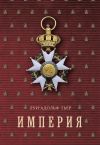Текст книги "История Французской революции. Том 2"

Автор книги: Луи-Адольф Тьер
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Глава XXIX
Казни в Лионе, Марселе и Бордо – Процесс Марии-Антуанетты, ее приговор и казнь – Второй закон о максимуме – Учреждение новой системы весов и мер и республиканского календаря – Учреждение поклонения Разуму
Революционные меры, постановленные для спасения Франции, выполнялись по всей стране с крайней строгостью. Придуманные пламенными головами, эти меры в самой основе своей были жестоки; выполняемые же вдали от людей, задумавших их, в более низкой сфере, где вследствие меньшей просвещенности страсти более отзывались зверством, они делались еще более жестокими в применении. Часть граждан принуждали к переселению, а других арестовывали в качестве подозрительных; припасы и товары силой отнимали для продовольствования армий; назначили чрезвычайную повинность для быстрой перевозки транспортов, а взамен требуемых товаров выдавали только ассигнации или билеты казначейства, не внушавшие никакого доверия. Раскладка принудительного займа производилась быстро; лица, назначенные для этого от коммун, говорили одним: «У вас 10 тысяч франков дохода», а другим: «У вас 20 тысяч». И все должны были беспрекословно отдавать требуемую сумму.
Произволу был дан обширный простор, и следствием стали ужасные притеснения и несправедливость. Но армии наполнялись людьми, припасы в изобилии развозились по складам, и миллиард ассигнациями начинал понемногу изыматься из обращения. Невозможно без больших страданий действовать с такой быстротой и спасти государство, которому со всех сторон грозит погибель.
Везде, где близость опасности требовала присутствия комиссаров Конвента, революционные меры отличались особенной строгостью. Близ границ и во всех департаментах, подозреваемых в роялизме или федерализме, забирали в ополчение чуть ли не всё население, всё без исключения подвергали реквизициям, налагали на богатых поборы деньгами сверх общего побора в виде принудительного займа, торопили с арестом подозрительных.
Комиссар Лапланш, посланный в департамент Шер, говорил в Клубе якобинцев: «Я всюду надлежащим образом водворил террор; всюду возложил на богатых и аристократов контрибуции. Орлеан дал мне 50 тысяч ливров, и двух дней в Бурже мне было достаточно, чтобы взять с этого города два миллиона. Так как я не мог везде быть сам, то мои делегаты замещали меня. Некто Мамен, богач, имевший до семи миллионов, принужденный отдать 40 тысяч ливров, пожаловался Конвенту, но Конвент одобрил мои действия. Имей я сам дело с этим человеком, я бы взял с него два миллиона. В Орлеане я потребовал у моих делегатов публичного отчета; они дали его на заседании народного общества, и народ утвердил и одобрил этот отчет. Я везде распорядился расплавить колокола и соединил по нескольку приходов в один. Я отрешил от должностей всех федералистов, заключил подозрительных под стражу, дал послабления санкюлотам. Священники пользовались в арестных домах всеми удобствами, а санкюлоты спали на соломе в тюрьмах: первые снабдили меня тюфяками для последних. Я везде наэлектризовал умы и сердца, организовал оружейные заводы, обошел мастерские, больницы, тюрьмы. Отправил несколько батальонов ополчения, дал смотры множеству местных гвардий, чтобы вдохнуть в них республиканский дух, и велел гильотинировать нескольких роялистов. Одним словом, я выполнил возложенное на меня поручение и везде действовал как горячий монтаньяр, как представитель Революции».
На три главных федералистских города – Лион, Марсель и Бордо – представители наводили самый глубокий ужас. Грозный декрет против Лиона гласил, что мятежников и их сообщников будет по законам военного времени судить особая комиссия, что санкюлоты будут кормиться за счет аристократов, что дома богатых людей будут уничтожены и городу дадут другое имя. Выполнение этого декрета было поручено Колло д’Эрбуа, Мон-то и Фуше, депутату из Нанта. Они отправились в Освобожденную коммуну и взяли с собой сорок якобинцев, чтобы организовать новый клуб и распространить в городе принципы якобинцев. Ронсен последовал за ними с двумя тысячами революционного войска – и начались неистовства.
Представители собственноручно нанесли первый удар молотом по одному из домов, обреченных на слом, и восемьсот рабочих тотчас принялись разрушать красивейшие здания и улицы. Казни начались в то же время. Жители, которые подозревались в том, что брали в руки оружие против Республики, попадали на гильотину или под расстрел по 50–60 человек в день. В несчастном городе воцарился террор. Комиссары, увлеченные, опьяненные кровопролитием, воображая при каждом вопле страдания, что вновь начинается бунт, писали Конвенту, что аристократы еще не усмирены, а ждут только случая устроить контрреволюцию, и, для того чтобы уничтожить всякий повод к опасениям, следует истребить половину населения, а другую – переселить.
Применяемые до сих пор средства стали казаться недостаточно энергичными. Колло д’Эрбуа предложил уничтожать здания порохом, а приговоренных к смерти расстреливать картечью и написал Конвенту, что скоро пустит в ход средства более скорые и действенные для наказания непокорного города. В Марселе уже пало несколько голов; но весь гнев представителей был обращен против Тулона, осада которого продолжалась.
В Жиронде мщение совершалось с истинным бешенством. Изабо и Тальен, разместившись в Ла-Реоле, занимались составлением отряда революционных войск, а пока старались посеять раздор между секциями в самом Бордо. В этом им помогала одна вполне преданная Горе секция, которой удалось запугать остальные, закрыть все федералистские клубы и сменить департаментские власти. Тогда Изабо и Тальен с триумфом вступили в город и восстановили муниципалитет и городские власти из приверженцев Горы. Тотчас после того они издали постановление, гласившее, что Бордо переходит на военное положение, что у всех жителей отберут оружие, аристократов и федералистов будет судить особая комиссия и с богатых немедленно соберут денежный побор для покрытия расходов по содержанию революционной армии. Это постановление было тут же приведено в исполнение: граждане остались без оружия, а головы посыпались.
Как раз в это время бежавшие депутаты, отплывшие из Бретани, прибыли в Бордо. Они все искали прибежища в поместье родственницы Гюаде, в Сент-Эмильо-не. Об этом имелись лишь смутные сведения, и Тальен прилагал все усилия, чтобы найти их. Это долго ему не удавалось, но он успел изловить Бирото, приехавшего из Лиона, чтобы сесть на корабль в Бордо. Так как Бирото уже находился вне закона, Тальен, формально удостоверившись в его личности, сейчас же, без суда, велел казнить его. Дюшателя тоже нашли, но он не был объявлен вне закона, и потому его увезли в Париж для суда. С ним вместе были отправлены три молодых друга: Риуф, Жире-Дюпре и Марчена, давно примкнувшие к жирондистам.
Так все большие города Франции подвергались мщению Горы. Но Париж, наполненный именитейшими жертвами, вскоре должен был сделаться поприщем еще больших жестокостей.
Пока готовился процесс Марии-Антуанетты, жирондистов, герцога Орлеанского, Байи и множества генералов и министров, тюрьмы наполнялись подозрительными. Парижская коммуна, как мы уже не раз говорили, присвоила себе нечто вроде законодательной власти во всем, что касалось полиции, продовольствия, торговли и вероисповедания, и вслед за каждым декретом издавала пояснительное постановление, имевшее целью ограничить или расширить исполнение воли Конвента. По представлению Шометта коммуна до последней степени расширила определение «подозрительных лиц», данное законом 17 сентября. Шометт в специальной муниципальной инструкции перечислил все приметы, по которым их следовало узнавать. Эта инструкция, выданная всем секциям столицы, а затем и всей страны, была составлена в следующих выражениях:
«Подозрительными должны считаться:
1) те, кто в народных собраниях удерживает энергию народа хитроумными речами, буйными криками и угрозами;
2) кто с большой осторожностью и неопределенно говорит о несчастьях Республики, выражает соболезнование участи народа и всегда готов распускать дурные слухи с притворной горечью;
3) кто менял свое поведение и речи в зависимости от событий; кто, безмолвствуя о злодеяниях роялистов и федералистов, напыщенно ораторствуют против ничтожных ошибок патриотов и напускают на себя, чтобы казаться республиканцами, строгость, суровость, но тотчас уступают, если речь идет об умеренном или об аристократе;
4) кто жалеет откупщиков и жадных торговцев, против которых закон вынужден принимать меры;
5) кто, беспрестанно толкуя о Свободе, Республике и Отечестве, общаются с бывшими дворянами, священниками, контрреволюционерами, аристократами, фельянами и умеренными;
6) кто не принимал деятельного участия в революции и в оправдание себе ссылаются на уплату контрибуций и свои патриотические пожертвования;
7) кто равнодушно встретил республиканскую Конституцию и выражал ложные опасения относительно ее учреждения и долговечности;
8) кто, ничего не сделав против свободы, ничего также не сделал и для нее;
9) кто нечасто бывает на собраниях своих секций и отговаривается тем, что не умеет говорить или что мешают дела;
10) кто с презрением отзывается об учрежденных властях, символах закона, народных обществах и защитниках свободы;
11) кто подписывал контрреволюционные петиции или бывал в антигражданских обществах и клубах;
12) кто умышленно поступал неискренне; а также приверженцы Лафайета и те, кто ходил в атаку на Марсовом поле».
При таком определении подозрительным не было конца, и их число в парижских тюрьмах вскоре возросло от нескольких сотен до трех тысяч. Сначала подозрительных помещали в тюрьмы Ла Форс, Консьержери, Аббатства, Сен-Пелажи и Мадлонетт, словом, во все обычные казенные тюрьмы; но этих обширных помещений скоро оказалось недостаточно и пришлось устроить особые арестантские дома, исключительно для политических заключенных. Так как они содержались за свой собственный счет, то и эти дома нанимались на их деньги. Один такой дом был устроен на улице Анфер под названием Пор-Либр, другой, Сен-Лазар, – на Севрской улице. Таким же домом-тюрьмой стал колледж Плесси; наконец, Люксембургский дворец, сначала назначенный местом заточения двадцати двух жирондистов, оказался набит множеством арестантов, остатками блестящего общества предместья Сен-Жермен.
Вследствие переполненности тюрем новым арестантам первое время было очень неудобно. На соломе, находясь вместе с простыми преступниками, они жестоко страдали; но со временем наступил некоторый порядок, а вместе с ним появились и разные льготы. Сношения с внешним миром дозволялись, так что арестанты получили возможность видеться со своими родными и могли добывать какие-то деньги. Тогда несчастные приобрели кровати и были отделены от уголовных преступников. Им позволяли иметь удобства, могущие сделать их положение сносным, так как декрет разрешал приносить в арестантские дома всё, что может понадобиться.
В Пор-Либре, в Сен-Лазаре, в Люксембургском дворце, где помещались заключенные из высших классов, водворились опрятность и относительное довольство. Пища была даже изысканной благодаря пошлине, которую тюремщики брали за пропуск. Однако количество посетителей сделалось слишком значительным, к тому же это показалось слишком большой милостью, и арестанты лишились этого утешения; сноситься с кем-нибудь теперь дозволялось только письменно и то лишь для того, чтобы требовать нужные предметы. С этой минуты между узниками установились более близкие отношения. Осужденные жить вместе стали сближаться согласно своим вкусам. Образовались кружки, составились правила и расписания. Узники распределили между собой хозяйственные работы в порядке очереди. Была открыта подписка на расходы по части квартир и стола, и более богатые частично платили за небогатых.
Закончив с заботами по хозяйству, жители комнат собирались в общих залах. Вокруг стола, печи или камина рассаживались группами. Работали, читали, разговаривали; поэты декламировали стихи; музыканты давали концерты; и в этих домах печали каждый день можно было слышать отличную музыку. Скоро явилась и роскошь. Женщины стали наряжаться; завязались дружеские и любовные связи – словом, до самого кануна смерти на эшафоте происходило всё то, что обыкновенно происходит в обществе. Поистине поразительное проявление французского характера с его беспечностью, веселостью, способностью извлекать удовольствие из всякого положения!
Добровольное равенство реализовало тут в действительности тот невозможный призрак равенства, который политические сектанты-изуверы хотели водворить искусственно. Не странно ли, что удалось им это только в тюрьмах, и то помимо собственной воли?
Правда, надменность некоторых узников не поддалась даже этому равенству несчастья. В то время как люди, отнюдь не равные по состоянию, образованию и рождению, отлично уживались вместе и с изумительным бескорыстием радовались победам той самой Республики, которая подвергала их таким гонениям, некоторые бывшие дворяне жили в опустевших особняках предместья Сен-Жермен, величая друг друга запрещенными титулами, и не скрывали своей досады, когда при них говорили, что австрийцы бежали при Ваттиньи или что пруссаки не смогли перейти Вогезских гор. Впрочем, горе заставляет все сердца возвратиться к природе и общечеловеческим чувствам: вскоре, когда Фукье-Тенвиль стал ежедневно стучаться в двери этих обителей печали, требуя всё новых жертв, когда друзей и родных каждый день стала разлучать смерть, тогда остававшиеся стали грустить вместе, утешать друг друга и уже жили одной жизнью среди общих несчастий.
Тюрьма Консьержери, прилегавшая к судебному зданию и потому служившая местом заключения для лиц, ожидавших трибунала, представляла самое печальное зрелище: там сидели несколько сотен несчастных, которым оставалось жить три или четыре дня. Они переводились туда лишь накануне суда и проводили там краткий промежуток времени между судом и казнью. Сейчас там находились жирондисты, переведенные из Люксембургского дворца; жена Ролана, которая, устроив бегство мужа, сама не думала бежать и дала себя арестовать; Риуф, Жире-Дюпре и Буагюйон, привезенные в Париж из Бордо, чтобы быть судимыми вместе с друзьями-жирондистами; Байи, арестованный в Мелёне; бывший министр финансов Клавьер, которому не удалось бежать, подобно Лебрену; герцог Орлеанский, привезенный из Марселя; генералы Гушар и Брюнэ; наконец, злополучная Мария-Антуанетта, которой было суждено взойти на эшафот первой из всех этих славных жертв. В Консьержери никто не думал об удобствах, облегчавших жизнь в других тюрьмах. Узники помещались в мрачных, печальных кельях, куда не проникали ни свет, ни утешение, ни удовольствия. Они едва пользовались одной роскошью: спать на постелях, а не на соломе.
Так как эти узники уже не могли отвлечься от образа смерти (в отличие от тех кто был всего лишь под подозрением и потому надеялись просидеть только до заключения мира), то они сделали себе из него забаву и сочиняли самые странные пародии на Революционный трибунал и гильотину. В полночь, когда тюремщики засыпали, начинались эти мрачные увеселения. Жирондисты в особенности часто импровизировали и разыгрывали дикие и страшные драмы, сюжетом которых были их собственная участь и Революция. Вот что придумал один из них. Они садились по кроватям, представляя судей и присяжных Революционного трибунала и самого Фукье-Тенвиля. Двое стояли напротив – в качестве подсудимого и защитника. Согласно обычаю этого кровавого судилища, приговор произносился только обвинительный. Приговоренного тотчас же клали в растяжку на доску и совершали над ним все обряды казни до мельчайших подробностей. После множества проведенных «казней» обвинитель, в свою очередь, становился подсудимым и ложился на доску. Потом он приходил, покрытый простынею, описывал мучения, которые терпел в аду, прорицал безбожным судьям ожидавшую их участь, бросался на них, с жалобными воплями увлекая в преисподнюю… «Так-то, – писал Риуф, – мы шутили в недрах самой смерти и в наших пророческих играх говорили правду среди наушников и палачей».
Уже со смерти Кюстина образовалась своего рода привычка к политическим процессам, в которых обычные убеждения вменялись в преступление, заслуживающее смерти. Кровавая практика приучила людей изгонять всякое зазрение совести и находить эшафот совершенно естественным исходом для всякого члена противной партии. Кордельеры и якобинцы добились декретов о предании суду королевы, жирондистов, нескольких генералов и герцога Орлеанского. Они настойчиво требовали, чтобы правительство сдержало данное слово, и горели нетерпением начать этот длинный ряд закланий именно с королевы. Женщина могла, казалось бы, обезоружить политическую ярость; но ненависть к Марии-Антуанетте была еще сильнее, чем к Людовику XVI. Ее, а не его обвиняли в придворных предательствах, в растратах казны и в особенности в ожесточении, с которым Австрия вела войну. Людовик XVI, говорили, всё давал делать другим, но Мария-Антуанетта всё делала сама; кара за всё должна была пасть на нее.
Мы уже видели, какие перемены произошли в Тампле. Мария-Антуанетта была разлучена с сестрой, дочерью и сыном в силу декрета, которым последние члены рода Бурбонов объявлялись подлежащими суду или ссылке в колонии. Ее перевели в Консьержери. Там, одинокая, заключенная в тесной келье, она получала лишь самое необходимое наравне со всеми прочими узниками. Неосторожность одного преданного друга сделала ее положение еще более тяжелым. Член муниципалитета Мишони, которому она внушала живое участие, вздумал привести к ней незнакомца, желавшего, по его словам, взглянуть на нее из любопытства. Этот незнакомец был эмигрантом; бесстрашный, но неосторожный, он подкинул ей цветок-гвоздику, в котором была спрятана крошечная бумажка со следующими словами: «Ваши друзья готовы». Ложная надежда, столь же опасная для той, кому она подавалась, сколь и для того, кто подавал ее! Мишони и эмигрант были замечены и тут же арестованы, а бедная узница с этой минуты подверглась еще более бдительному надзору. Жандармы постоянно караулили у двери ее темницы, и им было строго запрещено вступать с ней в разговор.
Гнусный Эбер, помощник Шометта и редактор отвратительного листка «Отец Дюшен», ставил перед собой задачу замучить оставшихся в живых несчастных членов развенчанной семьи. Он доказывал, что семейство тирана не должно иметь никаких преимуществ перед семейством любого санкюлота, и заставил коммуну издать постановление, запрещавшее даже ту малую долю роскоши, которая дозволялась в содержании пленной семьи. Им перестали подавать домашнюю птицу и пирожное; завтрак их состоял из одного блюда, обед – из супа, вареной говядины и еще чего-нибудь, ужин – из двух блюд; вина полагалось только по полбутылки. Восковые свечи заменились сальными, серебро – оловом, фарфор – фаянсом. В комнаты пленниц могли входить только люди, носившие им дрова и воду, да и то в сопровождении двух комиссаров. Пища доставлялась посредством вертящегося шкафчика; от многочисленной прислуги были оставлены только повар с помощником, два служителя и женщина для присмотра за бельем.
Как только вышло это постановление, Эбер отправился в Тампль и самым бесчеловечным образом отнял у пленниц даже несколько безделушек, которыми они очень дорожили, и восемьдесят луидоров принцессы Елизаветы, которые она получила от принцессы Ламбал ь и очень берегла. Нет ничего зловреднее человека, не имеющего ни образования, ни хорошего воспитания и внезапно облеченного большой властью. А уж если у него вдобавок низкая душа, если он, подобно Эберу, который в свое время раздавал контрамарки у входа в театр и крал часть выручки, не имеет врожденного нравственного чувства, то подлость и жестокость будут поистине бесконечны.
Таким именно показал себя Эбер в Тампле. Он не довольствовался описанными притеснениями: придумали разлучить маленького принца с его теткой и сестрой. Башмачник Симон и его жена – вот воспитатели, которым сочли нужным поручить дофина, с тем чтобы воспитать его в духе санкюлотов. Симон с женой заперлись в Тампле и, сделавшись пленниками вместе с несчастным ребенком, принялись ухаживать за ним по-своему. Пища у них была лучше, чем у принцесс, потому что они получали тот же стол, что дежурные муниципальные комиссары, и в сопровождении двух комиссаров Симон мог выходить с ребенком во двор, чтобы дать ему погулять.
Эберу пришла в голову гнусная мысль вырвать у этого ребенка показания против его несчастной матери. Сочинил он сам эти показания или, злоупотребляя юными годами и жалким состоянием мальчика, заставил его сказать всё, что ему было нужно, – словом, составились возмутительные письменные показания, и так как года дофина не позволяли вести его в суд, то Эбер решил сам пересказать все сочиненные или надиктованные гадости.
Четырнадцатого октября Мария-Антуанетта явилась перед своими судьями. Заранее обреченная, она не имела ни малейших шансов быть оправданной: не для того якобинцы потребовали над нею суда. Однако всё же следовало предъявить обвинение. Фукье собрал все слухи, ходившие в народе с самого прибытия королевы во Францию. В своем обвинительном акте он утверждал, что она растратила государственную казну, – сначала на свои удовольствия, потом на отправку больших сумм своему брату, австрийскому императору. Фукье-Тенвиль особенно напирал на сцены 5 и 6 октября и на обед лейб-гвардейцев, уверяя, что королева именно в это время составила заговор, заставивший народ отправиться в Версаль, чтобы расстроить его. Прокурор, наконец, обвинил ее в том, что она прибрала к рукам мужа, вмешивалась в назначения министров, сама вела интриги с депутатами, переманенными двором, подготовила поездку в Варенн, стала причиной войны и выдавала неприятельским полководцам все планы кампании. Еще Марию-Антуанетту обвинили в том, что она устроила заговор 10 августа, велела стрелять по народу и уговаривала мужа защищаться, укоряя его в трусости, а затем, во время своего заключения в Тампле, не переставала интриговать и поддерживать сношения с внешним миром и обращалась со своим маленьким сыном как с королем. Вот как всё извращается и вменяется в преступление в тот грозный день, когда долго копившееся народное мщение наконец разражается и обрушивается именно на тех государей, которые не заслужили его; видно, в каком свете раздраженному или озлобленному воображению представлялись расточительность и любовь к удовольствиям, столь естественные в молоденькой принцессе и государыне, ее привязанность к своему отечеству, ее сожаления о прошлом, всегда менее сдерживаемые женщиной, чем мужчиной, наконец, ее смелость и мужество.
Нужны были свидетели: вызвали Лекуэнтра, версальского депутата, участвовавшего в событиях 5 и 6 октября; Эбера, часто бывавшего в Тампле; чиновников различных министерств и служителей бывшего двора. Даже из тюрем были приведены свидетели: адмирал д’Эстен,
бывший начальник версальской гвардии; Латур дю Пен, бывший военный министр; почтенный старец Байи, будто бы являвшийся, вместе с Лафайетом, соучастником поездки в Варенн; наконец, Валазе, один из жирондистов, обреченных на казнь.
Точного, определенного факта не было приведено ни одного. Кто-то видел королеву веселой, когда лейб-гвардейцы выражали ей свою преданность; кто-то – печальной и сердитой, когда ее ввозили в Париж или везли из Варенна; одни присутствовали на пышных празднествах, непременно стоивших громадных сумм; другие слыхали в министерствах, что королева противится утверждению декретов. Одна женщина, служившая при дворе, еще в 1788 году слышала, как герцог Куаньи говорил, что австрийский император уже получил из Франции двести миллионов на войну с турками.
Циник Эбер, поставленный перед несчастной государыней, наконец осмелился перечислить показания, вырванные у маленького принца. Он сказал, что Шарль Капет описал Симону поездку в Варенн и назвал Лафайета и Байи главными организаторами. Потом он присовокупил, что ребенок имеет пагубные пороки, преждевременные, если судить по его годам; что Симон, нечаянно застав его и расспросив, узнал, что этим порокам научила его мать. Эбер пояснил, что Мария-Антуанетта, с самых ранних пор расслабляя организм своего сына, вероятно, хотела обеспечить себе власть над дофином – на случай, если бы он когда-нибудь взошел на престол. Слухи, носившиеся в течение двадцати лет о действительно развратном дворе, внушили народу самое неблагоприятное мнение о нравах королевы; однако даже публику в зале, всю состоявшую из якобинцев, возмутили обвинения Эбера. Он же имел наглость еще настаивать.
Несчастная мать не отвечала; когда же к ней обратились отдельно, требуя, чтобы она объяснилась, Мария-Антуанетта сказала с чрезвычайным волнением: «Я полагала, что сама природа избавит меня от необходимости отвечать на подобное обвинение; но я взываю к сердцу всех матерей, здесь присутствующих». Эти простые, исполненные благородства слова потрясли всех.
Не все, однако, свидетельские показания были так тяжелы для Марии-Антуанетты. Честный д’Эстен, хоть она и была его врагом, ничего не показал против и говорил только о мужестве, выказанном королевой 5 и 6 октября, и о ее благородной решимости скорее умереть подле мужа, нежели бежать. Манюэль, несмотря на свои враждебные отношения с двором, объявил, что ничего не может сказать против подсудимой. Когда к присяге был приведен почтенный Байи – Байи, столько раз предсказывавший двору бедствия, которые тот навлечет на себя своими безрассудствами, – старец был глубоко опечален. Когда его спросили, знает ли он жену Капета, он ответил с почтительным поклоном: «Да, я знавал милостивую государыню». Байи объявил, что ничего не знает, что показания, вырванные у дофина касательно поездки в Варенн, ложны. В награду за такие показания он был осыпан ругательствами, из чего мог судить об ожидавшей его участи.
Во время всего допроса выяснились только два тяжких факта, засвидетельствованные Латур дю Пеном и Валазе, которые дали показания только потому, что никак не могли увернуться. Латур дю Пен признался, что в бытность его военным министром Мария-Антуанетта просила у него точный список армий. Валазе, неизменно холодный, но почтительный, не хотел говорить ничего, что могло бы повредить подсудимой, однако не мог не заявить, что, когда он, будучи членом комиссии, проверял бумаги, найденные у казначея, выдававшего суммы на содержание короля, он видел бонды, подписанные королевой, что было вполне естественно. Но Валазе присовокупил, что видел еще письмо, в котором министр просил короля передать королеве копию плана кампании, бывшего у него. Эти два факта – требование списка армий и сообщение плана кампании – были истолкованы в самую дурную сторону: вывели заключение, что королева потребовала того и другого, чтобы переслать неприятелю, не находя вероятным, чтобы молодая государыня занималась административными делами и военными планами из любви к этим материям.
За этими показаниями последовали еще другие – касательно придворных расходов, влияния королевы в делах, происшествий 10 августа, всего, что делалось в Тампле… Самые смутные слухи, самые незначительные обстоятельства были признаны доказательствами.
Мария-Антуанетта много раз с большим присутствием духа и твердостью повторяла, что против нее нет ни одного неопровержимого факта, что в качестве супруги Людовика XVI она не ответственна ни за что, совершавшееся в его царствование. Фукье-Тенвиль тем не менее объявил улики достаточными. Шово-Лагард тщетно старался защитить ее – несчастная государыня была приговорена так же, как и ее муж.
Возвратившись в Консьержери, она довольно спокойно провела ночь перед казнью. Утром 16 октября Марию-Антуанетту отвезли, окруженную толпами народа, на ту же роковую площадь, на которой десятью месяцами раньше окончил свою жизнь Людовик XVI. Она спокойно слушала увещания сопровождавшего ее духовного лица и обводила равнодушным взором этот народ, столько раз восхищавшийся ее красотой, а теперь не менее энергично восхищавшийся ее унижением и казнью. Уже у подножия эшафота она увидела дворец Тюильри и выказала некоторое волнение, но поспешила подняться по роковым ступенькам и мужественно отдалась в руки палачей. Главный палач показал народу голову, как он это делал всегда, казнив именитую жертву.
Якобинцы были вне себя от радости. «Пусть это известие будет сообщено Австрии! – говорили они. – Римляне продавали земли, занятые Ганнибалом, мы же рубим головы, самые дорогие государям, вторгшимся на нашу землю!»
Но это было еще только начало мщений. Тотчас после суда над Марией-Антуанеттой приступили к суду над жирондистами, заключенными в Консьержери.
До восстания Юга жирондистов можно было упрекать только в тех или других мнениях. Говорили, правда, что они сторонники Дюмурье, Вандеи, герцога Орлеанского; но это легко было говорить с кафедры, доказать же было невозможно даже перед трибуналом. Однако с того дня, как они подняли знамя междоусобной войны и враги их могли привести против них определенные факты, осудить их становилось легко. Конечно, депутаты, содержавшиеся в Консьержери, были не теми же самыми, что вызвали восстание в Кальвадосе и в южных провинциях, но они были членами той же партии, опорами того же дела; имелось твердое убеждение, что одни сносились с другими. И хотя перехваченные письма не доказывали соучастия, но их было более чем достаточно для суда, который по самому своему свойству удовлетворялся вероятностью.
Так вся умеренность жирондистов превратилась в обширный заговор, развязкой которого стала междоусобная война. Медлительность, с которой они в Законодательном собрании восстали против престола, их сопротивление проекту 10 августа, борьба с коммуной с 10 августа до 20 сентября, протест против резни в тюрьмах, сострадание к Людовику XVI, оппозиция против инквизиторской системы, бесившей военачальников, и против трибунала, максимума и принудительного займа, наконец, старания основать сдерживающую власть (основание Комиссии двенадцати) и отчаяние после поражения в Париже, заставившее обратиться к провинциям, – всё это теперь истолковывалось в духе цельного, стройного заговора. По этой обвинительной системе мнения, высказанные с кафедры, были только сигналами, подготовкой к междоусобной войне, вспыхнувшей вскоре, и каждый, кто говорил в Конвенте так, как говорили депутаты, удалившиеся в Кан, Бордо, Лион и Марсель, был виновен наравне с ними. Хотя не было прямых доказательств сообщничества, таковые находили в общих убеждениях этих людей, дружбе, связывавшей большую часть из них, в их частых собраниях у Ролана и Валазе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?