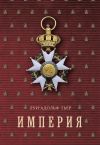Текст книги "История Французской революции. Том 2"

Автор книги: Луи-Адольф Тьер
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Одна звонкая монета оставалась неизменной мерой ценностей, а ничто так не вредит спорным бумажным деньгам, как соперничество денег металлических. Последние ежатся и прячутся, тогда как первые предлагаются в изобилии и этим роняют себя. Революция, роковым образом вынужденная прибегать к насильственным мерам, не могла остановиться. Она выпустила в принудительный оборот еще не реализованную ценность национальных имуществ; вольно или невольно она должна была стараться поддерживать их курс принудительными же мерами. Одиннадцатого апреля, вопреки жирондистам, которые боролись против роковой революционной необходимости честно, но неосторожно, Конвент издал закон, приговаривавший к шести годам каторги каждого, кто станет продавать металлические деньги, то есть менять известное количество золота или серебра на номинально большее количество ассигнаций. Такое же наказание предусматривалось для тех, кто оценивает свой товар в зависимости от того, звонкой монетой или ассигнациями производится уплата за него.
В июне один металлический франк равнялся трем франкам ассигнациями, а в августе, всего двумя месяцами позднее, – шести; то есть ценность ассигнаций упала ровно наполовину.
При таком положении дел торговцы не продавали своих товаров по прежним ценам, так как предлагавшаяся им монета представляла лишь пятую или шестую долю своей номинальной цены. Все должники спешили платить свои долги, и кредиторы, вынужденные принимать фиктивную ценность, получали лишь одну четверть, одну пятую или шестую долю своего капитала. Наконец, рабочий люд, всегда находясь перед необходимостью предлагать свои услуги, продавать их каждому желающему купить их, не умея еще сговариваться, чтобы удваивать или утраивать заработную плату, по мере того как ассигнации падали в такой же пропорции, получал лишь часть того, что ему требовалось для покупки предметов первой необходимости. Торговец, наполовину разоренный, злился молча; но народ бесновался, называл торговцев скупщиками и душегубами и требовал, чтобы их отправили на гильотину.
Это прискорбное положение было естественным следствием выпуска ассигнаций, так же, как выпуск ассигнаций был неизбежным следствием выплаты старых долгов и расходов разорительной войны. По тем же причинам скоро должно было последовать назначение максимума. В самом деле, какой был бы прок в принудительном курсе, если бы торговцу удавалось простым повышением цен избавиться от необходимости покориться ему? Надо было сделать курс товаров таким же принудительным, как курс монеты. Уж если закон сказал, что «такая-то бумага стоит шесть франков», он должен был сказать также, что «такой-то товар стоит только шесть франков», иначе торговец, назначив этому товару цену в двенадцать франков, обходил закон.
Следовательно, пришлось, вопреки мнению жирондистов, приводивших превосходные доводы, почерпнутые из экономической науки, назначить максимум цен на хлеб. Величайшее страдание для народа – это недостаток хлеба. Голод более давал себя чувствовать в Париже, нежели где-либо во Франции, потому что труднее было набрать запасы для этого громадного города; рынки его отличались большей неуправляемостью, фермеры боялись там показываться. Конвент не мог не издать 3 и 4 мая декрет, обязывавший всех торговцев хлебом объявлять, сколько у них хлеба, промолоть хлеб, хранившийся в скирдах, начать возить его на рынки и продавать по принудительным средним ценам, назначаемым каждой коммуной. Никому не дозволялось закупать для своего домашнего обихода более чем на месяц; кто покупал или продавал по цене выше максимума, подлежал пене в размере от трехсот до тысячи франков.
Начали проводить обыски для проверки показаний; кроме того, таблицы всех показаний должны были посылаться муниципалитетами министру внутренних дел, чтобы по ним можно было составить общую статистику продовольствия во Франции. Парижская коммуна, присовокупляя свои полицейские постановления к декретам Конвента, сверх того издала расписание для раздачи хлеба в пекарнях. В пекарни можно было являться только с билетами. На этих билетах, выдаваемых революционными комитетами, обозначалось количество хлеба, какое предъявитель имел право требовать и какое соразмерялось с числом лиц в семье. Предписывалось даже, каким порядком ждать очереди перед пекарней. К двери прикреплялась веревка; каждый держался за нее рукою, чтобы не терять очереди и чтобы не вышло беспорядка. Но рассерженные женщины часто перерезали веревку, следовали ужасные бесчинства, и для восстановления порядка требовалась вооруженная сила.
Вздорожание съестных припасов, приведшее к максимуму, распространялось на все товары первой необходимости. Мясо, овощи, плоды, пряности, освещение, топливо, питье, материя для одежды, кожа для обуви – всё дорожало по мере того, как ассигнации падали, и народ с каждым днем всё враждебнее смотрел на торговцев как на злонамеренных скупщиков. В феврале, как мы видели выше, парижане разграбили по совету Марата москательные лавки. В июле пришла очередь барок с мылом, плывших в Париж по Сене. Коммуна, придя в негодование, издала строжайшие постановления, и Паш напечатал следующее простое и лаконичное уведомление:
«От мэра Паша согражданам.
Париж заключает в себе семьсот тысяч жителей; почва Парижа ничего не производит для их пропитания, одежды, содержания, следовательно, Париж должен всё извлекать из других департаментов и из-за границы.
Если жители будут расхищать съестные припасы и товары, которые приходят в Париж, то их перестанут присылать. Парижу нечем будет кормить, одевать, содержать своих многочисленных жителей, и семьсот тысяч человек, лишенные всего, пожрут друг друга».
Народ перестал грабить, но по-прежнему требовал грозных мер против торговцев, а Жак Ру поднял кордельеров, чтобы заставить Конвент внести в конституцию статью против скупщиков. Народное воображение всюду создавало себе чудовищ, всюду видело ожесточенных врагов, тогда как в действительности были только жадные игроки, которые пользовались злом, но не причиняли его.
Обеспечения ассигнаций стали искать за границей. Всякий спешил достать векселя Лондона, Амстердама, Гамбурга, Женевы, отдавал за них национальные имущества и тем еще более ронял ассигнации. На уплату векселей, превратившихся в гинеи и дукаты, шли остатки прежней роскоши: великолепная мебель, часы, зеркала, золоченая бронза, фарфор, картины, драгоценные издания. Но разменивалась лишь самая малая доля этих векселей. За ними охотились струсившие капиталисты, не решавшиеся эмигрировать и только желавшие добыть своему состоянию надежное обеспечение. Они составили особую массу капиталов, гарантированных заграничными банками и соперничавших с французскими ассигнациями. Есть поводы полагать, что Питт подговорил английских банкиров подписать множество таких бумаг и даже открыл значительный кредит с целью увеличить их количество и тем еще больше подорвать кредит ассигнаций.
Большим спросом пользовались также акции финансовых обществ, которые, казалось, стояли вне опасностей революции или контрреволюции и представляли выгодное помещение капитала. Акции Ссудно-учетной кассы (La Caisse d’Escompte) были еще в большом ходу, но акции Ост-Индской компании расхватывались с непомерной жадностью, потому что основывались на имуществе, до которого не могла добраться чернь, которое составлялось из кораблей, магазинов и складов, рассеянных по всему земному шару. Тщетно закон пытался подчинить эти акции пошлине; правление компании обходило закон, уничтожая акции и заменяя их записью в учетных книгах, совершавшейся без всяких формальностей. Таким образом, государство лишалось большого дохода: предосторожности, принимаемые против биржевой игры, становились бесполезными. С шестисот франков акции компании постепенно поднялись до тысячи и даже двух тысяч франков, составляя конкуренцию революционной монете и подрывая ее.
Конкуренцию государственным ассигнациям составляли не только такого рода фонды, но и некоторые отделы государственного долга, даже другие виды ассигнаций. Имелись займы разных времен и разных типов, к примеру, относившиеся еще к эпохе Людовика XIII. В целом бумаги займов, предшествовавших конституционной монархии, предпочитались бумагам займов, открытых уже революцией. Но все эти бумаги составляли конкуренцию ассигнациям, залогом которых служили имущества, отнятые у духовенства и эмигрантов. Наконец, даже эти ассигнации ценились не одинаково. Из пяти миллиардов, выпущенных со времени учреждения ассигнаций, один вернулся вследствие покупки части национальных имуществ; в обороте оставалось около четырех миллиардов, а из них насчитывалось пятьсот миллионов, выпущенных при Людовике XVI, с изображением короля. Эти последние бумаги, как говорили, не совсем пропадут в случае успеха контрреволюции и будут приняты хотя бы за часть их номинальной цены. Поэтому они ходили на 10–15 % дороже других. Следовательно, республиканские ассигнации – единственное денежное средство правительства, единственная разменная монета народа – лишались всякого кредита и должны были бороться одновременно против металлических денег, товаров, иностранных бумаг, акций финансовых обществ, различных государственных займов, наконец, против королевских ассигнаций.
Война и страх нового, еще более ужасного переворота прервали многие торговые операции, вызвали много крупных ликвидаций и еще увеличили массу капиталов, ищущих гарантий. Эти накопившиеся капиталы служили ставкой в постоянной игре на бирже и превращались то и дело в золото, серебро, съестные припасы, векселя, акции, старые государственные бумаги и прочее. Появились, как водится, пылкие игроки, бросавшиеся на всякую азартную игру, спекулировавшие случайностями торговли, продовольствованием армий, честностью правительства и т. д. Они извлекали выгоду из всех повышений цен, производимых падением ассигнаций; падение же это начиналось прежде всего на бирже, а затем продолжалось в лавках и на рынках. Однако товары дорожали не так быстро, как звонкая монета, потому что рынки далеки от биржи и не так чутки, притом торговцам столкнуться не так просто, как биржевикам, собирающимся в одной зале. Пятифранковая ассигнация, на бирже стоившая уже только два франка, на рынках стоила еще три, так что биржевики имели довольно времени для своих спекуляций.
Они составляли довольно значительный класс. Были меж ними иностранные банкиры, ростовщики, бывшие священники или дворяне, революционные выскочки, даже несколько депутатов. К чести Конвента, однако, следует сказать, что последних было не более пяти или шести; зато они пользовались чрезвычайным преимуществом: возможностью содействовать колебанию цен сделанными кстати предложениями. Они кутили и веселились с актрисами, бывшими монахинями или графинями, которые нередко переходили от роли любовниц к роли посредниц в делах. В основном двое депутатов занимались этими интригами: Жюльен, представитель Тулузы, и Делоне, представитель Анжера. Первый жил с графиней Бофор, второй – с актрисой Луизой Декуэн. Уверяют, будто Шабо, развратник, бывший капуцин, занимавшийся иногда финансовыми вопросами, участвовал в биржевой игре совместно с двумя братьями Фрей, изгнанными из Моравии за революционные убеждения. Фабр д’Эглантин тоже не брезговал этими делами; обвиняли даже Дантона, впрочем, не имея на то никаких доказательств.
Эти люди были по большей части преданы Революции и нисколько не думали вредить ей, а только хотели, на всякий случай, обеспечить себя. Никто не знал всех их тайных происков, но так как они спекулировали в ущерб ассигнациям, то их винили в создании зла, из которого они лишь извлекали для себя выгоды. Так как заодно с ними действовали многие иностранные банкиры, то их называли агентами Питта и коалиции; столь страшное для всех тайное влияние английского министра мерещилось и тут. Одним словом, негодование было одинаково сильным против биржевиков и скупщиков, наказание ожидало тех и других.
Итак, пока север и юг Франции, Рейн и Вандея терпели нашествия внешних и внутренних врагов, финансовые средства Франции составляли деньги, никем не признаваемые, представлявшие залог такой же неверный, как и сама революция, при каждом новом несчастном случае падавший в цене соответственно опасности. Опасность между тем росла, и, следовательно, средства должны были увеличиваться. Но они, напротив, убавлялись: военные припасы уходили от правительства, а съестные – от народа. Стало быть, следовало в одно и то же время создавать солдат, оружие, монету – и потом уже хлопотать о победе.
Глава XXVI
Отступление Северной армии из лагеря Цезаря – Годовщина 10 августа и празднество Конституции 1793 года – Новые декреты – Декрет против Вандеи, иностранцев и Бурбонов
Представители, посланные первичными собраниями праздновать годовщину 10 августа и принять конституцию от имени всей Франции, прибыли в Париж. Этой минутой хотели воспользоваться, чтобы возбудить восторженный порыв и примирить провинции со столицей, и гостям приготовили блестящий прием. Торговцев созвали со всех окрестностей. Была в большом количестве накоплена провизия, голод не испортил праздника и представители насладились зрелищем мира, порядка и довольства. Даже всем содержателям дилижансов был отдан приказ уступать представителям места, хотя бы прежде занятые другими пассажирами.
Администрация департамента, которая наперебой с коммуной старалась отличиться суровым слогом речей и прокламаций, сочинила адрес к братьям из первичных собраний. «Здесь, – говорилось в этом адресе, – люди, прикрытые личиной патриотизма, будут с восторгом говорить вам о свободе, равенстве, Республике, единой и нераздельной, тогда как в глубине души они стремятся лишь к восстановлению монархии и уничтожению своего отечества. Это богачи; а богачи во все времена гнушались добродетели и убивали нравственность. Тут вы найдете развратных женщин, слишком обольстительных, которые будут стараться вовлечь вас в порок. Бойтесь, бойтесь в особенности бывшего Пале-Рояля: именно в этом саду вы найдете коварных. Этот знаменитый сад, колыбель Революции, недавно еще приют друзей свободы и равенства, ныне сделался, несмотря на наш надзор, не чем иным, как грязным стоком общества, притоном злодеев, вертепом всех заговорщиков… Бегите от этого зачумленного места; предпочитайте опасному зрелищу роскоши и разврата полезные картины трудолюбивой добродетели; посетите предместья, основу нашей свободы, войдите в мастерские, где люди деятельные, простые и добродетельные, как и вы готовые защитить отечество, давно ждут вас, чтобы теснее сплотить узы братства. А главное – бывайте в наших народных обществах. Соединимся, воодушевимся в виду новых опасностей, грозящих отечеству, и поклянемся предать тиранов смерти и истреблению!»
Представителей первым делом повлекли в Клуб якобинцев, где их приняли с величайшей предупредительностью и предложили свою залу для собраний. Они приняли предложение, и было решено, что они будут совещаться среди самого общества и сольются с ним на всё время своего пребывания в Париже. Таким образом, в Париже образовалось внезапно четыреста лишних якобинцев. Общество, заседавшее через день, решило собираться ежедневно, чтобы иметь больше времени для совещаний. Говорили, что некоторые представители клонились к снисходительности, и им было поручено просить общей амнистии в день принятия Конституции. Действительно, многих занимала мысль, как спасти пленных жирондистов и других политических арестантов. Но якобинцы не хотели никакого соглашения, они жаждали мщения. «Комиссаров первичных собраний оклеветали, – заявил сторонник якобинцев Гассенфратц, – распространяя слух, будто они намерены предложить амнистию; они на это неспособны и скорее присоединятся к якобинцам, требуя наказания всех изменников». Представители приняли эти слова к сведению, и если некоторые из них, впрочем, не многие, и продолжали желать амнистии, но ни один не осмелился вслух высказать такое предложение.
Утром 7 августа их везут в коммуну, а из коммуны в бывший епископский дворец. Там готовят примирение департаментов с Парижем, потому что именно оттуда исходили первые действия против народного представительства. Мэр Паш, прокурор Шометт и весь муниципалитет идут во главе шествия. С той и другой стороны начинаются речи. Парижане объявляют, что никогда не думали пренебрегать правами департаментов или присваивать их себе; представители, в свою очередь, признают, что на Париж клеветали. Все обнимаются в неизреченном восторге. Вдруг возникает порыв идти в Конвент и сообщить ему о свершившемся примирении. Все отправляются и беспрепятственно попадают в залу заседаний. Прения прерываются, один из посланцев говорит: «Граждане депутаты, мы пришли сообщить вам о трогательной сцене, происшедшей сейчас в зале избирателей, куда мы ходили, чтобы подарить лобзание мира нашим парижским братьям. Скоро, надеемся, головы клеветников, очернивших этот республиканский город, падут под мечом закона. Мы все монтаньяры; да здравствует Гора!»
Другой делегат выражает желание, чтобы все по-братски облобызались. Трогательная и восторженная сцена продолжается несколько мгновений, после чего представители торжественно проходят через залу с криками «Да здравствует Гора!», «Да здравствует Республика!» и песней «Карманьола».
Затем представители вновь отправляются в Клуб якобинцев и составляют там от имени всех делегатов первичных собраний адрес к департаментам, объявляющий, что Париж оклеветали: «Братья и друзья! Успокойтесь! Мы здесь все воодушевлены одним чувством. Все души наши слились, и торжествующая свобода покоит взоры свои на одних только якобинцах, братьях и друзьях. Болота более не существует. Мы все здесь образуем одну громадную, грозную Гору, которая скоро будет изрыгать пламя на всех роялистов и сторонников тирании. Пусть гибнут сочинители гнусных пасквилей, оклеветавшие Париж!.. Мы бодрствуем день и ночь и трудимся сообща с нашими столичными братьями для общего блага… Мы вернемся домой не иначе как с вестью о том, что Франция свободна и отечество спасено». Этот адрес, чтение которого вызвало восторженные рукоплескания, посылают в Конвент для немедленного внесения в бюллетень заседания. Всех охватывает какое-то опьянение, множество ораторов осаждают кафедру. Робеспьер при виде общего смятения просит слова. Каждый охотно уступает ему. Якобинцы, комиссары, все аплодируют знаменитому оратору, которого многие еще никогда не видели и не слышали.
Робеспьер поздравляет департаменты с тем, что они спасли Францию. «Они раз уже спасли ее, – говорит он, – в 89 году, добровольно вооружившись; в другой раз – придя в Париж для совершения дела 10 августа; наконец, теперь в третий раз, даря столице зрелище согласия и общего примирения. В настоящее время тяжкие события удручают Республику и подвергают опасности ее существование; но республиканцы не должны ничего бояться, и им надлежит с недоверием относиться к душевному волнению, которое легко может вовлечь их в беспорядки. И теперь есть люди, которые хотели бы вызвать голод и бунт – подговорить народ идти в арсенал и расхватать припасы или даже поджечь его, как это происходило недавно в нескольких городах.
Наконец, эти люди всё еще не отказываются от мысли вызвать события в тюрьмах, чтобы опять оклеветать Париж и разорвать согласие, в котором только что поклялись. Берегитесь всех этих ловушек, будьте покойны духом и тверды; смотрите бесстрашно в лицо бедствиям отечества; будем все трудиться над спасением его». Собрание успокаивается и расходится, поприветствовав разумного оратора многократными рукоплесканиями.
В последующие дни в Париже не было беспорядков, но не забыли ничего, что могло бы расшевелить воображение народа и расположить его к самоотверженной восторженности. Ни одной опасности, ни одной несчастной вести от людей не скрывали. Одно за другим разглашались поражения в Вандее, всё более угрожающие известия из Тулона, попятное движение Рейнской армии, отступавшей перед победителями Майнца, наконец, крайняя опасность, в которой находилась Северная армия, выступившая из Лагеря Цезаря: австрийцы, англичане, голландцы, взяв Конде, Валансьен и составив двойную силу, могли уничтожить ее одним ударом. От Лагеря Цезаря до Парижа было никак не более сорока лье и ни одного полка, ни одного препятствия, могущего задержать неприятеля. Как только не стало бы Северной армии, всё бы погибло; поэтому с большой тревогой собирались малейшие слухи, доходившие с этой границы.
Опасения были на этот раз основательны, и в эту минуту лагерь действительно находился в величайшей опасности. Вечером 7 августа союзники подошли к нему и стали угрожать со всех сторон.
Между Камбре и Бушеном тянется ряд возвышенностей. Шельда, протекая между ними, защищает их. Эта-то позиция, опирающаяся на две крепости и окаймленная рекой, называлась Лагерем Цезаря. Герцог Йоркский, взявшись обойти французов, явился перед Камбре, крепостью, образовавшей правое крыло Лагеря Цезаря. Он пригласил город сдаться; комендант в ответ запирает ворота и сжигает предместья. В тот же вечер принц Кобургский с войском в 40 тысяч человек двумя колоннами подходит к берегу Шельды и располагается биваком перед самым лагерем. Удушливая жара лишает сил людей и лошадей; в течение этого дня несколько солдат умирают от солнечного удара. Кильмен, назначенный на место Ктостина, но согласившийся принять начальство только временно, не считает возможным удержаться в такой опасной позиции. Угрожаемый справа герцогом Йоркским, имея едва 35 тысяч человек, притом упавших духом, против 70 тысяч победоносных солдат, он находит более благоразумным отступить и выиграть время, перейдя на другую позицию. Линия реки Скарп, за линией Шельды, кажется ему подходящей для этой цели. Между Аррасом и Дуэ ряд возвышенностей, окаймленных Скарпом, образуют лагерь, подобный Цезареву, и тоже опирающийся на две крепости и защищаемый рекой. Кильмен готовится начать отступление на следующее утро.
Он распоряжается отправить свой главный корпус через речку Сенс, протекавшую с тыла вдоль занимаемой им местности, а сам решает пойти с сильным арьергардом вправо, куда уже подошел герцог Йоркский. На заре тяжелая артиллерия, обоз и пехота трогаются с места, переходят Сенс и уничтожают все средства переправы. Час спустя Кильмен с несколькими батареями легкой артиллерии и сильным отрядом кавалерии поворачивает, согласно плану, направо. Он не мог явиться более кстати. Два батальона, отставшие и заблудившиеся, застряли в местечке Маркьон и энергично защищались от англичан. Несмотря на все их усилия, неприятель уже начинал окружать их. Кильмен, подоспевший в эту минуту, ставит свою легкую артиллерию с фланга англичан, пускает на них кавалерию и заставляет отступить. Батальоны высвобождаются и догоняют войско. Тогда англичане и союзники, одновременно подойдя к Лагерю Цезаря с правой стороны и с фронта, находят его уже совершенно пустым. Наконец, уже к вечеру, французы благополучно собираются в лагере Гаврель, опираясь на Аррас и Дуэ и имея перед собой Скарп.
Итак, 8 августа Лагерь Цезаря оставлен, как был оставлен перед тем и лагерь при Фамаре. Камбре и Бушей предоставлены собственным силам, как Валансьен и Конде. Линия Скарпа, лежащая позади линии Шельды, находится, как известно, не между Шельдой и Парижем, а между Шельдой и морем. Следовательно, Кильмен отступил в сторону, а не назад, и этим открыл часть границы и дал союзникам возможность свободно перемещаться по всему департаменту Нор. Теперь вопрос был в том, что они сделают? Двинутся ли еще на один день, чтобы напасть на лагерь при Гавреле и постараться разбить ускользнувшего неприятеля? Пойдут ли на Париж или возвратятся к своему прежнему плану против Дюнкерка? Пока союзники двинули несколько отрядов до Перонна и Сен-Кантена; в Париже с ужасом узнали, что Лагерь Цезаря потерян, а Камбре выдан врагам, как Валансьен. На Кильмена накидываются со всех сторон, забывая о громадной услуге, которую он оказал во время отступления.
Торжественное празднество 10 августа, долженствовавшее наэлектризовать все умы, готовилось среди этих зловещих слухов. Девятого числа Конвенту представили отчет о подсчете голосов. Оказывается, все сорок четыре тысячи муниципалитетов приняли конституцию, за исключением Марселя, Корсики и Вандеи. Одна-единственная община, Сен-Тонан, в департаменте Кот-дю-Нор, осмелилась требовать восстановления Бурбонов на престоле.
Десятого августа празднество начинается с самого рассвета. Знаменитый живописец Давид назначен распорядителем. В четыре часа утра кортеж уже находится на площади Бастилии. Конвент, делегаты первичных собраний, из которых выбраны восемьдесят шесть человек по старшинству лет, народные общества и все вооруженные секции размещаются вокруг большого фонтана, названного фонтаном Возрождения. Этот фонтан представляет собой колоссальную статую Природы, из грудей которой в обширный бассейн льется вода. Как только первые лучи солнца золотят крыши зданий, восход приветствуют строфами, положенными на музыку «Марсельезы». Президент Конвента берет чашу, проливает на землю часть воды Возрождения, потом пьет и передает чашу представителям департаментов, которые пускают ее по кругу. Совершив этот обряд, шествие трогается в путь по бульварам. Первыми идут народные общества со знаменами, потом Конвент в полном составе. Каждый депутат держит букет из колосьев, а восемь человек, идущих в центре, несут на плечах ковчег с Конституцией и Декларацией прав человека. Вокруг Конвента представители департаментов образуют цепь и идут соединенные трехцветным шнуром. Каждый держит в руках масличную ветку – знак примирения провинций с Парижем, и пику, изображающую согласие и силу департаментов. За этой частью шествия следуют народные группы, несущие орудия разных ремесел. Среди них на плуге едут старик со старухой, которых везут их сыновья. Следом едет военная колесница, на которой покоится урна – память о воинах, умерших за отечество. Шествие замыкают телеги с наваленными в кучу скипетрами, коронами, гербами и коврами с лилиями.
Шествие направляется к площади Революции. Проходя по бульвару Пуассоньер, президент Конвента подает лавровую ветвь героиням 3 и 6 октября, восседающим на своих пушках. На площади Революции он останавливается еще раз, поджигает все инсигнии монархии и дворянства, сваленные на телегах, и наконец срывает покров, накинутый на статую. Открытие статуи сопровождается пушечными залпами, и в то же мгновение тысячи птиц с привязанными к шее легчайшими полосками бумаги, выпущенные на свободу, взвиваются под небеса, как бы возвещая, что земля освобождена.
Потом шествие направляется через площадь Инвалидов к Марсову полю и торжественно проходит перед колоссальной статуей, изображающей народ, который, поборов федерализм, втаптывает его в болото. На Марсовом поле кортеж разделяется на две колонны, которые растягиваются вокруг Алтаря Отечества. Президент Конвента с основными представителями департаментов занимают самую вершину жертвенника; делегаты и представители первичных собраний становятся по ступеням. Народные группы по очереди кладут вокруг алтаря продукты своего ремесла – ткани, плоды, разнообразные предметы. Затем президент, собрав все акты, которые уже отметили первичные собрания, слагает их на жертвенник. Общий пушечный залп раздается в ту же минуту; вся громадная толпа сливает свой мощный голос с грохотом орудий и клянется защищать революцию – пустейшая клятва относительно буквы конституции, но геройская и свято исполненная, если иметь в виду родную землю и самую революцию! Действительно, конституций перебывало и перешло много, но землю и революцию защищали с геройским упорством.
После этой церемонии представители вручают свои пики президенту, который образует из них связку и вверяет, вместе с конституционным актом, делегатам первичных собраний, увещевая их объединить все силы вокруг ковчега нового союза. Потом собрание расходится. Часть кортежа провожает урну в храм, для нее назначенный; другая сопровождает ковчег конституции к тому месту, где он должен храниться до следующего дня, когда будет возвращен в залу Конвента. Остаток дня заняло большое представление, изображавшее осаду и бомбардировку Лилля и геройскую защиту этого города.
Таков был третий праздник Федерации. В нем уже не участвовали, как в 1790 году, все сословия великого народа, на мгновение слившиеся в общем упоении, наскучившие взаимной ненавистью, простившие друг другу на несколько часов различие званий и убеждений. На этот раз праздник отмечал народ, который говорил уже не о прощении, а об опасности, самоотвержении, отчаянных решениях и с исступлением наслаждался всей этой колоссальной праздничной обстановкой, готовясь на другой же день отправиться на поле брани. Одно обстоятельство возвышало характер этой сцены и искупало ее нелепые стороны, которые нетрудно отыскать враждебно-критическому взгляду: присутствие опасности и увлечение, с которым все эти люди шли ей навстречу. Четырнадцатого июля 1790 года революция была еще невинна и добродушна, но она могла также быть недостаточно серьезной, могла закончиться как фарс – вмешательством иностранных штыков. В августе 1793-го она была трагически великой, ознаменованной победами и поражениями, серьезной, как бесповоротное и героическое решение.
Настала минута принять серьезные меры. Всюду бродили самые эксцентричные мысли: предлагалось отстранить всех дворян от государственных должностей; издать закон о поголовном заключении в тюрьму подозрительных лиц, против которых еще не имелось точного закона; созвать ополчение, завладеть всеми припасами и поместить их на склады для раздачи правительством отдельным лицам. Наконец, придумывали и никак не могли придумать средство для немедленного обеспечения достаточных сумм. Отдельно вели речь о том, чтобы Конвент сохранил власть и не уступал ее новым законодателям и чтобы ковчег конституции остался под покрывалом, пока не будут разбиты все враги Республики.
Все эти мысли предлагались в Клубе якобинцев. Робеспьер уже не сдерживал порывов, а, напротив, возбуждал их, особенно настаивая на необходимости сохранить Конвент, и это был мудрый совет. Распустить в такую минуту собрание, которое держало в своих руках всю правительственную власть и в среде которого наконец прекратились раздоры, и заменить его собранием новым, неопытным, в котором возобновилась бы игра партий, – стало бы пагубным делом. Делегаты провинций, окружив Робеспьера, объявили, что поклялись не расходиться, пока Конвент не примет нужных мер для общего блага, и что они принудят его продолжать свои труды. Одуэн, зять Паша, предложил потребовать поголовного ополчения и ареста всех подозрительных лиц. Комиссары первичных собраний в ту же минуту составили петицию и на другой день, 12 августа, явились с нею в Конвент. Они потребовали, чтобы Конвент сам взял на себя заботу о спасении отечества, чтобы не было никакой амнистии, чтобы подозрительные лица были арестованы и первыми посланы против неприятеля, а народное ополчение шло вслед за ними.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?