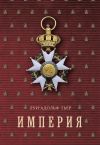Текст книги "История Французской революции. Том 2"

Автор книги: Луи-Адольф Тьер
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Многие коммуны, дополняя законы Конвента своими постановлениями, даже запретили пускать металлические деньги в обращение и велели приносить их в кассы для обмена на ассигнации. Конвент, правда, отменил все эти особые постановления, но изданные им общие законы уже делали звонкую монету довольно бесполезной и даже опасной. Многие вносили ею налоги или свою долю займа или передавали ее иностранцам, которые торговали ею в больших количествах и специально приезжали в пограничные города, чтобы принимать металлические деньги в обмен на товары. Итальянцы, в особенности генуэзцы, привозившие во Францию много хлеба, стекались в южные порты и за бесценок скупали золото и серебро в монете и в изделиях. Таким образом, металлические деньги совсем исчезли, и партия пламенных революционеров, опасаясь, чтобы они когда-нибудь снова не явились и не повредили бумажным деньгам, требовала, чтобы их не только устранили из обращения, но и совсем запретили.
Террор почти прекратил биржевую игру. Спекуляции звонкой монетой сделались, как мы сейчас видели, невозможными. Иностранные бумаги не принимались в обращение и банкиры, со всех сторон обвиняемые в посредничестве между эмигрантами и Францией и в биржевой игре, жили в страхе и трепете. Одно время были даже опечатаны их дома, но Конвент скоро почувствовал, как опасно прерывать финансовые операции, то есть останавливать обращение капитала, и велел снять печати. Всё же страх был слишком велик, чтобы на ум шли какие-нибудь спекуляции.
Ост-Индская компания наконец была упразднена. Мы видели выше, какую интригу затеяли некоторые депутаты, чтобы спекулировать акциями этой компании. Барон Батц, Жюльен, Делоне и Шабо сговорились вносить в Конвент предложения запугивающего свойства, чтобы сбить акции, скупить их, потом более мягкими предложениями опять поднять, перепродать и положить в карман большие деньги. Аббат д’Эспаньяк, которого Жюльен поддерживал в комитете подрядов, должен был дать взаймы нужную сумму. Этим мошенникам удалось сбить акции и собрать значительный доход. Однако упразднение компании стало неизбежным, и тогда они вступили с нею в переговоры, предлагая, на известных условиях, смягчить декрет об упразднении. Делоне и Жюльен просто торговались с директорами, говоря: «Если вы нам дадите такую-то сумму, то мы внесем такой-то декрет, а если нет – то такой-то». Сторговались за 500 тысяч франков, и депутаты обещали, предлагая упразднение компании, выхлопотать ей разрешение самой произвести ликвидацию, что могло еще надолго протянуть ее существование. Обещанные полмиллиона должны были разделить между собою Делоне, Жюльен, Шабо и Базир, посвященный в интригу своим приятелем Шабо; однако Базир не захотел в ней участвовать.
Делоне внес декрет об упразднении компании 9 октября. Он предлагал упразднить компанию, заставить ее возвратить казне одолженные суммы и в особенности уплатить трансфертные пошлины, обойденные посредством превращения акций в записи в книгах компании. В заключение он предлагал предоставить самой компании заботу о собственной ликвидации. Фабр д’Эгл антин, еще не посвященный в тайну и, по-видимому, спекулировавший в другую сторону, тотчас же восстал против этого проекта, говоря, что позволить компании самой произвести свою ликвидацию значило бы увековечить ее и что под этим предлогом она протянет еще неопределенное время. Он советовал возложить ликвидацию на правительство. Камбон внес поправку, требуя, чтобы казна не брала на себя долгов компании, если при ликвидации окажется, что расходы ее превышают доходы. Декрет был принят с обеими поправками и отослан в комиссию для окончательной редакции.
Тогда интриганы решили, что надо приняться за Фабра, чтобы хоть посредством редакции добиться некоторых изменений в декрете. Шабо отправили к Фабру со 100 тысячами франков, и он уговорил депутата. Вот что было сделано затем: декрет отредактировали в том виде, в каком он был принят Конвентом и дан для подписи Камбону и членам комиссии, не знавшим об интриге. Потом в него были вставлены несколько слов, совершенно изменивших смысл и распорядительную часть декрета. Шабо, Фабр, Делоне и Жюльен подписали подделанный декрет и передали его законодательной комиссии, которая напечатала и обнародовала его в качестве подлинного. Они надеялись, что члены, подписавшие его до этих незначительных с виду изменений, ничего не заметят, и разделили между собой полмиллиона. Один Базир ничего не взял, объявив, что не желает участвовать в подобных гадостях.
Между тем Шабо, которого начинали упрекать за роскошь, боялся себя скомпрометировать. Пришедшиеся на его долю 100 тысяч он привесил к потолку в отхожем месте, и его сообщники, видя, что он готов выдать их, грозились опередить его и открыть всё, если он от них отшатнется. Таков был исход позорной интриги, завязавшейся между бароном Батцем и несколькими депутатами. Террор, как гром грохотавший над всеми головами, даже самыми невинными, не обошел и их, поэтому спекуляции на время прекратились и никто более не думал о биржевой игре.
В это самое время, когда не боялись извращать все общепринятые понятия и ставить вверх дном все установившиеся привычки, приняли проект об изменении системы мер и весов и календаря. Любовь к порядку и презрение к препятствиям – эти черты отличали эту революцию, столь же философскую, сколь и политическую. Она разделила территорию на восемьдесят три равные части; она привела в единообразную форму гражданскую, религиозную и военную администрации; она уравняла все части государственного долга. Она не могла не внести свою любимую правильность в весы, меры и разделение времени. Конечно, эта страсть к однообразию, переходя в чрезмерную систематичность, слишком часто заставляла людей забывать о необходимом и привлекательном разнообразии, свойственном природе, но только в состоянии такого «припадка» человеческий ум совершает обширные и трудные перевороты.
Новая система мер и весов, одно из лучших творений века, стала результатом этого отважного духа новизны. Единицей веса и единицей меры решили взять естественные величины, неизменные во всех странах. Так, мерилом веса была принята дистиллированная вода, а единицей меры – часть меридиана. Эти единицы, умноженные или разделенные на десять, до бесконечности, составили ту стройную, удобную систему, которая известна под названием десятичной или метрической системы.
Ту же правильность предполагалось внести в разделение времени. Нелегко было изменить закоренелые привычки целого народа, но это не могло остановить людей таких решительных, как те, что в то время управляли судьбами Франции. Они уже изменили христианское летоисчисление, заменив его республиканским, которое начиналось «первым годом свободы». Началом года и нового летоисчисления они назначили 22 сентября 1792 года, день, на который по счастливому совпадению приходились и учреждение Республики, и осеннее равноденствие. Согласно десятичной системе, следовало бы разделить год на десять равных частей; но принимая в основание разделения года на месяцы и двенадцать обращений луны вокруг земли, приходилось допустить двенадцать месяцев. Сама природа в этом случае заставляла нарушить десятичную систему. Месяц из тридцати дней был разделен на три десятка дней, или три декады. Десятый день каждой декады был посвящен отдыху и заменил собой воскресенье. Таким образом, на месяц приходилось одним днем отдыха меньше.
Католичество размножило праздники до бесконечности; Революция, превознося труд, считала своим долгом сократить их до последней возможности. Месяцы получили названия, соответствовавшие своему климатическому характеру. Первые три месяца приходились на осень, и их назвали так: вандемьер (месяц сбора винограда), брюмер (месяц туманов) и фример (месяц морозов). Следующие три зимних месяца назвали: нивоз (месяц снегов), плювиоз (месяц дождей), вантоз (месяц ветров); за ними следовали три весенних месяца: жерминаль (месяц всхода семян), флореаль (месяц цветов) и прериаль (месяц лугов или сенокоса). И наконец, вот три летних месяца: мессидор (месяц жатвы), термидор (месяц жара) и фрюктидор (месяц плодов). Эти двенадцать месяцев составляли только триста шестьдесят дней. Оставалось еще пять дней для довершения года; они были названы дополнительными, и учредителям пришла в голову прекрасная мысль посвятить их национальным праздникам, которым было дано название санкюлотид – название нелепое, но извинительное по тем временам.
Первый из праздников предполагалось посвятить гению, второй – труду, третий – доблестным поступкам, четвертый – наградам, пятый – общественному мнению. Этот последний праздник, вполне своеобразный и как нельзя более подходящий французскому характеру, был чем-то вроде карнавала, продолжавшегося одни сутки, и в эти сутки дозволялось безнаказанно говорить и писать о каждом человеке, занимавшем видное место, всё, что придет в голову. Делом каждого было оградить себя своими добродетелями от обвинений и клеветы, которым в этот день давался полный простор. Ничто не может быть шире и нравственнее этой мысли. Из того, что сила судьбы уничтожила мысли и идеи того времени, не следует еще считать смешными все обширные и смелые замыслы этой эпохи. Римляне не сделались смешны от того, что в день триумфа воин, шедший за колесницей триумфатора, мог говорить всё, что подсказывала ему ненависть или веселость.
Через каждые четыре года, вследствие возвращения високосного года, дополнительных дней оказывалось шесть вместо пяти, и этот шестой день посвящался празднованию Революции; в этот день все французы должны были с большой торжественностью праздновать свое освобождение и основание Республики.
День был разделен согласно десятичной системе на десять часов или частей, те – еще на десять и т. д. Постановлено было для нового способа подсчета времени изготовить новые часы, но, чтобы не всё делать разом, эта последняя реформа была отложена на год.
Последний переворот, самый трудный и самый насильственный, касался вероисповеданий. Революционные законы об этом предмете остались такими, какими сделало их Учредительное собрание. Пока патриоты Конвента и Клуба якобинцев – Робеспьер, Сен-Жюст и другие революционные вожди – предлагали деизм, Шометт, Эбер и все нотабли коммуны и кордельеров, стоявшие ниже по должности и образованию, должны были, согласно общему закону, перейти границу и дойти до атеизма. Они не исповедовали открыто этого учения, но можно было предполагать, что они его придерживаются: никогда, ни в своих речах, ни в своих листках, они не произносили имени Бога и беспрестанно повторяли, что народ ничем не должен управляться, как только одним Разумом, и не должен допускать иного поклонения, как только Разуму. Шометт не был ни низок, ни зол, ни честолюбив подобно Эберу; он не старался, преувеличивая господствующие взгляды и мнения, устранить настоящих вождей Революции и стать на их место; но, не имея политического кругозора, а только банальные взгляды, притом увлекаемый необычайной страстью к декламаторству, он проповедовал с жаром и умиленной гордостью миссионера чистоту нравов, труд, патриотические добродетели, наконец, разум, всегда тщательно избегая называть Бога. Шометт очень горячо восстал против грабежей; он энергично бранил женщин, которые бросали свои хозяйства и вмешивались в политические смуты, и имел храбрость закрыть их клуб; он запретил нищенство и основал общественные мастерские для снабжения бедных работой; он гремел против проституции и заставил коммуну запретить этот промысел, везде воспринимаемый как неизбежное зло. Шометт говорил, что проститутки – принадлежность монархических и католических стран, где есть праздные граждане и неженатые священники, и что труд и брак должны изгнать их из Республики.
Итак, Шометт, приняв на себя инициативу во имя разума, восстал против публичности католического вероисповедания. Он доказывал, что эта публичность составляет преимущество, которым католическая религия имеет право пользоваться не более другой; что если предоставить публичность каждой секте, то на улицах и площадях не будет прохода от всяких обрядов и процессий. Пользуясь тем, что коммуна заведовала полицейской частью, он уговорил ее постановить 14 октября (23 вандемьера), что пастырям какой бы то ни было религии не будет дозволено совершать обряды нигде, кроме своих храмов. По его внушению были учреждены новые погребальные обряды. Только друзьям и родным дозволялось идти за гробом. Все знаки религии были удалены с кладбищ и заменены статуей Сна, по примеру того, что Фуше сделал в департаменте Алье. Вместо кипарисов и всевозможных мрачных кустарников по кладбищам насадили самые яркие и душистые деревья. «Нужно, – заявлял Шометт, – чтобы блеск и благоухание цветов вызывали самые тихие, приятные мысли; я бы желал, если возможно, вдыхать душу моего отца!» В том же самом постановлении было заявлено, что запретят продавать на улицах крестики, ладанки, изображения мадонн и прочее, а также лекарственные порошки, воды и тому подобные снадобья. Все изображения мадонн, находившиеся в нишах на углах улиц, были заменены бюстами Марата и Лепелетье.
Анахарсис Клоотс – тот самый прусский барон, который, имея сто тысяч дохода, оставил родину, чтобы явиться в Париже представителем рода человеческого, как он говорил, – без устали проповедовал Всемирную республику и поклонение Разуму. Преисполненный этими двумя мыслями, он непрестанно развивал их в своих писаниях и то в манифестах, то в адресах предлагал всем народам. Деизм казался ему столь же преступным, сколь и католицизм, он не переставал предлагать истребление тиранов и всякого рода богов, и уверял, что у человечества, освобожденного и просвещенного, должен остаться лишь чистый разум и благодетельное, бессмертное ему поклонение.
Инициатива, принятая Шометтом, оживила все надежды Клоотса. Он отправился к Гобелю, интригану, сделавшемуся конституционным епископом парижского департамента благодаря тому же быстрому движению, которое возвысило Шометта, Эбера и многих других. Он убедил епископа, что настала пора отречься перед лицом всей Франции от католического вероисповедания, что его пример увлечет и прочих пастырей, просветит нацию, вызовет всеобщее отречение и принудит Конвент решиться на отмену самого христианства. Гобель не согласился отречься от своей веры и этим заявить, что всю жизнь обманывал людей, но согласился сложить с себя епископский сан и уговорил своих викариев последовать его примеру. Было также решено, что все парижские власти будут сопровождать Гобеля и участвовать в депутации, чтобы придать ей большую торжественность.
Седьмого ноября (17 брюмера) Моморо, Паш, Люилье, Шометт, Гобель и все его викарии являются в Конвент. Шометт и Люилье, один – прокурор коммуны, другой – департамента, заявляют, что парижское духовенство пришло с целью воздать Разуму блистательную и искреннюю дань. Они представляют Гобеля. Последний, в красном колпаке, держа в руке митру, посох и перстень, говорит: «Я родился плебеем и, сделавшись приходским священником в Порантрюи, а потом посланный моим духовенством в первое собрание и, наконец, избранный в парижские архиепископы, никогда не переставал повиноваться народу. Я сделался епископом, когда народ хотел иметь епископов; перестаю быть им теперь, когда народ больше не хочет епископов». Гобель присовокупляет, что всё его духовенство, воодушевляемое теми же чувствами, поручает ему сделать то же заявление и от его имени. Сказав эту речь, он кладет митру, посох и перстень.
Его духовенство подтверждает это заявление. Президент собрания с большою ловкостью отвечает, что Конвент, постановив свободу вероисповеданий, предоставил полную свободу каждой секте и никогда не вмешивался в дела веры, но рукоплещет тем сектам, которые, просвещенные разумом, отрекаются от своих суеверий и заблуждений.
Гобель не отрекся от католической веры, но другие расширили сделанное им заявление. «Опомнившись, – говорит вожирарский приходский священник, – от предрассудков, которые фанатизм вложил в ум мой и сердце, я оставляю здесь грамоту о посвящении моем в духовный сан». Несколько других епископов и священников, члены Конвента, следуют этому примеру и слагают с себя сан или вовсе отрекаются от католичества. Жюльен, депутат Тулузы, отказывается от звания протестантского пастора.
Собрание и трибуны встречают эти отречения бешеными аплодисментами. В эту минуту Грегуар, епископ Блуа, входит в собрание. Ему рассказывают обо всем происшедшем и приглашают последовать примеру собратьев. Он мужественно отказывается. «Идет ли речь о доходе, связанном с епископским саном? – говорит он. – Я без сожаления отказываюсь от него. Идет ли речь о моем звании священника и епископа? Я не могу сложить его с себя, моя вера запрещает мне это. Взываю к свободе вероисповедания». Конец слов Грегуара покрывает шум, депутация выходит из собрания, окруженная громадной толпой, и отправляется в ратушу принять поздравления коммуны.
Нетрудно было, когда был подан такой пример, побудить секции Парижа и все коммуны Франции подражать ему. Секции скоро собрались и объявили, одна за другой, что отрекаются от всех заблуждений суеверия и признают лишь одно поклонение Разуму. Секция Вооруженного человека объявляет, что не признает другого исповедания, кроме поклонения истине и Разуму, другого фанатизма, кроме фанатизма свободы и равенства, другого догмата, кроме догмата братства и революционных законов, изданных после 31 мая 1793 года. Секция Соединения заявляет, что устроит костер из всех исповедален и всех книг, служивших католикам, и закроет свою церковь Сен-Мари. Секция Вильгельма Телля навсегда отрекается от исповедания заблуждений и лжи. Секция Муция Сцеволы отрекается от католичества и назначает на следующее декади (последний день декады) открытие на главном алтаре церкви Сен-Сюльпис бюстов Марата, Лепелетье и Муция Сцеволы. Секция Пик объявляет о своем намерении отныне не поклоняться другому богу, кроме бога свободы и равенства. Секция Арсенала тоже отрекается от католичества.
Так секции, принимая на себя инициативу, отрекались от католичества как от общественной религии и присвоили себе его здания и сокровища как имущество, принадлежащее общине. Депутаты, посланные комиссарами в департаменты, уговорили множество общин захватить церковную утварь, совершенно, по их словам, не нужную религии, притом составлявшую, как всякое общественное имущество, собственность государства и могущую быть употребленной для его нужд. Фуше прислал из департамента Алье много ящиков с серебряной посудой.
Множество таких ящиков пришло и из других департаментов. Этим же способом груды сокровищ были доставлены в Конвент из Парижа и его окрестностей. В Конвент составлялись процессии, и народ, всегда готовый издеваться над всем, пародировал церковные обряды и провожал депутации, распевая католические песнопения и в то же время отплясывая под «Карманьолу». Потом тем же порядком богатая добыча относилась на монетный двор, между тем как бюсты Марата и Лепелетье красовались в церквях, которые стали храмами нового вероисповедания.
По представлению Шометта решили превратить собор Парижской Богоматери в республиканское здание под названием храма Разума, и было придумано празднество, которое по декадным дням должно было заменить католическое воскресное богослужение. Мэр, муниципальные чиновники, общественные должностные лица отправлялись в храм Разума, читали там вслух Декларацию прав человека и Конституцию, подвергали разбору известия из армий и рассказывали о замечательных происшествиях, случившихся за истекшую декаду. Кружка, подобная львиным пастям в Венеции, устроенным для принятия доносов, помещалась в храме Разума для принятия уведомлений, укоров и советов, полезных для общего блага. Эти письма вынимались каждое декади и читались вслух; какой-нибудь оратор произносил речь нравственно-поучительного содержания; потом исполнялось несколько музыкальных пьес, и торжество заканчивалось пением республиканских гимнов. В храме были две трибуны – одна для стариков, другая для беременных женщин с надписью «Почтение к старости, почтение и внимание к беременным женщинам».
Первое торжество в честь Разума было отпраздновано с большой пышностью 10 ноября (20 брюмера). На нем с городскими властями присутствовали все секции. Молодая женщина – жена типографщика Моморо, приятеля Венсана, Ронсена, Шометта, Эбера – изображала богиню Разума. Она была одета в белую драпировку; плащ небесно-голубого цвета падал с ее плеч; распущенные волосы венчал революционный колпак. Она восседала на сиденье античной формы, окруженном плащом; четыре гражданина несли ее на плечах. Молодые девушки в белой одежде и венках из роз шли перед богиней и за нею. Следом несли бюсты Лепелетье и Марата и шли музыканты, войска и все секции, также вооруженные. Произносили речи, в храме Разума пели гимны. Потом шествие направилось в Конвент, где Шометт сказал следующую речь: «Законодатели, фанатизм уступил место Разуму. Его косоглазие не могло вынести блеска света. Ныне громадная толпа наполнила готические своды, в первый раз огласившиеся словами истины. Там французы совершили единственно истинное служение – Свободе и Разуму. Там мы высказали наши пожелания успеха республиканскому оружию. Там мы бросили неживые идолы ради Разума, этого живого и мастерского создания природы!»
Говоря эти слова, Шометт указывает на живую богиню Разума. Молодая красивая женщина сходит со своего сиденья и подходит к президенту, который по-братски обнимает ее среди шумных криков «Браво!», «Да здравствует Республика!», «Да здравствует Разум!» и «Долой фанатизм!». Конвент, еще не принимавший участия во всех этих демонстрациях, увлечен толпой и вынужден идти вместе с шествием, которое возвращается в храм Разума, чтобы спеть там патриотический гимн. Важное известие о взятии острова Нуармутье, куда удалился Шаретт, увеличивает общую радость и может служить ей более существенным поводом, нежели мнимое уничтожение фанатизма.
Противно останавливаться на этих празднествах, лишенных умиления и убедительности; противно припоминать, как целый народ менял свое вероисповедание, не понимая ни старого ни нового. Если вглядеться в картину, которую представляла Франция того времени, мы увидим, что никогда инертная и терпеливая масса, обыкновенно служащая материалом для политических опытов, не подвергалась стольким притеснениям всякого рода. Никто не смел высказывать своего мнения; каждый боялся видеться со своими друзьями или родными из опасения скомпрометировать себя и лишиться свободы или даже жизни. Сто тысяч арестов и несколько сотен казней делали мысль о тюрьме и эшафоте неотступной в умах двадцати миллионов людей.
Следовательно, никогда власть более безжалостно не выворачивала наизнанку привычек целого народа. Держать меч над всеми головами, обирать всех зажиточных или богатых людей, вводить обязательный курс валюты, переименовывать всё на свете, уничтожать внешние религиозные обряды – всё это, бесспорно, составляет свирепейшее, беззаконнейшее тиранство. Но, с другой стороны, следует принять во внимание опасность, грозившую государству, неизбежные торговые кризисы и дух систематизации, неразрывный с духом новизны.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?