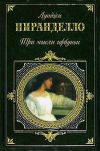Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Город, которого ждет наказание, уже вобрал в себя смутное предчувствие гибели. Под пером Мицкевича он предстает дышащим смертью. Умирает, исчезает его призрачный двойник. Жидкая грязь на улицах Петербурга оказывается Стиксом: «Oblewał bruki rzeką Stygu błotną» [Там же, 230]. На его улицах погибают люди. Двадцать трупов осталось на площади после парада. Одни лежат вбитые в снег. Другие, замерзшие на морозе, стоят как столбы. Внутренности умирающих выпали, их кровь смешалась с грязным снегом. Таким образом, не только природа, но и город наделен значениями смерти, отнюдь не противопоставленной жизни. Петербург заслуживает смерти, он несет ее в себе и приводит к смерти человека. На присутствие темы смерти в тексте Петербурга указал В. Н. Топоров [Топоров, 1995, 300].
Человек в культурном пространстве Петербурга видится поэту всегда одинаковым, как и город: «Mnogie i różne, lecz w jednym ubiorze <…> tak podobne sobie, / Tak jednostajne!» [Mickiewicz, 1893, 218]. Он солдат или носитель чинов и званий. Его облик метонимически замещают мундир, орден, шуба, и он как бы растворяется в символах социального престижа. Этот принцип описания человека совпадает с тем, который избран для города, поразившего поэта своим однообразием, казарменным духом и одновременно разнообразием. Мицкевич не мог остановиться только на одинаковости русских. Чтобы наполнить их образы более глубоким смыслом, он обращается к природе.
«Если в человеке соединяется натура и культура, то его образ с древнейших времен служит их единению <…>. Человек – производное природы, однако, обладая способностью суждения <…>, он противополагает себя всему сущему, выходит за пределы природы, вступает в сложные взаимоотношения с ней» [Свирида, 1997, 5]. Мицкевич отринул в человеке синтез натуры и культуры, снял противопоставление человека культуре, сравняв его с природой, но придав ей лишь отрицательные коннотации. Его человек не покидает пределов природы, но отнюдь не становится ее частью в романтическом смысле, так как природа у поэта, как уже было сказано, переживает резкие изменения. Рассмотрим те из них, которые важны для образа человека.
Поэт в «Отрывке» лишает природу духа. Дух здесь не ответствен за перемены форм в природе, за «работу жизни» [Ю. Словацкий]. Русская природа безжизненна и бездуховна, и эти свои свойства она передает человеку. Оппозиция природа / человек поэтому не порождает резких смысловых противопоставлений. Человек в «Отрывке» не сливается с природой, в отличие, например, от Густава в IV части «Дзядов», который избирает своим другом еловую ветвь, стремясь обрести гармонию души и пережить воссоединение с природой. Здесь человек уподобляется природе, но совершенно на иных основаниях по сравнению с общепринятыми в эпоху романтизма.
Русский человек не входит в контакт с природой, отношение к которой, по мнению М. Пивиньской, можно описать как чувство и как веру. Соприкасаясь с природой, русский не заглядывает в недоступную для него бесконечность [Piwińska, 1989, 568]. Его образ не получает положительных смысловых коннотаций, связанных с природой, так как соприкосновение с ней превращает русского в зверя или растение Севера: «Spijcie spokojnie jak zwierzęta głupie» [Mickiewicz, 1893, 233]. Природа к человеку, таким образом, не приближена. Смыкаясь с ним, она утрачивает свой истинный облик и служит только источником для обширного ряда сравнений. Встретившись с человеком, природа лишается самостоятельности и остается культурным кодом, с помощью которого поэт создает образы русских, черпая образы из мира растений, животных, насекомых. Они примечательны тем, что реальные природные очертания в них лишь едва проступают. Уподобляя человека природе, Мицкевич выбирает из мира природных образов те, которые наделены отрицательными смысловыми коннотациями как в народной мифологии, так и в повседневных бытовых представлениях. Поэт сближает растительный и животный мир с человеком в резко негативном аспекте. Так он создает портрет русского, рассматривая его как особое, невиданное существо, отмечая его силу и безучастность. Для этого Мицкевич дополняет природный код пространственными образами.
«Rozległe barki», «szeroka pierś», «otyły kark» явно не входят в ряд положительных признаков и свидетельствуют о могучем и бездушном человеке. Его глаза, «wielkie i czyste» – это никак не «зеркало души». Они застыли и равнодушно смотрят на мир – «Nigdy zgiełk duszy / Niezwykłym rzutem źrenic nie poruszy» [Там же, 205]. Здесь вдруг происходит мгновенное сближение человека и города – глаза русского подобны его городам, в которых нет души, а есть только порядок. В данном случае его хаотичность на время забывается. Затем Мицкевич обращается к пространственным измерениям. Русские лица подобны их земле – пустой, открытой и дикой: «Twarz każdego jest jak ich kraina, / Pusta, otwarta i dzika równina, / Wszedłszy do środka, – puste i bezludne» [Там же].
Так человек приобретает основные признаки пространства – открытость и пустоту. Огонь души не тронул русских лиц, не оставил на них морщин. Ничто не отложилось на них. На лицах же людей Запада и Востока отпечаталась череда событий, печалей и надежд, ставших своеобразным памятником народа. Точно так же описывается, как мы уже сказали, и русская история.
Обращаясь к природному коду, Мицкевич детализирует его и разлагает на составляющие. Для описания внешнего вида человека пригодны трава, злаки, овощи: «Jak kłosy w jednym uwiązane snopie, /Jako zielone na polu konopie <…> Jak pod liściami ogórki na grzędach» [Там же, 218], «Zielone mundury, /Jak trawy, w które ubera się łąka» [Там же, 220]. Из мира животных и птиц вырастает множество сравнений, образующих развернутые фигуры перечисления, построенные с чисто барочной последовательностью. Они нацелены на создание образов движения.
Адъютанты собираются в стадо, или стаю. Как воробьи из клетки, выпархивают они по приказу царя, срываются с места, как свора собак. Пехота движется, как гончие псы: «jak kundlów psiarnia trąbą poduszczona / Na związanego niedźwiedzia uderza» [Там же, 224]. Пехотинцы выставляют свое оружие, как еж иглы. Впавшие в немилость дворяне, возвращающиеся ко двору, вызывают параллель с домашними животными, а именно, котами и собаками – «Tak z domu oknem rzucony pies zdycha, /Kot miauknie tylko, lecz stanie na nogi, / I znowu szuka do powrotu drogi» [Там же, 221]. Толпа идет по заснеженному Петербургу «na mróz nieczuła jak trzoda soboli» [Там же, 212]. Так к котам и собакам присоединяются соболи. Люди бредут по тротуарам мерно и мощно. Они разбегаются, боясь попасть под сани, «jak przed okrętem białych kaczek stada» [Там же, 211]. Теперь утки оказываются материалом для сравнения. Затем появляются рыбы. Пехота движется, как лед на Неве, но драгуны на Марсовом поле – «jak rybitwy nad wodą» [Там же, 217]. А вот и лягушки. Люди вылезают из толпы, как жабы из болот. Один из полков цветом напоминает мышь, другой – ворону. Мир животных поставляет сравнения и для внешнего вида человека. Военные не различимы, как кони, жующие в стойле. Их приветствия царю подобны ворчанию медведей. Все люди на морозе румяны, как раки.
Природные сравнения особенно снижают образ человека при обращении к миру насекомых. Часть этих сравнений имеет чисто литературное происхождение – нарядна, как бабочка, тонкий, как оса. Другие имеют под собой мифологическую основу – поэт явно опирается на оппозицию человек / не-человек, с тем чтобы свести образ человека на низшие ступени живой природы. На наших глазах происходит подлинная метаморфоза – перед нами уже не люди, а жуки и черви, осы и мухи. Основана эта метаморфоза на движении.
Важный чиновник ползет по улице медленно, как жук. Бедные чиновники вызывают сравнение со скорпионами. Рядом с этими насекомыми навозные мухи: «dworskie muchy, ciągnące za wonią / Carskiego ścierwa, za nim, w miasto gonią» [Там же, 208]. Орудия и солдаты, ими управляющие, становятся единым целым, сращиваются, превращаясь в черного паука, который тут же оказывается тарантулом. Перед тем, как выпустить яд, он дрыгает ножками. Тарантула сменяет муха, производящая аналогичные движения. Вещь также преображается в насекомое. Ящики со снарядами становятся зелеными лесными клопами и болотными жуками.
Люди внешне, особенно издалека, похожи на насекомых. Юные гвардейцы напоминают ос – «w pół ciała tęgo związane jak osy» [Там же, 212]. Дамы выглядят, как пестрые бабочки. В этом же ряду стоят светлячки-генералы, в чьих орденах отражается блеск власти императора. Однообразие войск на параде вызывает их сравнение с червяками. Чтобы их различить, нужен острый взор натуралиста, выкапывающего червей (glisty) из грязи и классифицирующего их. Эти образы должны вызывать отвращение, но не опасность, которая нарастает в скрытом сравнении Марсова поля с саранчой: «Inni w tym placu widzą saranczarnię» [Там же, 217]. Оттуда сорвутся в полет тучи саранчи и покроют собой всю землю.
Распространяется природный код и на духовный облик русского. Как мертвы и неподвижны его глаза, как он похож на животное и насекомое, – так и душа его покоится в грубой ткани тела, подобно гусенице. Уподобление души гусенице не случайно, и выбрано оно прежде всего потому, что гусеница таит в себе чудо перерождения. Здесь явно просвечивает высокая коннотация, сводящаяся к идее способности гусеницы к метаморфозе, понятие которой, как и понятие метемпсихоза, прочно вошло в культурное сознание эпохи и стало ведущим в концепции мессианизма. В этом сравнении, конечно, можно разглядеть и повседневное, бытовое отношение к этому представителю мира насекомых.
Естественно, поэт останавливается на высокой коннотации и предполагает, что гусеница переживет превращение, но какое? Вылетит из нее дневная бабочка или ночная? Есть ли для этого внешние условия? «Ale gdy słońce wolności zaświeci, / Jakiż z powłoki tej owad wyleci?» [Там же, 205]. Так Мицкевич обращается к устойчивой топике романтизма, присутствующей и в «Генезисе из духа» Ю. Словацкого [Софронова 1997, 15–24].
Природный код очевидным образом служит развитию значений оппозиции свобода / не-свобода, также подвергшейся у Мицкевича значительным трансформациям. Категория свободы находилась в кругу доминантных в эпоху романтизма и была явственно сакрализована. Она тесно увязывалась с духом, считалась его выражением и не существовала без любви, которая при переносе в общественный план становилась любовью к народу, к родине. «Свобода – это цель жизни народа, плод его посвящения самому себе <…>, это безотносительное совершенство человеческой жизни» [Dembowski, 1955, 3, 234–235].
В «Отрывке» отсутствует это совершенство, так как в нем развивается тема не-свободы, подтверждающаяся отсутствием духа во всем русском – в природе и в человеке. Люди-жабы, люди-пауки не могут быть свободными. Они несвободны по определению. Но все же есть надежда, что их осенит солнце свободы: «Lecz skoro słońce swobody zabłyśnie, / I wiatr zachodni ogrzeje te państwa, / I coż się stanie z kaskadą tyraństwa?» [Mickiewicz, 1893, 216–217]. Пока же русские невольники, рабы. Неожиданно они вызывают сочувствие поэта: «Ach, żal mi ciebie biedny słowianinie! – / Biedny narodzie! żal mi twojej doli, / Jeden znasz tylko heroizm – niewoli» [Там же, 229]. Русский царь сеет эту неволю и может распространить свою власть на всю Европу, предупреждает Мицкевич. Тему русской не-свободы ведет ключевое слово кнут (knut, biczysko, biczem wali, car knutowładny, grad bizunów, biczyk, pod baty, knutów grady, knuty). Она полностью развивается в эпизоде слуги, который замерз, ожидая хозяина, но не прикоснулся к его шубе.
Русская не-свобода не противопоставлена польской свободе. Эта оппозиция, как и все остальные, также практически снята. Поляки, как и русские, тоже несвободны, но по принуждению. Для их неволи отыскивается библейский образ Самсона, несущий в себе идею освобождения. Они готовы сражаться за свободу, но осознают бесполезность возможных попыток: «Po fundamentach, po ścianach, po szczytach, / Po tych żelazach i po tych granitach / Czepiają oczy, jakby próbowali, / Czy mocno każda cegła osadzona; i opuścili z rozpaczą ramiona» [Там же, 213]. Так возникает не только противопоставление русской не-свободы польской неволе, русской покорности и польской гордости. Оно разбивается и одновременно дополняется стремлением поляков к свободе: «I przewiduje, jak jest kres daleki / Tylu pokoleń zbawienia – swobody» [Там же, 214], недоступным русским. Так явственно проступает романтическое представление о свободе, которую в предельной степени выражает дух, но которого, как и свободы, нет ни в русском пространстве, ни в русском человеке. Дух свободы присущ лишь полякам и Польше.
Изображение России и русских сквозь призму оппозиции свой / чужой, которая одна выдержала испытание текстом Мицкевича, значительно обогащено снятием таких оппозиций, как природа / культура, природа / человек, смерть / жизнь, свобода / неволя, открытость / закрытость, что создает энергетически насыщенный трагизм «Отрывка», образов России и Петербурга, русской природы и русских. Они предстают неподвижными, лишенными энергии и жизни духа. Особый статус, отсутствие противоречивости и динамизма, выводит все русское за пределы романтического космоса. Этому же служит отказ Мицкевича от распространения важнейших романтических универсальных категорий на Россию. Россия – страна холода и смерти, порядка и подчинения. Русские – покорные, забитые, лишенные души. Их природа не напоена духом, она мертва и бездуховна. Все это существует потому, что над Россией нет Божьего благословения, ею распоряжается дьявол.
Говоря о русских, поэт тем самым говорит и о себе, и о своем народе: «Образы чужой жизни, складывающиеся в большом историческом времени в традицию, в инвариантные, устойчивые структуры сознания, отражающие исторический опыт своей нации, не столько, может быть, обогащают знания о другом народе, сколько характеризуют собственную этническую ментальность» [Хорев, 2002, 15]. Представлением чужого, по выражению В. В. Мочаловой, подсвечивается национальный автопортрет, тем более, что в картину русского мира Мицкевич вводит поляка – жертву московской тирании.
* * *
В культуре, как мы показали, существуют не только устойчивые мифы, живущие веками. Им сопутствуют новые мифы, складывающиеся в разные эпохи и существующие довольно длительное время. В них нет информации о мире и человеке в целом. Их объекты – частности, привлекающие внимание общества на конкретном временном отрезке. Новая мифология не вписана ни в вечность, ни в космос. Она принадлежит конкретному пространству, нацелена на описание существующей реальности в мифологическом аспекте. В ней происходит осмысление реальности на языке мифа, а смысловые коннотации, не только мифологического происхождения, существенно дополняют его, образуя некий семантический комплекс, который никогда не характеризуется устойчивостью.
Таким образом, новая мифология питается мифом архаическим, чаще всего избирая его отдельные мотивы. Как и от всякого мифа, от нее не требуют достоверности. Р. Кайуа так пишет о мифе Парижа: «…Существует некое представление о большом городе, столь сильно действующее на воображение, что практически никогда не ставится вопрос о его достоверности» [Кайуа, 2003, 122].
Образ Европы в русской культуре XVIII века
Так устроены все представления не только о своем, но, конечно, и о чужом, никогда не виденном, например российские представления о Европе. Естественно, имеются в виду те из них, которые не зависят от научных изысканий и не основаны на опыте общения или погружения в новую для русского человека реальность. Известно, что, даже не бывая на Западе, о нем можно иметь устойчивые представления, которые складываются из газетных сообщений, популярных публикаций, рассказов, передаваемых из уст в уста. Так слагаются некие устойчивые характеристики Европы, в том числе детализированные. Например, в XIX в. «…если на уровне массовых экзостереотипов Англия была страной чудачеств и комфорта, Франция – политических новостей и мод, Германия – минеральных вод и учености, то Италия мыслилась как „отчизна вдохновенья“, „страна искусств, страна руин“, „край чудный“, что „цветет и блещет / Красой природы и искусств“» [Мазур, 2002, 245]. Очевидно, что подобная детализация состоялась не сразу. Ранее Европа не расчленялась на составляющие, казалась неким целым. Она отнюдь не сразу заинтересовала русских. Долгое время в этом отношении она вообще уступала Азии.
В XIII–XIV вв. «Русь оживленно знакомилась с Европой и Азией. Самой главной, самой больной и повседневной темой были ордынцы» [Демин, 1998, 557]. Именно с Азии, а не с Европы, начиналось знакомство русских с окружающим их миром, которое, естественно, немедленно потребовало мифологизации. Эта мифологизация не отрывалась от христианских представлений о мире. Так, Иван Пересветов писал о Казани как о райской земле, где есть тихость и радость. Индия представлялась русским дальним, едва ли досягаемым пределом, где «соткнулось» небо с землею. Ее близость к раю была несомненной, как и ее христианское начало – ведь в ее земле покоился апостол Фома. Образ Индии мифологизировался столь упорно, что его не могли поколебать ни «Хождение» Афанасия Никитина, ни донесения торговых людей, там побывавших. Таким образом, мифологизация Азии явным образом смыкалась с утопическим началом и не выходила за пределы религиозного сознания. То есть, она несла явные сакральные черты.
Отношение к Европе складывалось иначе. В связи с ней довольно быстро возникла тема опасности. Она казалась чужой землей, «незнаемой страной». Это не мешало формированию стереотипов, основанных на общих сведениях о климатических особенностях и географическом ландшафте Европы. Она воспринималась как переходная зона. Ее упоминали, когда рассуждали о странах света или частях земли, хотя уже возникали и законченные картинки чужих – западных – быта и нравов. В «Книге, глаголемой Козмографией» о Польше и Литве, например, сказано, что подданные там живут вольготно и безбоязненно и господ своих не слушают. Постепенно формировался интерес к культурному облику чужих стран. Им давалась и социальная характеристика.
Так, по словам А. С. Демина, развивалась «этническая зоркость» русской культуры. Вглядываясь в чужое, русские примеривали к нему давно устоявшиеся смысловые оппозиции, среди которых выделялась такая, как свой / чужой. Опираясь на мифологические представления о чужом, они представляли европейское «чужое» как опасное, прежде всего в конфессиональном отношении. Таким образом, противопоставление своего и чужого существенно дополнялось противопоставлением истинной и ложной веры. К XVIII в. эти две пары противопоставлений достроились оппозицией старое / новое. Она также участвовала в формировании образа Европы.
Несмотря на мощное развитие светской культуры, в это время была сделана попытка вписать Европу в рамки христианского космоса. Отнюдь не рай стал художественной дефиницией Европы в эпоху Петра. Напомним, что так описывалась Азия. Все, что приходило из Европы, все петровские инновации воспринимались, естественно, некоторыми слоями населения, как дьявольские ухищрения, а сам царь – как антихрист. Напомним, что в народной культуре «чужое» всегда связывается с дьяволом. Потому этот демонологический персонаж и внешне выглядел как «чужой». Он появлялся не только в зооморфном образе, но и в образе иноземца, одетого в немецкое платье.
Так по отношению к Европе реализовались значения нескольких оппозиций. В комплексе их значений происходила мифологизация ее образа. Позднее образ Европы высвободился из системы религиозных воззрений. Они сменились светскими. Произошло это не сразу, так как для этого был необходим этап приживания европейского в русской культуре, его адаптации. Необходима детализация образа Европы, его расчленение. Должна была произойти спецификация знаний о чужом. Так и случилось – описание жизни других народов перешло в ведение науки. «Литература <…> занялась изображением специфических литературных персонажей – шведов, немцев, французов, итальянцев, испанцев, турок» [Демин, 1998, 564].
Знакомство с Европой шло сразу в двух планах – реальном и мифологизированном, которые постоянно перекрещивались. Оно происходило не только на высоком уровне культуры, но и на срединном, который также принял тему Европы, пока не рефлектируя ее. На этом уровне был создан образ, в котором самым очевидным образом сливались реальные и мифологизированные черты. То, что срединный слой русской культуры вобрал европейские мотивы и по-своему осмыслил их, чрезвычайно важно. Так образ Европы усваивался массовым сознанием.
Рассмотрим, как проводилась тема Европы в литературе, прежде всего, переводной, и в театре – светском и школьном. Этот материал позволяет увидеть, как не в ядре культуры, а на ее периферии происходило узнавание, усвоение и присвоение чужого [Одесский, 1999, 97], что обеспечивало его широкое распространение.
Литература была одним из путей секуляризации культуры в целом. Уже в XVII в. она освоила европейский рыцарский роман, адаптировала его и запустила в массы читающего населения. Как пишет Л. И. Сазонова, «переводная литература в России XVIII в. стала источником для дальнейшего формирования жанровой системы новоевропейского типа с тремя родами – эпос, лирика, драма» [Сазонова, 1999, 421]. Эта литература сыграла важную историко-культурную роль. Через нее шло знакомство с Европой. Она была востребована, о чем свидетельствует неоднократность переводов с иностранных языков. «Сколь бы ограничена она ни была и по своему содержанию, и по своему социальному адресату, она получает определенную автономию, и именно это представляет собой наиболее важную инновацию» [Живов, 1996, 62]. Переводные произведения вливались в культурный фонд и уже не распознавались как нечто чуждое, в чем видится продолжение древнерусской традиции. Аналогично усваивались переводные произведения и в древнерусской литературе. В XVIII в. адаптированные романы постепенно превращались в народные книги, привлекавшие читателей своей занимательностью. Категория занимательности была ведущей в культуре того времени, постепенно освобождавшейся от религиозно-дидактических норм. Она и стала своеобразным пропуском для всего европейского.
Так как переводная литература была усвоена читающим населением, то можно сказать, что оппозиция свой / чужой по отношению к ней не активизировалась. Как пишет М. П. Одесский, «при анализе старинной литературы не совсем корректно придерживаться современных представлений о „своем“ / „чужом“, российском / иностранном» [Одесский, 1999, 9], что совершенно справедливо. Кроме того, следует иметь в виду, что при усвоении европейского романа продолжала действовать оппозиция сакральное / светское. Она, расчерчивая культурное пространство эпохи, сочеталась с оппозицией старое / новое. Переводной роман полностью соответствовал представлениям о светском и новом, потому он и являлся своеобразным толчком к мифологизации Европы, но уже в светских измерениях.
Адаптированные романы образуют мощный пласт светской направленности. Их восприятие способствует интенсивности присваивания «чужого». Читатель принимает их и не возражает против того, что романные герои носят иностранные имена, пребывают в заморских странах. Напротив, «иностранность» только привлекает новизной и вымыслом. Читатель не требует русификации и довольствуется тем, что имеет. Романы укрепляются в культурном обиходе настолько, что их персонажи становятся героями лубочных картинок и переходят в фольклор. Связь сказки с романом общеизвестна. О ней не раз писала Э. В. Померанцева [Померанцева, 1975]. Читатель опознавал романы как близкие сказке, а сам роман неуклонно к ней приближался. Это не мешало узнаванию других обычаев и нравов, новых правил отношений между людьми, пока только начинавших артикулироваться в России. Переводные романы, как, впрочем, и малые литературные жанры, таким образом, не только влияли «на литературную „фантазию“, литературную культуру, образованность, литературную моду» [Małek, 1996, V]. Они участвовали в строительстве нового типа культуры.
Здесь следует отметить один важный культурный парадокс. Массовый читатель, черпая из переводных романов знания о Европе, перемещался во времени. События, воссозданные в романах, никак не соответствовали европейской культурной ситуации XVIII в., а относились к иным эпохам, не совпадая во времени ни с русской, ни с западноевропейской культурной ситуацией. То же наблюдалось в древнерусской литературе, которая в «XI–XII вв. больше рассказывала об отдаленном прошлом чужих народов, чем об их настоящем, – в переводных житиях, повестях <…>. Современное состояние других народов интересовало писателей только попутно с русскими делами – в основном в летописях» [Демин, 1998, 555].
Перед читателем романов разворачивались картины европейского рыцарского средневековья, с которым он знакомился основательно, так как каждый из них был посвящен этому времени, которое, естественно, освещалось отнюдь не в реалистических традициях. Немалое значение в романах имела фантастика, но все же образ европейского средневековья в них вырисовывался. Конечно, его традиции еще продолжали существовать в большом времени, но все же именно в XVIII в. Европа рассталась с ним окончательно. Для русского массового читателя средневековье еще подспудно длилось, и потому он легко воспринял его западноевропейский вариант в художественном облике, естественно, по-своему. Заимствованные формы, т. е. роман, включают в действие механизм культуры, который В. М. Живов называет механизмом неадекватного перевода с одного языка культуры на другой, который именно в силу своей неадекватности приобретает творческий характер [Живов, 1996, 62]. Эти свойства переводного романа позволили ему прижиться в России и стать главным проводником знаний о Европе для широких читательских масс.
Эти знания поддерживались, подпитывались изменениями, происходившими в русской жизни. Государственная жизнь стала публичной. Она оформлялась по европейским образцам, что наблюдал не только двор, но и широкие слои населения, которые могли видеть, как происходили церемонии государственной важности или маскарады, оформлявшиеся как шествия. Европейский политес и мода стали известны настолько, что начали осмеиваться в лубочных картинках, приведенных, например, в каталоге «Представь мне щеголя…» [Представь мне щеголя, 2002]. В нем есть картинки, изображающие кавалеров и дам, их модные прически и костюмы, жесты и позы щеголей и щеголих. Рассматривая их, читателю потом было нетрудно представить, как выглядели герои переводных романов. Он уже не недоумевал, по какой причине сражались рыцари на турнирах, кавалеры на дуэлях и что такое бал или ассамблея.
Не меньшее значение, чем литература, в плане распространения знаний о Европе, пусть условной и отдаленной во времени, имел театр – «охотницкий», или любительский [Старикова, 1996]. Появившись в эпоху Анны Иоанновны, он продолжал существовать и позднее, был массовым видом искусства и пользовался популярностью среди московского населения самых разных слоев. Этот театр никак не реагировал на петербургскую придворную театральную жизнь и существовал самостоятельно. Если в Петербурге эта жизнь строилась в соответствии с требованиями организаторов и созидателей культуры нового типа, то в Москве развивалась по-своему, тесно смыкаясь с литературой, а именно – с переводными романами и повестями, благодаря чему театр пользовался широкой популярностью среди московского населения.
Можно сказать, что театр продублировал информацию о Европе, переведя ее в визуальный ряд, превратив слово в зрелищное действие. Повторение литературных сюжетов на сцене еще в большей степени позволило прижиться европейским мотивам и способствовало их повсеместному усвоению. Это были сюжеты, как мы уже сказали, относящиеся к средневековью, но на русской сцене они осовременивались, что приводило к появлению множества анахронизмов. Например, короли, восседающие на тронах, размышляли о том, что у других властителей много войск и «аппарата, / инны честно своего дело правит штата» [Ранняя русская драматургия, 1975, 331]. Они повышали своих придворных «рангом», рассылали манифесты и авизи, посещали заседания сената, которые неустанно показывались на сцене. Так реальность в какой-то мере сдерживала мифологизацию картин европейской жизни, одновременно обогащая их понятными реалиями.
Со сцены «охотницкого» театра европейские новшества стали известны не только кругу читающей публики. При Петре, «сделавшись элементом публичной жизни, секулярная культура получает совершенно новую роль: она больше не услаждает немногих, а воспитывает общество целиком или во всяком случае ту его часть, до которой дотягиваются руки утверждающей новую культурную парадигму власти» [Живов, 1996, 65]. До «охотницкого» театра эти руки не дотягиваются, но тем не менее и он воспитывает публику, но делает это совершенно иначе, чем культура официальная, государственная. Он дает уроки, но другого рода, не только по-своему рассказывает о европейской жизни, но и показывает ее. Зрители, наслаждаясь зрелищем, воспринимали, пусть заодно, некий европейский опыт, который затем переживал этап мифологизации.
Театр для этого располагал большими возможностями, чем литература. Он адаптировал литературные сюжеты для сцены, перекладывал их с языка прозы на язык зрелищного искусства, переводил письменное слово в визуальное действие. Перед зрителем в театре разворачивались события, которые он уже хорошо знал из переводных романов. Литературные герои на сцене приобретали знакомый по книгам облик, пусть и условный. Эти герои совершали самые различные действия и вступали в конфликты, разворачивающиеся на глазах у зрителей, которые уже не воспринимали представляемое для них зрелище как нечто экзотическое или совсем непонятное. Сюжеты и герои были для них своими, привычными. Ф. Ф. Вигель в своих «Записках» однажды сказал, что успехи театра «тесно связаны с успехами нашей словесности» (цит. по: [Крылов, 1982, 97]). В тридцатые – сороковые годы XVIII в. связь эта была прямая, притом не с «нашей» словесностью, но с переводной.
Очевидно, что знакомство с изящными кавалерами, которых за военные доблести награждали пристойными презентами, рыцарями, соблюдавшими политес, сражавшимися на турнирах и дуэлях, отправлявшимися завоевывать дальние страны и прекрасных принцесс, с «фелтмаршалами» и «карсарами», не было особенно продуктивным для знания современного состояния культуры. Зритель, как и читатель романов, следил за теми сюжетами, которые в Европе уже вошли в культурный фонд, но никак не были современным достоянием. Такой временной парадокс в значительной мере способствовал мифологизации знаний о Европе.