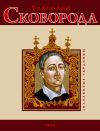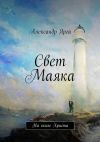Текст книги "Культура сквозь призму поэтики"

Автор книги: Людмила Софронова
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 43 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Красиньский задумывал «He-Божественную Комедию», намереваясь построить следующий ряд: юность – зрелость – старость. В первой части является Юноша, во второй, которую можно считать собственно «Комедией», Муж. В третьей поэт замышлял вывести Старца. Он повторил бы образ Юноши, но без присущих юности смятений и борьбы. Исповедуя всеобщее для романтиков почти религиозное отношение к молодости, поэт даже называл последнюю часть предполагаемой трилогии поэмой о молодости, которая в образе Старца явится в более высокой и развитой форме.
Несмотря на молодость, романтический герой был готов жить в прошлом и всегда знал цену воспоминаниям. Девица из I части «Дзядов», мечтая о великой любви, надеется, что будущие воспоминания вселят в ее жизнь прошлое. Тогда бы можно было радоваться будущему. Другой персонаж этой части поэмы, Колдун, особо говорит о тех, кто вспоминает прошлое. Юноши также знают, что стоят посередине жизни – между радостей и печалей. Юность здесь программно противопоставлена старости.
Тема прошлого в историческом аспекте подробно разработана Красиньским в «He-Божественной Комедии». Настоящее романтики видели как сложение прошлого и будущего. Они постоянно переходили от предчувствий к воспоминаниям. Настоящего времени они не признавали: «Не есть ли настоящее время аллегорией? Кто действительно в это верит, тот скажет: нет настоящего времени. Время было или будет. Оно никогда не есть. Всегда развивается» [Mochnacki, 1923, 7]. О будущем чаще говорили в связи с прогрессом, с развитием человечества. Его воспринимали как проекцию работы абсолютного разума. Мицкевич видел цель поэзии в воплощении форм будущего, Красиньский называл себя человеком будущего, а не прошлого.
Мы уже говорили о том, что романтический герой должен быть странным. Иногда эта странность граничила с безумием. Безумие в ту эпоху воспринималось как форма неприятия чуждого холодного мира, лишенного идеи и чувств. Оно представлялось максимальным проявлением индивидуального начала и незаурядности, господства чувств над разумом. Человек с ненормальной психикой нарушал требования здравого смысла, протестовал против предрассудков. Безумие поэтому виделось как способ манифестации общественных позиций. «Безумцы выключены из общества; они не могут представлять конформистские идеи, которые постепенно уничтожают пропасть между действительностью и идеалом. Их бунт против порядка носит тотальный характер» [Kowalczykowa, 1977, 73].
Безумие в романтической системе ценностей ассоциировалось с творчеством. Потому поэт мог объявляться божественным безумцем: «Состояние сумасшедшего не имеет ли сходство с состоянием поэта, всякого гения-изобретателя?» [Одоевский, 1975, 25]. Считалось, что, когда он отдается творчеству, его охватывает божественное безумие. Он «творит в беспамятстве, оттого все в нем мыслимо» [Новалис, 1980, 95]. Безумие для романтиков было «высшей ступенью человеческого умственного инстинкта» [Одоевский, 1975, 25]. Следовательно, категория разума участвовала в сложении комплекса значений, приписываемых безумию. Оно есть крайняя степень отчуждения от общества и знаменательно также тем, что имеет непосредственное отношение к комическому, так как все меняет местами, переворачивает, заставляет по-новому взглянуть на чувственный мир, т. е. служит приему отстранения. «Юмор по видимости граничит с безумием, которое лишается здравого смысла и рассудка по природе…» [Жан-Поль, 1981, 162].
Сквозь призму безумия, отрицающего общепринятый смысл жизни, привычную систему ценностей, романтики стремились по-новому взглянуть на мир. Интерес к безумию – это не только тяготение к странному, непонятному, к тем тайным силам, которые управляют человеком не таким, как все, человеком, который впадает «в черную меланхолию, перемежающуюся приступами яростного бешенства» [Гофман, 1984, 45], бродит по лесам, пугая людей, пророчествует и проч. Сумасшествие открывало романтикам безграничные возможности представить мир иначе, лишив его привычных очертаний. Романтики искали тонкие нити, связывающие обыкновенный здравый смысл и безумие, пытаясь разгадать тайны человеческой души. У безумца чувства преобладают над разумом, что особенно привлекало романтиков.
На безумие Густава есть ряд намеков в IV части «Дзядов». Таким его видит Священник: «On ma rozum pomieszany» [Mickiewicz, 1955, 49] – «С ума сошел, бедняжка!» [Мицкевич, 1952, 63]. Иногда кажется, что двойственная природа этого персонажа, посетившего земной мир и находящегося в стране смерти, как бы отступает на второй план, а на первый выходит герой-безумец. Он не однозначен в этой своей характеристике, так как аллюзии мифологического свойства все же не снимаются. На возможное безумие Густава указывают не только сбивчивые речи и неадекватное поведение, но и костюм из лохмотьев и цветов. Как он сам говорит, он повторяет облик деревенской сумасшедшей, увиденной им когда-то в детстве. Именно поэтому образ Густава двоится. Как «просто» сумасшедший и как гость из того мира, он все равно лишний на этом свете. Иногда этого героя трактуют только как безумца, и это определяет некоторые театральные интерпретации «Дзядов», что представляется совершенно неверным и упрощенным.
В сознании Густава путаются действительность и мечты, а отдельные воспоминания повторяются почти автоматически, но он искренне тоскует по непреходящему чувству. Безумие стягивает в себе и другие мотивы. Они концентрируются в одном символе, о котором мы уже говорили, – еловой ветви, этом единственном друге Густава.
Также сходит с ума жена Хенрыка в «He-Божественной Комедии» Красиньского. Она теряет разум, посвящая на крестинах своего сына в поэты. Затем заканчивает свою жизнь в сумасшедшем доме. Ее безумие «реально» и не имеет мифологической подосновы. Оно соотносимо с миром лечебниц, принудительным режимом водных процедур, равнодушными врачами и несчастными больными. Красиньский не боится ввести в романтическую «Комедию» прозу жизни. Его героиня сидит в настоящем сумасшедшем доме с зарешеченными окнами. В ее палате слышны крики безумцев. Один провозглашает себя королем, другой – Богом, кто-то из них призывает к свободе и возвещает Страшный суд. Под эти призывы, так и не найдя успокоения в жизни, Мария умирает, предсказывая всемирную катастрофу. Перед ее взором встает Бог, бросающий крест в пропасть. Эти ее слова, произносимые в бреду, зеркально отражаются в финале «Комедии». Так с темой безумия сочетается тема богоборческая. Мицкевич, разбирая «He-Божественную Комедию» в «Лекциях по славянской литературе», указал на то, что в словах безумных «бурлит мысль будущего. Это источники в вулканических горах; слова безумных – столбы дыма, подымающиеся из расщелин. Это зародыш будущего безумного, сатанинского мира» [Mickiewicz, 1955, 11, 71].
Очевидно, что романтический герой может быть охарактеризован иначе, но выдающиеся произведения польского романтизма, как и философии того времени, очерчивают именно такой его образ, который может дополняться и другими чертами, так как на самом деле он – вечно изменяющийся. Именно связь человека с духом, жажда свободы, возведение любви на недосягаемую высоту, преклонение перед искусством и поэтом, культ природы являются его доминирующими чертами. Он не отделен от божественного начала. Знает он и мощь сил зла.
* * *
Образ человека можно рассматривать в самых разных аспектах. Один из них – это аспект национального, который обычно предполагает сравнение. «Как представляется, в создании этнического стереотипа не обходится без зеркала, причем подставляют это зеркало чужие. Соответственно оказывается, что это не мы сами (и как субъект, и как объект), а наше отраженье в зеркале чужом воспринимается как аутентичное и самое „правильное“» [Цивьян, 2001, 11]. Но бывает и так, что такие характеристики складываются из воззрений на самих себя, хотя подспудно представлення о чужом в них, конечно, присутствуют. Анализ этих воззрений разрешает представить, какими чертами наделяется человек, каким он хочет видеть себя и что в себе отрицает. Обычно это черты условные, из которых складывается образ желаемый, комплиментарный. Или, напротив, этот образ пишется в критическом освещении, – тогда проступают его негативные черты.
Национальный автопортрет
Подобные самоописания можно назвать автопортретом, естественно, в переносном смысле. Автопортрет изображает личность, человека в обобщенном виде. Он раскрывает «отношение к собственной личности, к своему народу, к своей истории во множестве отдельных случаев. Подобно тому, как автопортрет художника в большинстве случаев представляет нам личность изображенного точнее и подробнее, чем любой портрет того же человека, исполненный третьим лицом, хотя бы уже в силу того, что к информации, заложенной в самом изображении лица, добавляется информация о творческой манере автора, которые усиливают друг друга» [Громова, 1999, 58].
Автопортреты более активно писались в эпохи, отличавшиеся тенденцией к рубрикации и классификации. Затем они основывались на сравнении. В Новое время задача написать самого себя с точки зрения национального довольно редко ставится в литературе и искусстве. В основном, авторы бывают нацелены на психологические или социальные характеристики. Это не значит, что задача создания национального автопортрета полностью уходит. Она, например, решается в публицистике.
Автопортрет в национальном аспекте сложился не сразу. Так, например, «русский летописец (автор собирательный) воспринимал вообще отдельного человека, кем бы он ни был конкретно (не личность, индивидуальность, а каждого из „человеков“)» [Демин, 1999, 12]. Он мало внимания обращал на внешность, которую воспринимал фрагментарно, не различая внешнее и внутреннее. В целом представление древнерусского летописца о человеке было мозаичным. В тех литературах, где была развита мемуаристика, автопортреты появились раньше, как, например, в Чехии [Панек, 1999]. Позднее, уже в эпоху романтизма, авторы самоописаний сосредоточились на идее отражения в каждом человеке национального начала: «Мир – это отечество, а народы, как люди» [Mickiewicz, 1955, 27]. Могли их занимать «личности высшего порядка» [Н. О. Лосский], человек какой-либо одной эпохи, конкретная личность, черты которой обобщались, что приводило к созданию национального автопортрета вообще, относящегося уже не только к одному человеку.
Очевидно, что в национальном автопортрете всегда присутствует самооценка, которая, как при оценке отдельного индивидуума, бывает то заниженной, что встречается довольно редко, то завышенной. Так, Ян Длугош, польский хронист, резко оценивал своих современников. Его характеристика польской шляхты отнюдь не комплиментарна. Поляки, пишет он, завистливы и коварны, что хронист объясняет стремлением быть похожими на другие народы, а также влиянием климата и звезд, возможным происхождением поляков от сына Ноя, Хама. Поляков притягивают богатство и слава, но они же смело бросаются в бой за отчизну и презирают смерть. Они не держат слова, зато гостеприимны. Шляхта проматывает огромные наследства. Крестьяне же трудолюбивы, но склонны к пьянству и дракам. В чешских сочинениях XV в., как пишет Г. П. Мельников, также появляется негативный портрет нации. Отрицательные черты здесь объясняются чуждыми влияниями извне. В сочинениях Г. С. Петрова, популярных на рубеже XIX–XX вв., присутствует заниженная оценка русских. Он постоянно указывает на национальные недостатки и «с горечью констатирует, что в России царит повсеместное тупое равнодушие ко всему, и в первую очередь, к собственному жалкому существованию» [Куренная, 1999, 47]. При этом он видит развитие национального начала, подавляемое государством.
Искажения самооценки естественны. Без них обойтись нельзя. Они важны и сами по себе, так как задают угол зрения на человека как носителя национального начала. Они бывают исходной точкой мифологизации его образа. «Люди погружены в то, что мы могли бы назвать мифосемиотическим совершением» [Михайлов, 1990, 43].
Самоописание в национальном аспекте является органической частью самоописания культуры, без которого, по словам А. В. Михайлова, она не существует: «Образ эпохи складывается из ее „объективности“ и ее самоистолкования; но только то и другое уже неразделимо, и „объективность“ невычленима из потока самоистолкования» [Михайлов, 1990, 48]. Через автопортрет возможно рассматривать проблему индивидуальности. Она «в истории культуры принадлежит к числу актуальнейших проблем современной исторической мысли. Это проблема одновременно научная и нравственная» [Гуревич, 1990, 3].
Подобные самоописания в национальном аспекте содержатся в художественной литературе, где могут служить осью, на которую нанизывается сюжет. Есть они и в театре, и в кинематографе, где выстраиваются визуальными средствами, и, конечно, в изобразительном искусстве. В них всегда спорят «интересы искусства с интересами антиискусства» [Алпатов, 1974, 6], так как в них заложена и внеэстетическая информация о человеке, в том числе, как носителе этнического, национального сознания. Таким образом, национальная идея и отношение к ней может быть вычленено из самых разных автопортретов.
Присутствуют они и в философии, как у Н. О. Лосского, Н. А. Бердяева, в публицистических выступлениях. Таковым можно считать «Маленькую хрестоматию для взрослых. Мнения русских о самих себе», автор которой, К. Скальковский, составил ее из мнений и отзывов «первоклассных умов». Они, с его точки зрения, помогают «понять сущность русского национального характера, русского человека, русской народной и общественной жизни в наиболее важных ее аспектах» [Ритчик, 1999, 52]. К. Скальковский, как и Г. Петров, указывал на негативные стороны национального сознания.
Создаются национальные автопортреты и в литературной критике. В. Г. Белинский через художественные образы и образ потенциального читателя постоянно выписывал русский национальный автопортрет. Автопортреты формируются и в сфере пропаганды, где непременно идеализируются. Встречаются они в городской культуре, например, в анекдотах на национальную тему, где обязательно сравниваются с портретом представителей других народов. Попадая в зону смеховой культуры, автопортрет необязательно снижается. Часто в нем происходит возвеличивание своего. Аналогично обстояло дело и в средневековых фацециях, где за счет уничижения чужого приподнимался свой. В подобных текстах, следовательно, необязательно рисуются сниженные автопортреты. Этого никогда не бывает в произведениях, предназначенных для народного чтения, как, например, в словенских «буковниках» [Т. И. Чепелевская].
Выводы о человеке, которые можно извлечь из самых разных текстов, принадлежащих низовой или срединной культуре, мало чем отличаются от тех, которые делаются в высокой культуре. Ценностные ориентации в них сходны. То есть подобный вид самоописания существует решительно на всех уровнях культуры и проводится он одинаково, только разными средствами. Между различными автопортретами существует множество переходов, связей, а также отталкиваний. Они отстоят друг от друга во времени или существуют одновременно. «Каждый народ ищет понять себя, и „Автопортрет“ русского, поляка, чеха и т. п. – нарисовать – это осуществить труд национального самоПОзнания и самоСОзнания – труд, который делается каждой национальной культурой на тысячу ладов и с разных сторон. Сократова работа: „познай самого себя“» [Гачев, 1999, 204].
Список черт в национальных автопортретах примерно одинаков. Патриотизм, искренность, трудолюбие, храбрость, мужество присваивает себе каждый народ. Могут эти черты, как мы уже сказали, заменяться антитезами в сниженном автопортрете. Если бы они существовали в «оголенном» виде, то были бы мало интересны. Но так как они собираются из истории и мифа, из священного и мирского, так как серьезное начало соседствует в них с элементами народной смеховой культуры, эти черты приобретают полноту. Заметим, что в одних автопортретах степень мифологизации бывает довольно велика. Другие, напротив, стремятся к объективности. В них просвечивают принципы бытового и ритуального поведения. Автопортреты не существуют без такого культурного феномена, как вещь. Таким образом, идея национального, заданная в образе человека, решается через множество культурных кодов.
Естественно, национальный автопортрет не однообразен. Иногда он дается прямо, порой тонет в потоке аллюзий и цитат. В одном на первый план выступают социальные характеристики, переводящиеся в план национального, в другом – превалируют черты нравственные или психологические. Не меньшее значение имеют в автопортретах отсылки к истории, географии. Польские просветители, рассуждая о национальном характере, «руководствовались теорией географического детерминизма, согласно которой физические и духовные качества людей зависят от географического положения и климата» [Филатова, 1999, 129]. Автопортрет может помещаться в сферу сакрального [Лескинен, 1999, 83]. Создаются исторические автопортреты. Тогда самоописания бывают вписаны в историю, обращены в прошлое, т. е. строятся как ретроспективные. Обычно они всегда поднимают ранг автопортретов современных. Это было особенно характерно для эпохи романтизма – удаленность во времени позволяла «очистить» их от позднейших наслоений. В реставрированном виде такой автопортрет предстает, например, в сочинениях К. Бродзиньского [Филатова, 1999, 132]. Проецируются автопортреты в будущее время, особенно в сочинениях утопического типа. Они служат созданию выверенных систем человеческого счастья и благоустройства общества. Помещаются автопортреты и в настоящее время, которое обычно бывает тесно связано с прошлым.
Все варианты автопортретов разрешают обнаружить в них человека как носителя национального самосознания, языка и культуры. «Портрет» культуры проступает в них. Е. Б. Громова остроумно сравнивает национальный автопортрет с библейской притчей, в которой отражаются «глобальные вопросы бытия», пронизывающие весь священный текст. «Подобно притче, такой факт (самоописания. – Л. С.) становится отправной точкой для понимания и оценки сопряженного с ним историко-культурного пространства» [Громова, 1999, 59].
Автопортреты всегда предназначены для кого-то, имеют или прямо названный адресат, или он только подразумевается. В зависимости от этого черты автопортрета меняются. «Всякий текст (в особенности, художественный) содержит в себе то, что мы предпочли бы называть образом аудитории…» [Лотман, 1977, 55]. Эта аудитория может не обладать необходимым набором знаний, которые требуются для проникновения в смыслы автопортрета. Поэтому они искажаются, прочитываются по-своему. Тогда автопортрет обогащается новой интерпретацией, как и в том случае, когда аудитория более просвещенна, нежели автор очередного автопортрета. Он, например, может и не помышлять о высоких обобщениях. При несовпадении ожиданий аудитории, контрасте между ее восприятием и объектом автопортрет все равно остается узнаваемым. Если он попадает в «чужую» аудиторию, то требует развернутых комментариев, ибо остается непонятным.
Автопортрет славянина по Мицкевичу
Романтики не только создавали психологический портрет человека, связывали его с Богом и дьяволом, ставили в центр Вселенной. Они, занятые идеей национального, примеряли ее к человеку. Человек как носитель национальных или этнических черт интересовал Мицкевича, посвятившего ему в «Лекциях по славянской литературе» немало страниц. В этих «Лекциях» поэт выстроил славянский автопортрет, выделив среди славян поляков и русских. То, что он хотел представить славян в целом, естественно. В разных славянских странах делались такие попытки, например, в Чехии. Ян Коллар считал, что славяне «заслуживают, чтобы „определили и описали их жизнь, характер и свойства, причем как добрые, так и плохие“» [Титова, 1999, 182]. Он полагал, что существует «славянская нация» в целом. Обоснование этому Ян Коллар видел в многочисленности славян и общности их языков.
В течение нескольких лет Мицкевич выступал с лекциями в парижском Коллеж де Франс. Объявив главным предметом исследования литературу, поэт ввел в заблуждение своих слушателей, а затем читателей и исследователей. Действительно, он много говорил о литературе, которая была для него выразителем национального духа, национальной идеи. Этой ее функцией он занимался более основательно, чем литературной формой. Но на самом деле объект поэта был значительно шире. Поэт привлекает материал других искусств, а также языка и истории. Поэтому его «Лекции» перерастают в романтическую историю культуры славянских народов, которую он пишет как поэт и одновременно как исследователь искусства слова.
Мицкевич читал эти лекции, помня о своей миссии романтического поэта-пророка. Усматривал в своем труде тайный высокий смысл, так как объяснял Западу, кто такие славяне, что такое романтическое искусство и как движется история. Мицкевич хотел донести до Европы сведения о славянах, об их современном и прошлом состоянии, с тем чтобы Европа – в первую очередь, Франция – осознала, кто такие славяне, а также предвидела их появление на европейской сцене. Так астрономы заранее знают о перемещении комет и метеоров, правда, рассчитывая их, говорил поэт. Осознавая важность своей миссии, он называл свою кафедру не только трибуной, но и ковчегом спасения. Она в его глазах становилась бастионом и знаменем.
Мицкевич рассчитывал на смешанную аудиторию, одна часть которой – славяне, преимущественно поляки, другая – французы. Ее неоднородность влияла на характер лекций. Поэт старался объединить аудиторию и быть понятым всеми, пытаясь разделить свою точку зрения на материал с аудиторией, разбитой на две части происхождением, историческим и личным опытом. Упрочивая связи с французской ее частью, Мицкевич создавал комплиментарный портрет французов, наделяя их заодно особой способностью проникать в мир славян. Он видел черты, объединяющие славян и французов. Это дух и интуиция, одинаково им присущие. Для них в равной степени значим культ Наполеона, который, по словам поэта, для всех есть совершенное воплощение духа, идеальный человек, лучший комментатор Евангелия и даже архетип нового искусства.
С кафедры Коллеж де Франс Мицкевич говорил о себе, подчеркивая свое польское происхождение, называя себя славянином и свидетелем движения, которое переживает разум и душа западных народов. Свой исторический и национальный опыт он вписывал в круг славянства, утверждая, что говорит от имени всех славян – поляков, русских, чехов, сербов, иллирийцев. Он был уверен, что отвечает на призыв славянского духа, что он голос славянского духа. Поэт знал, что должен сказать о славянах то, что еще не сказано, потому что имеет на это право. Его собственная личность, его душа – главное свидетельство особости славян, которую не выявят никакие книги и никакие системы. Он даже готов кричать с кафедры, и этот крик станет воплем души измученных славянских народов. Право поэта говорить от всех славян освящено свыше. Ему дано услышать глас Божий, его ведет Провидение. При этом Мицкевич заявляет, что смотрит на славян глазами французов.
«Лекции» его многослойны и в некотором роде противоречивы. Условно в них можно выделить несколько тематических рядов. Темы языка, истории, литературы образуют историко-филологический ряд. Присутствует также тематический ряд искусства. Поэт обращается к театру, архитектуре, живописи, музыке и даже хореографии. Все эти виды искусства едины, так как выражают дух и свидетельствуют о цельности познания мира.
Романтики превыше всего ставили музыку. По мысли Мицкевича, именно музыка происходит из нематериального элемента, но воздействует на материю, усмиряя ее и одерживая победу над животными ее силами. Она высвобождает дух. Не менее занимала поэта живопись и скульптура. Мицкевич полагал, что живопись – это не призвание славян. То, что могут передать краски, мрамор и бронза, они постоянно носят в своей душе и потому не чувствуют потребности в живописных и скульптурных копиях невыразимого. Также Ю. Клячко считал, что «художества никогда не цвели в Речи Посполитой, и даже если будут существовать отдельные таланты (Родаковский, например), то этот мнимый расцвет искусств ничего не даст тому главному, что должно подчинить себе чувства и мысли польского общества» [Klaczko, 1912, 175]. Дух, который способна выразить скульптура, тесно связан с земным началом. Она не может подняться до высот живописи, тем более слова. В таком ключе Мицкевич размышлял о живописи и скульптуре. К. Бродзиньский посвятил танцу особый трактат, расшифровывая его смыслы через политический код. Мицкевич не строил прямые аналогии подобного рода, но считал танец способным наравне с другими искусствами выразить дух народа.
Он писал не только о разных искусствах, но затрагивал проблемы современной философии, углублялся в исторические, этнические, религиозные вопросы, политику. Подобный синтез тем свойствен романтикам, стремившимся соединить средства художественного отображения и научное познание мира. Романтизм тяготел к философии, которая объявлялась стихией, основой и первоэлементом. От нее ожидали «нового знания», развития, роста, вхождения в жизнь. Как философия тяготела к искусству, так искусство стремилось к философии, а также к точным и естественным наукам. Многие термины этих наук вошли в художественный язык романтизма. Многие законы естественных наук были перенесены на человека и на историю. Были усмотрены, например, схождения между физическими законами мира и отношениями между людьми. В явлениях магнетизма увидели сходство с миром чувств. Химия открыла тайны перехода от неживой природы к жизни духа. Минералогия давала определения типов литературы. Все эти науки, в том числе и математику, романтики наделяли поэтическим началом. Они всегда мечтали об универсальной науке, стремились к всеохватности, энциклопедичности [Вайнштейн, 1994, 58–65]. Были уверены в том, что должна существовать некая единая, всеобъемлющая наука, которой будет подвластно все в природе и которая выявит связь между отдельными ее элементами. В романтизме искусство не было обособлено от научного видения мира.
В свете сказанного понятно, что Мицкевич также стремился к синтезу, что и позволило ему создать романтическую энциклопедию культуры. Этот синтез был особым, так как поэт слил воедино романтическое видение человека, искусства, общества. Научный подход у него нерасторжим с поэтическим. Поэтому он смело соотносил факты истории, литературы, живописи, политики, истории религии, видя в них глубинный рост духа.
«Лекции», будучи синтезом, в то же время являются славистическим исследованием. В них рассматриваются хроники и летописи, «Слово о полку Игореве», славянская мифология. Особенно притягивают поэта поверья, связанные с вурдалаками и упырями, обычаи и обряды. У него немало фантастических домыслов, но также и научных предвидений, оправдавших себя в дальнейшем. Он не стремится к идеальной точности, свободно обращается с «верхним слоем» истории и литературы. Конечно, зависит Мицкевич и от состояния современной ему науки. Он допускает «внешние» ошибки, делает экстравагантные интерпретации и, тем не менее, выстраивает обобщенный образ славянина, смешивая историю и современность, народную культуру и искусство романтизма. Он помещает этот образ в настоящее, прошедшее и будущее. Он вырисовывается у него, когда он разбирает поэму А. Мальчевского и когда пишет о политике Ивана Грозного.
Анализ национальной идеи в связи с конкретным человеком выделяется в «Лекциях» как важная составляющая самоописания культуры эпохи романтизма. Поэт уверен в том, что чтение книг и изучение истории не так важны для понимания славянства. «За текст (обратим внимание на использование будущего семиотического термина. – Л. С.) мы приняли человека, книги же сочли комментариями» [Mickiewicz, 1955, XI, 352]. Главное – прозреть в человеке те черты, которые являются национальными.
Мицкевич предлагает и в себе увидеть идеального славянина. Свой автопортрет он совмещает с портретами исторических персонажей разных эпох, известных в славянском мире, королей и знаменитых воинов. Рядом с ними возникают портретные наброски простых людей с подробностями их повседневной жизни. Мицкевич рисует картинки славного сарматского прошлого. Здесь и восточный стиль одежды, и толпы слуг и вооруженной шляхты, прибывшей на сеймы под хоругвями и разбившей лагерь под открытым небом. Эти «картинки» оживают с введением словесных характеристик, которыми поэт наделяет многих исторических персонажей. Мицкевич, оставляя за собой право сочинять, пишет: «Это почти те самые слова, или по крайней мере смысл слов, написанных прусскими хронистами той эпохи» [Mickiewicz, 1955, IX, 20]. Образ поэта, следовательно, дополняется историческими экскурсами. Кроме того, над ними надстраивается идеальный образ славянина. Так автопортрет славянина выстраивается из трех ипостасей, вглядевшись в которые, славяне лучше будут знать себя, и их поймет Европа. Так считает поэт.
Он интуитивно нащупывает основы национального и общеславянского, не систематизирует их окончательно, как и подобает романтику. Может быть, в этом Мицкевич видит свою основную задачу. Она явно заключалась не только в том, чтобы дать картину древней истории славян, рассмотреть родство их языков, объяснить, в чем состоит значение творчества великих польских романтиков. Размытость задач разного порядка поэт считал типично славянским явлением – для славян каждое выдающееся литературное произведение всегда и религиозное, и политическое. Потому и черты славянского автопортрета разбросаны по всем «Лекциям». Поэт часто повторяет одни и те же положения, не стремится к изобилию «внешних» фактов. Он часто опускает даже выдающиеся события и имена, если они не работают на его концепцию.
Мицкевич пишет поэтическую историю славян, старательно отделяя те факты, которые, с его точки зрения, мало что значат из-за своей материальности. Он декларирует особое символическое отношение к истории, уверенный в том, что за войнами и трактатами скрываются «внутренние» факты и «тайная» история. Эта «тайная» история различна у разных народов, так как она есть идея, стремящаяся к реализации. Эта идея так сильно вошла в славянский дух, что без нее нельзя понять славян.
Рассуждая о передвижении древних славян, поэт настаивает на том, что они не любили путешествовать, страшились неизведанных дорог, опасались нового и больше всего на свете хотели сидеть на месте и иметь крышу над головой. Мицкевич может позволить себе такие операции с историческим материалом, так как его осеняет вдохновение. Он ведь способен проникнуть в глубины славянского духа, присутствующего в истории. Порой он сетует на отсутствие консультантов и славянских книг. В критические моменты консультанты, правда, находились, но не всегда кстати, как считает поэт. Отсутствие нужной научной литературы он возмещал творческой интуицией.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?