Текст книги "Третья сторона"
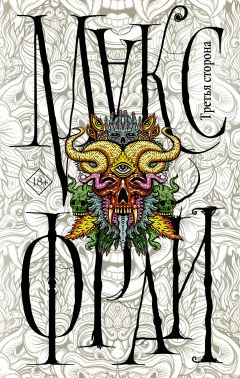
Автор книги: Макс Фрай
Жанр: Городское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Из-за этих занавесок вспомнил рисунки Вольховского – старика на качелях, дерево на ветру, и что-то там ещё было, ай, неважно, без разницы, что он рисовал, главное – как. За это великолепное, до небрежности лёгкое «как» душу бы продал, да где она, та душа.
Подумал, спускаясь с холма: интересно, как бы он сейчас рисовал, если бы не умер? Неизвестно. Кстати, не факт, что всё так же легко и лихо, у многих это с возрастом проходит, да что там, почти у всех. А то от гениев деваться было бы некуда бедным умеренно способным всем остальным. Сам удивился завистливому сарказму своего внутреннего монолога. Как будто Вольховский не умер, как будто я сам всё ещё художник, как будто нам и вправду есть что делить.
Но этот горький сарказм, эта чёрная зависть к покойному однокласснику были настолько лучше, чем ничего – тихое тяжёлое «ничего», объявшее его после маминых похорон – что поневоле думал о Вольховском до вечера. О его рисунках, льняных кудрях, отчаянном взгляде, нелепой смерти на следующий день после выпускного и о том, что могло бы быть, если бы не смерть. Это было как наваждение, словно заколдовали – ещё сегодня утром ничего не вызывало ни малейшего интереса, а теперь, прикрыв глаза, часами разглядывал в темноте перед внутренним взором картины мёртвого одноклассника, которых тот так и не нарисовал.
Это было как наваждение, – говорил себе потом, задним числом, вспоминая, как вскочил в семь, что ли, утра, ещё затемно, побежал в художественную лавку, ту самую, которую открыли на месте рюмочной, или, кстати, всё-таки не точно там, а в соседнем подвале, фиг теперь вспомнишь, столько лет прошло.
Выяснил, что лавка открывается только в десять, кружил по городу, злой и сосредоточенный, как голодный волк. Кстати, действительно голодный, это обнаружилось, когда зашёл в кофейню, вроде бы исключительно ради убийства времени, однако съел один за другим полдюжины тёплых круассанов, запивая приторно-сладким «кофе недели» с каким-то сиропом, сливками и шоколадом, и страшно сказать, не наелся, а только вошёл во вкус.
Не знал, какие материалы могут понадобиться, поэтому купил всего понемногу; на самом деле, очень даже помногу – всего. Еле допёр до дома эти богатства, и всё, как оказалось, только ради того, чтобы заточить несколько твёрдых карандашей, распечатать пачку бумаги и очнуться лишь в сумерках, когда стало слишком темно. Пятьдесят четыре наброска – это уже потом сосчитал. Из них сорок шесть – потрясающий в своей бездарности ужас, зато семь – вполне ничего, а один по-настоящему хорош, почти как у Вольховского в детстве. Отличный, между прочим, результат.
Включив свет, понял, что снова проголодался, пошёл в магазин. О диете даже не вспомнил, сгребал всё подряд. Есть начал ещё по дороге – сперва банан, потом вскрыл упаковку нарезанного сыра, никаких сил терпеть. Дома пожарил и проглотил яичницу из четырёх яиц, поставил вариться курицу – суп всегда пригодится – включил компьютер, написал два письма, почти одинаковых, Ирме и Якубу: «Привет, не серчай, у меня депрессия, – это признание больше не было правдой, поэтому не вызывало ни страха, ни даже просто внутреннего протеста. – Но я понемногу выкарабкиваюсь, всё будет хорошо, а сейчас мне очень нужна твоя помощь в делах». Дел, положа руку на сердце, было совсем немного: Ирме предстояло разобраться с квартирой, Якубу – подыскать ему замену, если до сих пор не нашёл.
Удивительное это было открытие: оказывается, чтобы завершить свою прежнюю, старательно, годами выстраиваемую жизнь, достаточно написать всего два письма. Кого угодно это могло бы окончательно подкосить, но его только взбодрило.
Никогда, даже в самые разгульные свои времена не пил запоями: надоедало уже на второй день, просто уставал быть пьяным, а до третьего, кажется, не продержался вообще ни разу. Но теперь примерно представил, как это бывает – хлоп! – и непонятно куда и на что ушла неделя. Вернее, понятно – теоретически, по числу новых набросков, эскизов и законченных картин, в самой разной технике, но всё-таки в основном по старинке, маслом, хотя сам уже много лет предпочитал акрил.
Пару раз засыпал прямо на полу, на мамином ковре, настолько ужасном, что даже не сказал бы вот так, с лёту, каких он цветов, сознание тщательно блокировало эту невыносимую информацию. Но для сна ковёр оказался вполне хорош, тело с утра почти не болело, ну или он просто не замечал.
О найме натурщиков или выездах на пленер речи, конечно, не шло. Думал: ладно, если что, можно поискать фотографии в Интернете, раньше тоже часто так делал, если у тебя есть опыт и чувство пространства, фотографий достаточно. Но не понадобилось ни разу, ещё не написанные картины уже висели – смотри, не хочу – в темноте перед закрытыми глазами, или даже перед открытыми, поди разбери, как оно было на самом деле, подобные состояния легко и приятно переживать, но анализировать лучше и не пытаться.
Иногда смотрел на картины чужим, отстранённым взглядом. Хладнокровно признавал: «Я так не умею». Потому что так действительно не умел. Дело даже не в том, хорошо или плохо, а просто совсем другая манера, чужая рука. Лёгкая и, будем честны, легко узнаваемая, как и следивший за ним из зеркала маминого трюмо отчаянный взгляд. Всё с тем же невесть откуда взявшимся хладнокровием признавал: «Я рисую картины мёртвого Вольховского». Как, почему так случилось – да хрен его знает. Лишь бы продолжать.
Думал: «Как же мне повезло с Вольховским. Свои картины я уже нарисовал, сколько было отмеряно. А теперь, получается, можно рисовать чужие. И даже нужно – вон как дело пошло! Как же мне повезло».
Готовые работы – те, которые по какой-то причине казались ему завершёнными, хотя будь это его рисунки, ещё долго бы их доводил (и наверняка бы испортил) – подписывал: Volkhovsky_Pbl. «Pbl» – это была такая дурацкая внутренняя шутка для самого себя, привет кириллице от латиницы, как бы первая буква имени Радек, «Ры». Должно же в этой истории быть хоть что-нибудь смешное.
К концу апреля готовых, в смысле, подписанных картин было уже четырнадцать. Остального – эскизов, набросков, по какой-то причине отложенных и пока не законченных – без счёта. И тут его натурально скрутило – работы надо показывать. Святая правда, работы действительно обязательно надо показывать, и дело тут вовсе не в личных амбициях, просто пока картину никто не видел, она не завершена. И автору от этого трудно жить.
В данном случае автору было плевать, он давным-давно умер. А исполнителю приходилось несладко. Теперь добрую половину времени он не работал, а снова бродил по улицам, без цели и смысла. Вернувшись домой, лежал на ковре лицом вниз. Иногда лицом вверх, для разнообразия. Но легче от этого не становилось. Отчаянно хотелось продолжать рисовать. Но браться за новые картины, никому не показав готовые, физически не мог. Звучит дико, но это так, просто пока не попробуешь, не узнаешь.
Решение пришло неожиданно и как бы само собой, девочки в кафе фотографировали друг дружку, выкладывали снимки в Инстаграм и громко обсуждали процесс. Поглядел, послушал их щебет и натурально просветлел: Интернет же! В Интернете всё можно всем показать.
Сперва чуть было не завёл мёртвому Вольховскому Фейсбук, да вовремя опомнился: Фейсбук сейчас у всех, не приведи боже, наткнутся его родственники или общие бывшие одноклассники, нет, даже думать о таком не хочу. Ограничился аккаунтом на фликре – там можно просто выложить все работы, скорее всего, их никто никогда не заметит, но мало ли, вдруг повезёт. Целый день убил на съёмку картин, намаялся с ними страшно, хотя вроде бы имел богатый опыт. Но сейчас чувствовал себя новичком. Подумал: «Ну да, Вольховский-то не умеет». Это, конечно, всё объясняло, хотя с точки зрения здравого смысла не объясняло ничего. Но где я, а где тот здравый смысл.
После того, как выложил на фликр все законченные работы, стало значительно легче. Почти сутки спал, проснулся свежим, бодрым, зверски голодным и самое главное, готовым работать дальше. А больше ему тогда ничего не было надо. Удивительно, но это правда – больше вообще ничего. И, кстати, о якобы больных почках даже не вспоминал, хотя жрал всё подряд, включая смертельно опасные чипсы и купленные на рынке солёные огурцы.
В течение месяца у пользователя Volkhovsky_Pbl на фликре появились какие-то подписчики, целых восемнадцать человек. Ясно, что ради мало-мальски ощутимого результата надо было как-то там тусоваться, френдить всех подряд, комментировать чужие работы, наверное, ещё что-нибудь. Никогда специально этим не интересовался, ему было не нужно, однако примерно представлял механизмы раскрутки художника в Интернете, ничего особо сложного, но на это не было ни времени, ни сил. Необходимости, как выяснилось, тоже не было. Оказалось, число зрителей не имеет никакого значения. Скорее всего, можно обойтись и вовсе без них. Важен не зритель, а открытость миру, дающая шанс на возможность его появления. Теперь такой шанс у них с Вольховским был.
К началу лета число завершённых картин Вольховского выросло до двадцати девяти. Закончив очередную работу, тут же её фотографировал и выкладывал на фликр. Наградой всякий раз становилось облегчение, словно утолил жажду, мучавшую так долго, что уже почти перестал её замечать – тем благотворнее был эффект.
Жил затворником, не подходил к телефону, изредка отвечал на самые срочные письма, раз в неделю исправно рассылал несколько смс условно заинтересованным лицам: «Всё в порядке, разбираюсь с делами, приехать пока не могу». Во время прогулок с удовольствием прислушивался к чужим разговорам, это было занятно, как смотреть фрагменты незнакомых фильмов, вперемешку, наслаждаясь случайностью выборки, не предпринимая попыток угадать сюжет.
Впрочем, иногда ему хотелось поговорить. Не о жизни, погоде и судьбах мира, упаси боже, нет. О картинах. Рассказать, как безумно трудно дался ему такой простой на первый взгляд «Ветер ночью на площади». Что приснилось после того, как дописал «Последнюю сову». И как смеялся вслух, заканчивая «Ярмарку фей», на которую ушли всего сутки – от эскиза до подписи, самому не верится, но это именно так. Однако отдавал себе отчёт, что это именно его желание. В смысле, не Вольховского. Того, во-первых, давным-давно не было на свете, а во-вторых, не такого он склада человек, чтобы трепаться о подобных вещах. Поэтому блог Вольховскому он заводить не стал, хотя, конечно, подмывало. Не надо никакой отсебятины. И так всё непросто.
То есть, наоборот. Слишком просто.
Отрезвление, которое с непривычки показалось затмением, наступило внезапно. Проснувшись где-то в середине бесконечно долгого летнего дня, подскочил как от удара: боже, что я тут делаю? Чем занимаюсь? Кто я такой вообще?!
Так страшно, как от этого вопроса, ему не было ещё никогда в жизни. Даже… В общем, никогда.
Выскочил из дома, в чём был, благо спал в футболке и шортах; примерно в таких же ходил сейчас почти весь город по случаю внезапно наступившей жары. Пройдя несколько кварталов, более-менее успокоился. Купил себе кофе со льдом, сел в тени, под тентом, курил, украдкой разглядывал свои отражения в стёклах витрин. Во всех четырёх обнаружился старый знакомый, изрядно осунувшийся, заметно поседевший за последнюю зиму, давно не бритый; впрочем многодневная щетина была ему даже к лицу. Собственные отражения ему понравились: такие подтянутые, бодрые. И глаза совсем не отчаянные. Обычные человеческие немного встревоженные глаза.
Вернувшись домой, понял, что оставаться тут невыносимо. Так страшно и муторно – хоть прыгай в окно. Но это было бы совсем глупо. Вышел на улицу, взялся за телефон. На городских сайтах недвижимости оказалось неожиданно много предложений. Часа полтора спустя уже смотрел комнату неподалёку, в Старом городе. Ничего хорошего, и цена явно завышена; ладно, что тут поделаешь, разгар туристического сезона. На первые несколько дней сойдёт.
Через неделю нашёл чистенькую однокомнатную квартиру-студию, тесную, как пенал, зато дешёвую и прохладную – первый этаж, северная сторона. В любом случае, задерживаться в этом городе он не собирался. Мамина квартира уже была выставлена на продажу; ответственная за сделку риелтор Мария уверяла, что найти покупателей будет легко: район прекрасный, цена не завышена, а ремонт любой новый владелец всё равно будет делать по своему вкусу, незачем хлопотать.
Оставалось что-то решить с картинами покойного Ры Вольховского. Отдавал себе отчёт, что сбежал не из дома как такового, а именно от них. Сжечь в камине рука не поднималась. Решил взять напрокат машину и вывезти всё это чужое художество за город. В любом направлении, здесь везде лес, а нам того и надо. Унести картины куда-нибудь в чащу, как можно дальше от всех дорог, сколько хватит сил оттащить от машины, оставить там, вернуться в город, и всё. И всё.
Каждый день обещал себе: «Завтра, в крайнем случае, послезавтра», – и снова откладывал ликвидацию картин на потом. Некоторые поступки требуют решимости, превосходящей обычную человеческую, где ж её взять. Но тут ему неожиданно повезло: пока отсыпался в съёмной каморке, квартиру обокрали. То есть натурально, пришли какие-то добрые люди и вынесли из дома все картины чёртова Вольховского, присовокупив к ним шкатулку с маминой бижутерией и оставшееся от бабки столовое серебро. И на здоровье, пусть им будет впрок.
В полицию заявлять, конечно, не стал – не приведи боже, поймают вора, вернут краденое добро, и таскайся с ним потом по лесным чащам, скрипя зубами от растущего с каждым шагом ужаса, ну уж нет.
Когда шёл из офиса риелторской конторы, не столько довольный, сколько обескураженный простотой оформления сделки и тем восхитительным фактом, что дело завершено, мамина квартира продана, можно убираться из этого города ко всем чертям, встретил на перекрёстке бывшую одноклассницу Светочку, не узнать её было невозможно, совершенно не изменилась, во даёт.
Светочка была миниатюрной блондинкой, из тех, о ком бабушка говорила: «мелкая собачка до старости щенок». И правда, до сих пор выглядела совсем юной, пока не подойдёшь поближе. Впрочем, даже поближе тоже вполне ничего.
У маленькой Светочки было большое сердце, исполненное если не любви, то искреннего сочувствия ко всем, в школе её называли только уменьшительным именем, как младшую, однако за советом и утешением девчонки всегда бегали именно к ней, даже классная руководительница, устав от ежедневных забот, жаловалась Светочке, которая всегда ухитрялась вовремя подвернуться под руку, на чужие горести у неё было чутьё.
Сам-то он никогда Светочке не жаловался – с чего бы, да и на что? Просто одно время ухаживал за её подружкой Рутой, тогда и узнал про Светочку и про других девчонок. Думал, они все примерно одинаковые, а с Руткиных слов выходило, чуть ли не с разных планет. Полезное, кстати, оказалось знание; впрочем, сейчас не о том речь. Просто о Светочке он помнил только хорошее, поэтому, наверное, и решил поздороваться. К кому-то другому вряд ли стал бы подходить.
Светочка тоже обрадовалась встрече, ну или просто вежливо сделала вид; так или иначе, сказала, что у неё есть полчаса, можно где-нибудь присесть, выпить кофе и хоть немножко поговорить.
Не стал рассказывать о смерти матери. Боль от этой утраты ушла, пока рисовал картины Вольховского, но боль дело такое, всегда может передумать и вернуться, лучше не давать ей лишнего повода. И не лишнего тоже. Никакого не давать.
Рассказывать о себе вообще ничего не хотелось, отделался парой общих фраз, так что Светочке пришлось трещать без умолку, за двоих. Она, впрочем, была не против, с явным удовольствием рассказывала о муже-лётчике и щенке маламута, недавно купленном для сыновей. Потом перешла к общим бывшим одноклассникам, вспомнила одного, другую, третью, вдруг пригорюнилась: «Слушай, ты же, наверное, не знаешь, наша Магда прошлой осенью умерла, вернее, погибла, страшная была авария, такой ужас, вот и первая смерть в нашем классе, я думала, это случится когда-нибудь очень нескоро, а она…»
Перебил: «Погоди, почему первая? А как же Вольховский?» Светочка сделала большие глаза, нахмурилась: «Как, и он?! Что случилось? Я его и правда лет семь не видела, он, вроде бы, в Норвегию уехал, или в Швецию, точно в одну из северных стран, у него картины там хорошо продавались, и…»
Боже, какая может быть Норвегия. Что за чушь.
Начал было: «Погоди, он же умер сразу после выпускного вечера, говорили, что от наркотиков, и ты сама…» Хотел напомнить: «Ты же сама ходила на его похороны с Руткой и кем-то ещё», – но на этом месте Светочка его перебила: «Ай, точно! Вспомнила, были какие-то дурацкие слухи, я даже сперва поверила, не знаю, кто такой ужас выдумал и зачем – ты об этом? Забудь, семь лет назад наш Вольховский был жив, здоров и ужасно доволен предстоящим отъездом, это факт».
Не стал с ней спорить, конечно. А кто бы стал. Сказал: «Ну и слава богу», – посмотрел на часы, схватился за голову: «Извини, мне пора». И торопливо пошёл по улице, стараясь не побежать.
О голодных духах
(из сборника «Неизвестным для меня способом»)
Я хочу рассказать про Дрангра; первое «р» в этом слове звучит робко, вкрадчиво, зато второе грохочет как гром. «Дрангра» – не персональное имя, скорее название бесконечно огромной стаи, все члены которой суть одно вечно голодное существо. Впрочем, неважно – имя, название; Дрангра и Дрангра, лишь бы не отозвалось и не пришло.
Дрангра приходит к человеку вместо любви, оно состоит из широко распахнутой пасти и нежности; из-за нежности, собственно, ей обычно все верят, обмануться и правда легко, особенно поначалу, пока Дрангра ведёт себя осторожно, и свой единственный вечный вопрос: «Чем меня будут кормить?» – произносит так тихо и неразборчиво, что кажется, будто тайный голос внутри нас шепчет: «Люблю, люблю».
Дрангра следует ловить в одиночестве, в одежде с зашитыми прочной ниткой карманами, с закрытым ртом, зажмуренными глазами, туго забинтованными руками, чтобы ничего нельзя было ухватить. Голову Дрангра сносят деревянным мечом, подожжённым, но не горящим, а тлеющим, рубят столько раз, сколько понадобится, обычно – долгие годы, изо дня в день.
Я хочу рассказать про Шьюхх; на самом деле, в конце надо писать не две, а тысячу тысяч «х», этот звук тянется почти бесконечно, делается всё тише и тише, пока не становится неразличимым, но ещё некоторое время после этого тянется, навевая уныние – такой уж у них язык.
Шьюхх приходит к человеку вместо здравого смысла, точнее, люди сами приходят к Шьюхх. Шьюхх подманивает жертву ясным сиянием связки фальшивых ключей от восхитительных тайн, а подманив, оглушает ударом простых объяснений, отнимает подлинный смысл, суёт его в свою вонючую пасть, уныло хохочет, а всё, что осталось от вопрошавшего, прогоняет вон.
Чтобы поймать Шьюхх, не следует к нему приближаться, надо уходить от его обещаний и простых объяснений, далеко, всё дальше и дальше, вызывающе покачивая бёдрами и призывно оглядываясь – вот он, я, твой самый сладкий кусок. Рано или поздно Шьюхх не выдержит, само побежит за вами, размахивая ключами, громко выкрикивая свои глупые лживые тайны, которые даром никому не нужны. Голову Шьюхх рубят острым алмазным мечом, одним коротким сильным ударом, раз и навсегда, а потом всю оставшуюся жизнь рубят головы его призракам, которые жалобно завывают во тьме, гремя логическими цепями, они слабы и почти смешны, но им несть числа.
Я хочу рассказать про Джампу, или даже Джиампу, хотя первый гласный там всё же не «и», а кривая ухмылка; если говорить без ухмылки в середине первого слога, выйдет не настоящее имя, а просто слово без особого смысла, таких придуманных слов – вагон и маленькая тележка, не стоит умножать их число.
Джампу-Джиампу приходит к человеку вместо радости, гасит её огонь, разжигает свои холодные фонари, при свете которых все лица начинают казаться уродливыми, а движения – неуклюжими, всюду разбрасывает банановую кожуру. «Кто-нибудь поскользнётся, вот и будет нам радость, а другой радости в мире нет», – вкрадчиво объясняет Джампу и ухмыляется, и жертва понимающе ухмыляется Джампу в ответ.
Джампу не надо ловить, оно никуда не бежит, Джампу всегда вьют гнёзда внутри своей жертвы, им там тепло и уютно, такое поди прогони. Чтобы покончить с Джампу, придётся всегда носить с собой связку коротких очень острых мечей и всякий раз, когда кто-то падает, поскользнувшись, а на нашем лице появляется самодовольная кривая ухмылка, вонзать себе прямо в сердце. Это невыносимо, но стоит усилий: Джампу очень не любят сердечную боль.
Я хочу рассказать про Чшоу; впрочем, «Чшоу» это более чем условно, на самом деле, имя звучит как тихое шиканье, сопровождаемое ударом ладоней по обеим щекам – своим, других колотить не надо. В общем, шипение плюс хлопок.
Чшоу приходит к человеку вместо желания, сильного, страстного, пробуждающего волю, дающего силу. Чшоу обнимает жертву, гнёт к земле страшной тяжестью тощего, вечно голодного тела, шепчет робко: «Молчи, а то вообще ничего не получишь», – а потом деловито советует: «Бери что дают».
Убить Чшоу можно мечом, предварительно раскалённым в беспощадном огне, но сперва вам придётся вырваться из его крепких объятий, для верности отойти подальше, хотя бы на пару шагов. В этой битве самое трудное не нанести удар, а увидеть, где заканчивается Чшоу и начинаетесь вы сами, слишком велик риск убить не того.
Я хочу рассказать про Ийра, это очень звонкое имя, его надо громко выкрикивать, тогда получится правильно, сказанное тихо, спокойным голосом «Ийра» – просто сочетание звуков, не имеющее никакого смысла ни в одном из известных мне языков.
Ийра приходит к человеку вместо храбрости. Ийра умеет убедительно притворяться храбростью, хотя само вечно умирает от страха, поэтому очень громко и грозно кричит, топочет, машет кулаками, громит и крушит. Ийра всегда выбирает то, что можно крушить безнаказанно, ловко находит противников послабей.
Ловить Ийра лучше в тот момент, когда оно приходит в движение, мечется, ослеплённое безнаказанностью, гневно ревёт, торжествующе верещит. Голову Ийра рубят холодным острым мечом из твёрдого чёрного камня и белого льда.
Я хочу рассказать про Гаайш; звук «а» в этом слове тянется долго-долго и больше всего похож на мечтательный вздох.
Гаайш приходит к человеку вместо чуда, безошибочно находит жертву по запаху лютой вдохновенной тоски. Гаайш выдаёт себя за нечто чудесное, удивительное, предназначенное исключительно для избранника, только для него одного. Но ничего чудесного в Гаайш нет, оно – просто морок, лживый, ласковый и такой голодный, что не оставит от доверчивой жертвы даже костей. То есть, кости как раз потом выплюнет, но какой от них прок без всего остального? То-то и оно.
Голову Гаайш рубят без сомнений и жалости, зеркальным мечом, в момент удара отражаясь в нём целиком.
Я хочу рассказать про себя. Я – меч, у меня нет имени, я никогда не испытываю голода, я не притворяюсь ничем иным, я не прихожу к человеку, за мной надо идти самому. Мне всё равно, чем закончатся ваши битвы, но не потому, что мне нет до вас дела, просто я знаю, что взять меня в руки – и есть победить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































