Текст книги "Знакомство. Частная коллекция (сборник)"
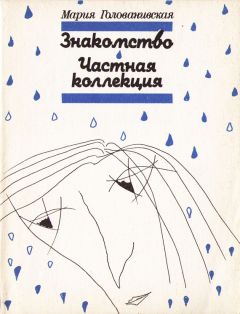
Автор книги: Мария Голованивская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
* * *
Крона деревьев смыкается над головой, и в светлом, кремовом полумраке поблескивают малахитовые квадратики неба. Шум веток и пение птиц укачивают, баюкают, но как-то все время просыпаешься, когда взгляд наталкивается на серую спину панельного дома с растерзанными балкончиками и одинаковым тюлем на окнах.
В личной жизни мне сразу же не повезло. Я не хочу вдаваться в подробности, перечислять до бесконечности несоответствия в характерах, разницу привычек, причины и поводы, я не выношу таких разговоров. Я вообще не люблю говорить о неприятном. Многие – любят. Можно подумать, что от разговоров легче!
Но я никому не хочу навязывать свое мнение, если кому нравится – пожалуйста, но меня увольте! Я говорю это так, без всякого умысла. Просто предупреждаю.
Мой почти двухметровый рост и пышная рыжая шевелюра привлекают внимание сидящих на скамейках. Аккуратность в одежде импонирует, поэтому у меня дважды попросили прикурить и дважды спросили, который час. Но я даже не помню тех, кто ко мне обращался. Они-то меня помнят, я уверен.
Я вдруг вспомнил один из знаменитых портретов Гойи, который видел на прошлой неделе в Пушкинском. Не мог Гойя нарисовать такие пошлые губы! Не мог, хоть убейте! Хотя чего расстраиваться? В этот раз не понравилось, понравится в следующий раз.
* * *
События, крупнее которых и быть не может. Глобальные, основные, незыблемые, объединяющие всех и делающие всех равными. Полное равенство установилось миллионы, а может быть, и миллиарды лет назад и не стоит цепляться к мелочам.
Я разбиваю яйца прямо на раскаленную сковородку. Через две-три минуты в белке, уже успевшем загустеть, образуются круглые отверстия, через которые видно, как кипит масло. В этот момент ты впервые чувствуешь, что глотаешь слюнки. Яичница – страшно аппетитное блюдо. Особенно, когда появляются эти масляные пузыри, а еще, когда она лежит на тарелке, разглядывает тебя своими желтыми глазами и испускает мутноватый пар, который, кажется, на протяжении всего завтрака, висит небольшой тучкой у потолка.
Человек, который читает неинтересные книги, безусловно, принадлежит к элите, но не к той, которая уже в почтенном возрасте упивается Толкиеном и Кэрроллом, а к совсем другой. Если у хозяина квартиры огромная пыльная и совершенно несуразная библиотека, это значит, что он с удовольствием с тобой поговорит и выложит все начистоту, хотя я понять не могу, почему вдруг об этом зашла речь.
Ужас охватывает ребенка, когда на остановке к нему подходит огромный, беззубый, едва держащийся на ногах пьяный и говорит, наклоняясь слишком низко: «Хочешь конфетку?» А потом добавляет: «Ты что, боишься дядю? Нехорошо!» – и делает вид, что твой нос – это дверной звонок и он в него звонит. Глаза со сгустками какого-то желе и умопомрачительное перегарное дыхание заставляют трепетать все крошечные органы невинной жертвы. В таких случаях не спасает даже огромная нога стоящего рядом родственника, за которую так хочется спрятаться. До чего же редко помогает стоящая рядом чужая нога!
* * *
Я ничего не хочу об этом знать! Понятно? Ничего! Я лучше буду разводить фиалки, убирать газон перед домом. Я буду каждый день выходить из дома без десяти восемь и приезжать к половине девятого на работу. В половине двенадцатого у меня будет второй завтрак – чай из выщербленной чашки и сделанный утром бутерброд с сыром.
Весной по дороге к остановке душа моя будет радоваться, поскольку на газоне появится нежно-зеленая поросль. Зимой, отогревая на окне троллейбуса маленькое круглое отверстие, я буду любоваться заснеженными деревьями. Осенью меня опьянит воздух, наполненный ароматами прелой травы.
Вчера у меня отвалилась подметка, и это причинило мне массу неудобств.
Позавчера у меня были гости. Они ели и пили, каждый старался показать себя. Как из рога изобилия сыпались разные истории и анекдоты. После их ухода осталось сизое облачко табачного дыма.
А вообще-то, если бы у меня был миллион, то есть один метр денег сторублевыми бумажками, я бы бросил работу, купил бы себе две виллы в райских уголках земного шара, обзавелся бы всем необходимым и стал бы гулять, читать или, на худой конец, творить. Но творить бы я стал, только если бы у меня был талант. Иначе не стал бы. Творить необязательно, даже если у тебя нет миллиона. Тем более, если он у тебя есть.
* * *
Мне даже не нужно проверять, даже глаза открывать не нужно, – я знаю, что за ночь все мое тело покрылось аллергической коркой: и руки, и ноги, и голова, и туловище. Что же могло возмутить спокойствие этой ровной розовой поверхности, что могло вызвать такой гнев и такое сопротивление? Прозрачный, едва распустившийся день? Сырая, подслеповатая ночь? Засыпанный мусором, пеплом, трескотней разговоров вечер? Вчерашний день, опустившийся на дно подобно ржавой, продырявленной лодке, весла которой до сих пор носятся по поверхности озера, бесхозные, никчемные, разбухшие от влаги.
Так что же вам не понравилось, ваше превосходительство раб мой, гавань для моих судов? Почему бунт на корабле? Почему допущены на борт пираты и корабль меняет курс?
Я с жадностью оголодавшего беженца копаюсь в контейнере, набитом пустыми банками, обертками, различными склянками и объедками, чтобы установить, в чем же заключался тот яд, который одним махом обратил грандиозное сооружение из стекла и бетона в погибающее от рефлексии, шелушащееся существо.
Нам известны одни лишь следствия, и только одному Богу известны причины.
Раб и хозяин, загнанные в одну скорлупу, могут разбить яйцо. И тогда не появится на свет очаровательный желтый цыпленок, из которого впоследствии мог бы получиться замечательный петушок или, на худой конец, курочка.
* * *
И одуванчик кивает своей пушистой головкой, и каждая травинка гнется пополам, и шмель покорно застывает над блаженно распахнувшимся цветком – каждый поддается завораживающим обещаниям, горячему шепоту ветерка-подростка, а ведь не останется на голове ни единой пушинки! Завянет зелень, шмель расстроится и улетит, разве так можно?!
Этот юнец сам не знает, чего хочет. Добьется своего и расхандрится, расплачется, станет кулачком глазик тереть. Назад, одуванчики! Руки прочь от одуванчиков!
Прямой пробор, волосы с сединой, аккуратный пучок с торчащими шпильками, мерно качаемый премиленькой головкой с премиленьким личиком. Эти восхищенные глаза подбадривают рыжую, тоже очкастенькую ученицу, пытающуюся одолеть спряжение французского неправильного глагола. Волшебное таинство, совершаемое этими двумя девами, старой и юной, производит магическое действие, и все остальные тоже начинают кивать и спрягать.
Ласковый теплый луч пробирается сквозь окно в класс. Он никому ни за что не проговорится о том, что он только что видел. Вырастешь и все узнаешь сам!
* * *
Они ищут не меня. Двое в фуражках вошли в заднюю дверь и, нагло копаясь в лицах пассажиров, начали медленно продвигаться вперед. Но они ищут не меня. Поэтому я вызывающе смотрю на обратившуюся ко мне сероглазую рожу и с нескрываемым удовольствием думаю, не отводя глаз в сторону: «Давай, вали отсюда!»
Самое пошлое, что можно придумать, – это подарить гладиолусы. Огромный букет, завернутый в прозрачную бумагу, с зеленой веточкой посредине. Протягиваешь букет и чувствуешь себя дебилом. «Это – вам». Главное – не подарок, главное – внимание. Знак внимания. Доказательство того, что знаешь, в какой ситуации как нужно поступать. Как приятно чувствовать, что ведешь себя безупречно.
Ты посмотри, как он ест! С какой жадностью терзает жесткий антрекот, с какой яростью накалывает на вилку картофелины, как смело откусывает, как быстро жует. Порыв, сосредоточенность, вспотевший лоб, ни одного взгляда на тебя. Только в кино иногда можно видеть, как герой медленно отрезает маленький кусочек, не спеша засовывает его в рот и долго жует, не сводя глаз с очаровательной собеседницы. Собеседница пьет маленькими глоточками и уходит из кафе, оставив наполовину недопитый стакан.
До чего бывает неприятно человеку, который просыпается ночью и понимает, что рядом с ним спит кто-то чужой, непривычный, со своим резким, неожиданным запахом. Этот расползающийся по всему телу холод еще больше усиливается от светлеющего, предрассветного неба.
Любовь моя! Все это ничего не значит. Время даровано нам, чтобы пережить бесконечное количество перемен, чтобы разнообразие успевало сменяться разнообразием и чтобы наконец-то, притомившись, можно было бы уснуть и перестать следить за развитием событий. Жаль только, что события часто засыпают вместе с нами.
Часть III

«Да это же была шутка! Я тебе чем хочешь поклянусь! Ей-богу!» Но все напрасно. Заспанное лицо, мутные глаза, все какое-то асимметричное, перекошенное. Забитый пылью и белесым мусором ковер, на котором лежит раскрытый, текстом вниз, толстый так называемый литературно-художественный журнал. Рядом – тапочки без задников из бледно-зеленого шелковистого материала.
«Твоя ложь унижает тебя! Как же можно было так пасть, точнее, так себя уронить». И я действительно выпускаю из рук большую металлическую сферу, которая, как выясняется, является моим неодушевленным воплощением. Я роняю ее, и она все падает и падает. Или, словно барон Мюнхгаузен, вытащивший себя за волосы из болота. Он поднимает себя над землей, над деревьями и домами, и вдруг рука его слабеет, и он роняет себя. Да, сравнение с Мюнхгаузеном во всех отношениях очень удачно.
За окном заревел мотор. Это наш сосед снизу, од пытается завести машину. Значит, сейчас двадцать минут девятого.
«Каждый раз ты говоришь, что это всего лишь шутка! Но твои шутки, по-моему, даже тебе не смешны, ты не находишь?»
Я наклоняюсь и нахожу выпавшую позавчера из моей записной книжки каталожную карточку, на которой моей рукой и моей ручкой нарисован большой синий кактус в синем глиняном горшке. Я бросаю бумажный комок в помойку.
Считаю до пяти, если ты не доешь кашу, знаешь, что будет? Раз, два, три, четыре…
Вот сейчас я закрою глаза, и, когда открою, ты уже все уберешь. Ну, я уже ничего не вижу…
Мне кажется, что носить черное уже не модно. Раньше это смотрелось, но теперь в черном ходит кто ни попадя. Это, как костюм и галстук, как джинсы и свитер, как Мальчик с пальчик и Крокодил Гена, как красные шнурки и одна серьга в ухе, как закопанный в землю, аккуратно завернутый в полиэтилен и старательно залитый воском клад, состоящий из трех новеньких пятачков, английской булавки и трех жевательных резинок с вкладышами.
* * *
Ну и что? Подумаешь! Ведь настанет такой момент, когда все неприятное кончится, и ты наконец-то сможешь расправить плечи. Я понимаю, конечно. Грустно, когда, не успев еще толком родиться, мучаешься то отрыжками, то болями в животе. Скучно или спать, или плакать. Ужасно, когда не можешь вымолвить ни слова, повернуться на бок. Видеть только потолок или большую мягкую грудь.
Черствая осень. Подслеповатое небо, ветер беспардонно сдирает с тебя одежду. Круглая фиолетовая печать, на которой поперек написано абсолютно ровными, не везде пропечатавшимися буквами «Картина мира». Ну и черт с ним! Я не вижу ничего плохого в том, чтобы мечтать, как все.
Вот ведь как получается. Складываешь сумку с вечера, а на следующий день не находишь в ней и половины нужных вещей.
Как бы не так. Я напишу ей письмо. Ведь приятно получать письма. Она прочтет его и подумает обо мне. Собственно, всем известно, о чем я там напишу.
Мы договорились созвониться, но никто никому не звонит. Проиграет тот, кто позвонит первым. Чтобы это понять, мне понадобилось значительно больше времени, чем остальным. Я сильно отстаю в развитии, и это замечают все.
На самом деле прошло всего несколько дней, но усталость растет с каждым часом, и голос, предлагающий: «Может, сдашься?» – звучит во мне все громче и громче. Я знаю, что потом буду жалеть.
В глаза бьет сильный, но нежный, канареечный, сливочный, пахнущий ванилином свет, все улыбаются, и я чувствую, как легкая рука опускается мне на плечо. Сначала я думаю оглянуться, но потом понимаю, что уже не успею, но мне приятно ощущение тепла на плече.
Свет ослепляет меня, и я глотаю в последний раз.
* * *
Моя медицинская карта где-то затерялась, поэтому я сижу, прислонившись к стене неопределенного цвета, и чего-то жду. Обо мне уже все забыли, но просто не хочется вставать, передвигать ногами, задавать вопросы, предварительно робко постучавшись в дверь и воровато втягивая голову в плечи.
– Извините, можно?
– А ваша фамилия как?
Руки, точнее ладони, взмывают вверх, затем замыкают концы воображаемого шара, один указательный палец показывает вниз, другой – вверх, ладони застывают в горизонтальном положении, как будто бы поддерживая тяжелый металлический поднос.
Карманы и воротник необходимы для того, чтобы вещь была любимой и ее можно было сносить до дыр. Я не говорю о карманах на спине, между лопатками, или о воротнике, который впивается своими краями в подбородок. Я говорю о настоящих, удобных карманах, в которые руки уходят почти по локоть и можно почесать себе ногу так, что этого никто не заметит. Это своего рода черепаший панцирь, такая куртка с карманами и воротником, и человек, который комфортно чувствует себя в своей одежде, почти так же неуязвим, как и эти Тортиллы, сумевшие продержаться, если вдуматься, намного дольше зубастых летающих чудовищ.
А вообще-то я совершенно не знаю, как поступать, когда чего-нибудь хочется. Разве можно предугадать, какая будет реакция на твои слова? Многие это делают безошибочно, но они не производят впечатление людей, довольных жизнью. Хотя нет, я вру, может, кто-нибудь и доволен.
Лепестки красного мяса, опадающие от движений острейшего лезвия, смятый бумажный пакетик из-под виноградного сока, пирожное, которое тает во рту, негритянка с невообразимо узкими бедрами, одетая в черные облегающие шорты, – все это наводит на мысль, что в твоей голове происходит что-то не то.
* * *
В городе сытых мужчин и гаденьких женщин, женщин жирных, с душком, мужчин мелких, испуганных, в городе, где среди грязно-зеленой стены висит на красном куске материи надпись, сложенная из пожелтевших картонных букв, в городе, где все облицовано серой выщербленной плиткой, и воздух, пропитанный спешкой, обдает тебя своей разжиженной суетой, и на масленых тарелках синие и коричневые надписи, мне приятно – и я не шучу – отвернуться к стене и ничего этого не видеть.
Ты приходишь ко мне, и время для тебя тянется медленно, а для меня ужасно быстро. Я нервничаю, когда ты поглядываешь на часы, потому что это значит, что вот-вот ты положишь на тумбочку апельсины, сушеный шиповник, который я завариваю в термосе, и безделушки для сестер.
Там, за границей, масса всяких красивых пакетиков с яркими разноцветными надписями. Приятно, когда кто-нибудь приходит к тебе с таким пакетом и потом оставляет его вместе с фруктами.
Я особенно люблю такие совсем маленькие пакеты, в которых можно держать расческу или носовые платки.
Когда человек с кокетством рассказывает о себе, думаешь – дурак, наверное. И быстро отвлекаешься, уходишь в свои мысли и только киваешь головой в такт и однообразно мычишь в ответ.
То ли меня расстроил кто-то, то ли оскорбил – не знаю, только поднимается внутри желтоватая, как на кружке пива, пена, которую, прости Господи, очень хочется сдуть кому-нибудь прямо в физиономию и посмотреть, что будет.
А кстати, что будет, если громко крикнуть в ухо кому-нибудь «Дурак!», а потом из укромного местечка наблюдать, как лицо его нальется краской, кулаки свинцом, и он от души передаст эстафету следующему. А ничего не будет. Что было, то и будет. Каждый, бегая по квадрату, обязательно отгружает кому-нибудь пакетик или сверточек дурной энергии, хотя я лично так не считаю. Я думаю, что совсем не обязательно как-то там злобствовать, выкручивать руки, бить под-дых или нос разбивать. Достаточно просто прокричать в ухо «Дурак!», а потом мирно посмотреть, что будет дальше.
* * *
Жены великих поэтов живут обычно намного дольше своих мужей, лет так до восьмидесяти – девяноста, принимая на плечи непосильное бремя их посмертной славы. Проходит сколько-нибудь времени, и им кажется, я имею в виду жен, что они являются воплощением своих безвременно ушедших, хрупких, ранимых, болезненных, капризных, но непременно великих духом спутников. И ничто, ни бирюза на пальцах, ни накрашенные розовой помадой губы, не расстраивают их игры. Я – это все, что осталось у вас после него. Я и его творения.
Шлепая босиком по полу, добираешься до ванной, щуришься от внезапно ударившего в глаза потока света и медленно, практически подсознательно выдавливаешь на зубную щетку аккуратную голубую трубочку или, точнее, колбаску зубной пасты. Мята шибает в нёбо, и ты впервые видишь свое отражение в зеркале. Чистишь зубы так, как будто бы их точишь, чтобы затем кинуться в гущу событий, в это хитросплетение разноцветных переходов и проводов. Нужно уметь обращаться со временем, выжидать и спешить, раскладывать бесконечные пасьянсы из дней, часов и минут, чтобы появиться в тот момент, когда яблоко поспеет и само запросится к тебе в рот.
Я хочу попросить тебя об одной вещи. Если сможешь, конечно. Приходи дня через два, а там видно будет.
В кино, когда герою приходит в голову какая-нибудь мысль, за кадром обычно начинает играть музыка, и по этой музыке понимаешь тревога это или подозрение, чувство любви или ощущение счастья. Когда в герое пробуждается чувство, обычно звучит скрипичный концерт, когда подозрение – солирует контрабас или еще, теперь уже довольно часто, вместо музыки, чтобы вызвать в зрителе напряжение, слышится биение сердца и звуки вдоха и выдоха, и действительно боишься: а вдруг эти громкие глухие удары прекратятся?
Если вдуматься, то все внутри нас устроено удивительно просто. Изящные искусства преподали нам науку расцвечивания переживаний, и мы теперь умеем примешивать к мыслям краски и запахи, но, по сути дела, если убрать косметику, то обнажится простой безмен с крючком, на который подвешиваешь разные грузы, и стрелочка скользит вверх и вниз по шкале с делениями.
– Окстись, матушка, мне и в голову не приходило за тобой ухаживать. Да ведь мы знакомы сто лет…
Не верит, думает кокетничаю. Да не кокетничаю я, нет здесь никакой беллетристики, все как в отчете, полном приписок и орфографических ошибок, там сказано все ясно, в том числе и про нас с тобой.
* * *
Страсти накаляются. Чешуйчатые, узкоголовые, длиннохвостые. Они расползутся в разные стороны, и скоро от их копошащейся кучи не останется совсем ничего.
Ты же знаешь, чтобы был толк, не нужно меня так кормить. К чему все эти бесконечные разносолы, эти соления, сладости, пряности, жир, масло, соус. Нужно делать совсем не так. Подай в красивых чашках по глотку кофе, поставь посреди накрытого чистой скатертью стола тарелку с несладким печеньем – и все будет так, как ты захочешь.
Когда что-нибудь разучиваешь или просто начинаешь развивать какую-нибудь тему, достаточно взять хоть одну неправильную ноту, чтобы потом пришлось все начинать сначала. До чего же это бывает мучительно для окружающих. Даже самого терпеливого человека могут вывести из себя каждодневные музицирования юного дарования, живущего этажом ниже или этажом выше.
Взрослые обычно умеют исправиться незаметно, изменить слово или даже тональность, полушутя, как бы играя на разнице смыслов. А если им приходится начинать сначала, то они стараются незаметно изменить или развить тему. Если перед тобой умелый собеседник, то можно не бояться, что он сфальшивит, поскольку сумеет выйти из положения достойно, а главное, незаметно.
* * *
Деньги пока что никого из нас не испортили. Все волнуются, предостерегают: «Смотри, испортишься!» – но мы как-то очень следим за собой, анализируем, не закралась ли порча в тайники души, в укромные закутки извилин, и нет, нигде ее не сыщешь, не закралась, везде искали. Главное – неустанно следить за собой, отругать себя как следует, если намек на нее назреет, и тогда можно, ничем не рискуя, дальше богатеть и богатеть.
Все-таки, что ни говори, а это серьезная проблема.
Как пройти, протиснуться и не поцарапаться, не облупиться?! Остаться таким же новеньким, лакированным, с большими ресницами и торчащим из кармашка треугольничком носового платка? От этого вопроса делается как-то страшно…
Ведь могут помять или уронить, могут слово неприличное ручкой написать, дрянью какой-нибудь испачкать. Я говорю это, и слезы текут по моим щекам. Сделают с тобой гнусность, и будешь ты так стоять на полочке рядом с парадным чайным сервизом и дорогими шоколадными конфетами в хрустальной вазочке.
* * *
Ты просто неправильно понимаешь. Я вовсе не хочу произвести впечатление или обратить на себя внимание. Черт с ним, с днем рождения, я не придаю значения каким-то датам, я отношусь к себе без особых сантиментов. Ведь в день рождения многие страдают от того, что окружающие заняты своими делами и отнюдь не готовы оказывать бесконечные знаки внимания.
Мне ужасно нравится песня с их последней пластинки. Такой какой-то особенный голос солистки, она настоящая звезда, и афиши с ее изображением украшают сейчас комнаты служащих в административных учреждениях. Так вот, у нее такой усталый голос, чуть хрипловатый, но в то же время сильный, особенно когда она дважды повторяет последнюю строку припева.
Я обожаю такие усталые голоса, которыми обычно поют ослепительные девицы или холеные юноши с великолепной белозубой улыбкой.
Бриллианты всегда бриллианты. Красиво все-таки, когда красное вино в хрустальном стакане стоит на белой скатерти. И, отойдя в сторонку, ты выплевываешь обиду, как океан выплевывает на берег дохлую рыбу, разбухшую, долго до этого плававшую кверху брюхом, чтобы ни у кого не возникло желания отвернуться.
Это труднопроизносимое слово накрепко засело в моей голове, и я все время повторяю его про себя. Не то чтобы это меня раздражало, просто как-то странно: талдычишь одно и то же неизвестно кому. Ведь себе я при этом ничего не говорю. Не веду с собой бесед, и, мне кажется, что у меня вообще нет внутреннего голоса.
Засело, застряло, зацепилось за какую-то извилину неуклюжее, прямоугольное слово и никак не хочет идти прочь. Ну и черт с тобой, сиди, если хочешь.
Уже половина одиннадцатого, но вставать неохота. Я лежу в постели, повернув голову, и в тысячный, в миллионный раз рассматриваю узор на обоях. Я рассматриваю его каждый раз, когда лежу, потому что моя кровать стоит у стены. Не то чтобы рассматриваю, а просто иногда замечаю, что обвожу пальцем контуры этой загадочной золотой лилии, уже наполовину стертой и мало выделяющейся на темно-бордовом фоне обоев.
Калька, копирка, бумага, линейка, ластики, розовый и белый, стаканчик с карандашами и ручками – вся эта божественная канцелярия гнездится на светлом полированном письменном столе, к верхнему ящику которого прилеплена использованная жевательная резинка.
Разве что еще разочек попробовать. А вдруг повезет. А то хвалится каждый раз, что выиграет, и обязательно выигрывает. Но ведь когда-нибудь должна же быть осечка. Эти хамы все время ходят тебе по ногам, и ничего им не возразишь. Только если вдруг случайно повезет, и твой обидчик наступит на собственный шнурок и ридикюльно шлепнется в лужу. Шлепнется в лужу и проваляется там до тех пор, пока лично ты великодушно не поможешь ему подняться.
* * *
Разве дело в том, чтобы ужасное сделать еще более ужасным, а прекрасное еще более прекрасным? Неужели так необходимо загнать гвозди в дерево по самую шляпку, исписать фломастеры, сломать карандаши? Для чего так стараться, выдавливать себя, как зубную пасту из тюбика, а затем с ожесточением тереть щеткой зубы?
Вот уж до чего разношерстная здесь публика! И никуда от нее не денешься! Стой, кури в темном углу под лестницей, туши бычки о подметку и не забудь, что белую рубашку можно носить только один день. И благородный гнев, и незапятнанная совесть, и абсолютно безупречная репутация, и усы, холеные, ароматные, послушные – спору нет, к нам пришел именно тот, кого мы ждали. Ни тебе разбитых коленок, ни расчесанных комариных укусов, ни сломанного ногтя на указательном пальце. Поэтому не падает, не снисходит до младших братьев наших, не роет ям и не лезет через заборы. Вот так.
Раз уж зашла речь о всяком таком, нужно, без сомнения, уточнить, что каждый, даже когда спит или в обмороке, совершает выбор, продиктованный ему совестью, а если так, значит, может и должен отвечать за свои поступки.
* * *
Запах потных рук, одиноких мальчишеских вечеров, забытый вид плодоносящих деревьев и примятой травы у дома, желтые серединки тюльпанов, залитые росою пестики, сосновая иголка, случайно попавшая под футболку, – я не могу произнести это слово, боясь взять слишком высокую ноту, не потому, что сфальшивлю, а просто потому, что не люблю петь высоко и изображать на лице то, что мне не свойственно.
День за днем смотришь на одно и то же, говоришь одни и те же слова одним и тем же людям, и это так же естественно, как вдох и выдох, ты расстраиваешься не потому. Просто тебе кажется, что в самом течении жизни появляется какая-то шероховатость, заусеница, которая за все цепляется и обращает твое внимание на то, что обычно проходит незаметно.
А теперь о многозначительности. Я не выношу многозначительности, глубокомысленных намеков, знаков, что «мол, об этом не будем, у меня в прошлом слишком многое». Я понимаю, что хочется, что так и подмывает. Само собой вздыхается и лезет изо рта лапша, которую послушно наматывают мои уши. Все это зря. Посмотри на себя со стороны, и тебе станет неловко.
* * *
Когда пластинка или кассета начинает плыть, такая тоска охватывает душу, такая безнадега и беспросветность, что впору уронить голову с плеч и горько плакать. Значит, сели батарейки или мотор барахлит. И когда вдумаешься, что прекрасная, стройная музыка, со сбалансированными низами и абсолютно чистыми верхними частотами, превратилась в эту какофонию, в этот мешок с железками, в эту свалку барахла, из которого торчат пружины и куски вылезшей, как из матраса, ваты, понимаешь, что дело дрянь, и хочется думать о жизни. Плывет пластинка, проходит жизнь.
Да тебя первый же Иисус Христос за руку схватит. Как, увидел друга, у которого несчастье, и не бросился ему на помощь? Ты посмел даже страшно сказать что?!
А может, ты и последнюю рубашку не готов отдать? Ты сам подумай, как это называется!
Все-таки удивительные бывают дни! Ноги утопают в лужах, а волосы качаются и шумят, как гигантская крона, цепляются за облака, и всякий спотыкается о тебя и шумит, угрожает, сам не понимает почему. Дело просто в том, что сегодня именно ты встал у него на дороге и никак тебя не объехать, не обойти.
* * *
Душа в экстазе, как бабочка над цветком.
Ноги пляшут сами собой, и руки пожимают друг друга без остановки. Троллейбус, как улитка, поигрывает рожками, а внутри весело подпрыгивают очкастые в ушанках пассажиры, сладостно прижимая портфели к груди. Мальчишки дерутся в снегу радостно, задорно, и звонко разносятся по округе их голоса. Мимо идет самый что ни на есть обаятельный милиционер, яркий такой, стройный, с красными от мороза щеками и веселыми голубыми глазками. Очаровательные серые восьмиэтажки глядят на тебя своими пятьюстами окошечками, в каждом из которых сияет обращенная к тебе улыбка. Мостовые стелются под ногами, как последние подхалимы, и на каждом углу из киоска выпрыгивает на тебя бесплатное обворожительное шоколадное эскимо. Что к этому добавишь?
Душа в экстазе, как бабочка над цветком.
* * *
Ты видишь, как на фоне испещренных мелкими коричневыми ветвями голубых небесных полей падает снег, медленно опускает свои кисейные покрывала, обнажая в памяти прямоугольные небоскребы четверостиший, написанных на эту тему. Вспоминаются только первые строки, ритм, отдельные слова, а все остальное – зияющие пустотой жесткие глазницы выбитых окон на теле этих огромных стальных рыб, плавающих среди несерьезной облачной зыби и старающихся, вероятно, всплыть на поверхность.
Ласковее, лукавее, легче. Нужно, чтобы от твоих слов не оставалось тяжести и хотелось бы улыбнуться, бесконечно проматывая в памяти наш последний телефонный разговор. Нечего накладывать мне за пазуху кирпичи, нечего обматывать меня колючей проволокой, я и так давно напоминаю не совсем удавшееся изваяние жертвам очередной сокрушительной кампании. Если хочешь чего-нибудь добиться, надень перчатки и иди на мягких лапах.
Взрыв, шок, позор. Чернильница с красными чернилами, запущенная в глухую железобетонную панель. Тухлое яйцо, брошенное в прохожего. Дым, гарь, топот, суета, каждый старается успеть и торопится, прижимая к груди громоздкую ношу. Кто-то дает сигнал, и начинается снег, который медленно опускает свои кисейные покрывала на топкие болота, разбитые мостовые, исхоженные тротуары.
Ночью будет мороз, а завтра – гололед на горе старикам, на радость мальчишкам, и девочка в красной вязаной шапке и коричневой школьной форме опять вряд ли решится подобрать юбку и съехать на портфеле вниз по накатанной, обледенелой горке перед домом.
* * *
Как нож в сало. Как падающий с третьего этажа горшок с цветком, который подобно бомбе разрывается, ударившись о жесткий сиреневый тротуар. Ее голос, хрупкий, ломкий, тонкий, прозрачный, вобравший в себя и хрусталь, и фарфор, и манящее позвякиванье не слишком увесистой связки ключей, ее голос, подобный фейерверку из красных, синих, желтых, зеленых, голубых капель, на мгновенье повисших в пропитанном солнцем воздухе, ее голос наполняет мою хорошо приспособленную для этого голову удивительным переливом звуков, и я готовлю сладкий стол, так как она должна прийти примерно через три четверти часа.
Я режу торт, стараясь сделать так, чтобы на каждом кусочке была целенькая розочка с зеленым листочком, аккуратно ломаю на квадраты шоколад, и меня несколько смущает, что на них остаются следы от моих, вероятно слишком теплых, пальцев, протираю полотенцем бутылки с напитками, мелю кофе и радуюсь, что вся квартира наполняется прекрасным, в высшей степени располагающим к приятной беседе ароматом, ставлю на стол подставку для кофейника.
Разница огромна. Меняется время года, меняется протяженность всасываемых организмом струек воздуха – от мелкой вермишели летом до итальянских спагетти зимой, изменилось все, абсолютно, неузнаваемо, и некоторые чувствительные натуры, наподобие бабочек, которые живут только один сезон, говорят: «Это неповторимо, этого не будет больше уже никогда!» Чтобы привлечь одну из них, я и готовлю этот сладкий стол. Она прилетит на раскинувшийся у меня на столе благоухающий цветник и вскружит мне голову, бесконечным мельканием своих нарядных крылышек. Я достаю из шкафа одежду и облачаюсь в костюм жука, или кузнечика, или еще кого-нибудь неприметного, неброского, чтобы еще больше подчеркнуть контраст, в котором, признаться, я нахожу столько удовольствия.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































