Текст книги "Скорбь Сатаны. Вендетта, или История всеми забытого"
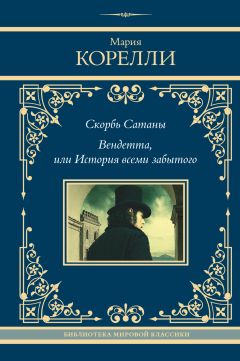
Автор книги: Мария Корелли
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
– Думаю, у вас хватило бы сил устоять против Сатаны, – сказал Лючио, пристально глядя на нее, и в его выразительных глазах читалась мрачная проницательность.
– О, я не знаю! Я не могу за себя ручаться! – улыбнулась Мэвис. – Он, по всей вероятности, должен обладать опасной обаятельностью. Я никогда не представляла его себе как обладателя хвоста и копыт. Здравый смысл подсказывает мне, что подобное существо не может обладать ни малейшей притягательной силой. Наилучшим образом Сатану описал Мильтон! – И ее глаза внезапно потемнели от напряженной работы мысли. – Могущественный падший ангел! Можно только сожалеть о таком падении!
Наступило молчание. Где-то пела птица, и легкий ветерок колебал лилии на окне.
– Прощайте, Мэвис Клер! – сказал Лючио очень мягко, почти нежно.
Голос у него был тихим и дрожащим, а лицо – серьезным и бледным. Она посмотрела на него с недоумением.
– Прощайте, – и она протянула ему свою маленькую ручку.
Он задержал ее на мгновение, затем, к моему удивлению, поскольку мне была известна его ненависть к женщинам, нагнулся и поцеловал ее. Щеки у Мэвис порозовели, когда она забирала у него руку.
– Будьте всегда такой, какая вы есть, Мэвис Клер! – сказал он ласково. – Не позволяйте ничему изменить вас! Сохраните эту светлую натуру, этот спокойный дух тихого довольства, и вы сможете носить горькие лавры славы с таким же удовольствием, как если бы это были розы! Я повидал мир; я много путешествовал и встречал множество знаменитых мужчин и женщин, королей и королев, сенаторов, поэтов и философов; мой опыт широк и разнообразен, поэтому я говорю обо всем этом не без основания и уверяю вас, что Сатана, о котором вы отзывались с состраданием, никогда не нарушит покой чистой, удовлетворенной души. Подобное притягивает подобное: падший ангел ищет таких же падших, и дьявол, если он есть, делается товарищем только тем, кто находит удовольствие в его учении и обществе. Утверждают, что он боится крестного знамения, но я бы сказал, что если он чего и боится, так это того «сладостного довольства», которое воспевает ваш соотечественник Шекспир и которое служит более надежной защитой от зла, чем церковь или молитвы священников. Я говорю как человек, чей возраст дает ему на это право. Я на столько лет старше вас! Простите меня, если я слишком разговорился!
Она молчала, очевидно тронутая и слегка удивленная его словами, и лицо ее имело полуиспуганное выражение, которое тотчас изменилось, когда я подошел к ней, чтобы проститься.
– Я очень рад познакомиться с вами, мисс Клер! – сказал я. – Надеюсь, мы будем друзьями!
– Я не вижу причины, чтобы быть врагами, – откровенно ответила она. – Я рада, что вы сегодня пришли! Если когда-нибудь вы снова пожелаете разнести меня в пух и прах, вы знаете свою судьбу. Вы сделаетесь голубем – и ничего больше! Прощайте!
Она грациозно поклонилась, и, когда калитка за нами затворилась, мы услыхали радостный лай сенбернара, очевидно, выпущенного из заточения сразу же после нашего ухода.
Некоторое время мы шли молча, и, только когда вошли в Уиллоусмирский парк и направились к аллее, где ждала коляска, чтоб отвезти нас на станцию, Лючио заговорил:
– Ну что вы думаете о ней теперь?
– У нее нет ничего от общепринятого идеала романистки, – ответил я со смехом.
– Общепринятые идеалы обыкновенно ошибочны, – заметил он, пристально глядя на меня. – Общепринятый идеал дьявола – неописуемое существо с рогами и копытами (одно из которых раздвоенное), как только что заметила мисс Клер. Общепринятый идеал красоты – Венера Медицейская, между тем ваша леди Сибилла намного превосходит эту слишком переоцененную статую. Общепринятый идеал поэта – Аполлон: он был богом, и никогда ни один поэт из плоти и крови и близко не походил на богоподобного! А общепринятый идеал писательницы – уродливая, безвкусно одетая, нудная старуха с очками на носу; Мэвис Клер не соответствует этому описанию, между тем она – автор «Несогласия». А вот Макуин, который постоянно бранит ее, где только может, действительно старый, некрасивый, нудный и в очках, но при этом он не написал ни одной книги! Женщины-писательницы всегда считаются безобразными, мужчины-авторы по большей части безобразны на самом деле, но их безобразие не замечается. Однако же, как бы ни была хороша собой женщина-писательница, она с подачи прессы принимается за урода, потому что пресса считает, что она должна быть уродом. Хорошенькая писательница – это оскорбление, это несообразность, нечто, чего не переносят ни мужчины, ни женщины. Мужчины не любят ее, потому что, будучи развитой и независимой, она часто не обращает на них внимания; женщины не любят ее, потому что она имеет дерзость соединять в себе красоту и ум и является соперницей для тех, кто обладает одной лишь красотой и не имеет ума. Так устроен мир.
О безумный мир! Ты вращаешься сквозь вечность,
В огнях рассветов и закатов, под блеск серебра и злата.
О мир, ты всего лишь пылинка, гонимая бурей,
Песчинка на морском берегу – для ангелов и для меня!
Он запел совершенно неожиданно, и его густой баритон наполнил мелодичными звуками безмолвный теплый воздух. Я слушал, пораженный.
– Какой у вас голос! – воскликнул я. – Какой волшебный дар!
Он улыбнулся, продолжая петь, и его темные глаза сверкали.
О безумный мир, пушинка в жгучем луче,
Сорвавшаяся с небесного свода в миллионах расстояний отсюда.
Упади иль пари в эфире! Живи средь планет иль умри!
Что за дело мне до твоей судьбы, если предо мной Бесконечное Небо?
– Какая странная песня, – сказал я, удивленный и слегка напуганный страстью в его голосе. – В ней нет никакого смысла!
Он засмеялся и взял меня за руку.
– В ней действительно нет смысла, – согласился он. – Салонные песни вообще не имеют смысла. И эта моя песня тоже написана для салона и рассчитана на то, чтобы пробудить эмоции в старых девах, не знавших любви и имеющих склонность к религии.
– Вздор, – сказал я, улыбаясь.
– Совершенно верно. Я так и говорю. Именно что вздор.
Тут мы подошли к коляске.
– До поезда осталось всего двадцать минут, Джеффри! Едем!
И мы поехали. Я следил за красными остроконечными крышами Уиллоусмирского замка, освещенного последними лучами солнца, пока изгиб дороги не скрыл их из виду.
– Вам понравилась ваша покупка? – тотчас спросил Лючио.
– Безмерно!
– А ваша соперница, Мэвис Клер? Нравится ли она вам?
Я подумал с минуту и ответил:
– Да. Она мне нравится. И я скажу вам больше: мне нравится ее книга. Это великое произведение, достойное самого высокоодаренного человека. Она всегда мне нравилась, и потому, что она мне нравилась, я и ругал ее.
– Что-то мудрено! – улыбнулся он. – Не можете ли объяснить?
– Конечно, могу, – сказал я, – объяснение очень простое. Я позавидовал ее силе и все еще завидую ей. Ее популярность причинила мне жгучую обиду, и, чтобы облегчить свои страдания, я написал ту статью. Но я больше никогда не сделаю ничего подобного. Пусть она спокойно выращивает свои лавры.
– Лавры имеют обыкновение расти без всякого позволения, – заметил многозначительно Лючио, – и там, где их совсем не ожидают. Они не могут быть культивированы в теплицах критики.
– Мне это известно! – воскликнул я, и мои мысли возвратились к моей книге и к осыпавшим ее хвалебным рецензиям. – Я основательно выучил этот урок, выучил наизусть!
Он пристально посмотрел на меня.
– Это только один из тех многих, которые вам еще предстоит выучить. Это урок о славе. Ваш следующий курс будет о любви!
Он улыбнулся, а я почувствовал какой-то страх и неловкость. Я подумал о Сибилле и ее несравненной красоте, о Сибилле, которая призналась мне, что не может любить. Не придется ли нам обоим учить урок? И одолеем ли мы его? Или он окажется выше нашего разумения?
XXI
Приготовления к свадьбе шли полным ходом. Я и Сибилла начали получать горы подарков, и тут я познакомился с неизвестной мне до сих пор фазой пошлости и лицемерия модного общества. Каждый из них знал степень моего богатства и то, как мало было необходимости в подношении мне или моей невесте дорогих вещей.
Несмотря на это все наши так называемые друзья и знакомые старались превзойти друг друга ценностью, если не вкусом своих разнообразных подарков. Будь мы молодой парой, отважно вступающей в новую жизнь с искренней любовью, но без определенных доходов и ясных представлений о своем будущем, мы бы не получили ничего полезного или ценного – каждый постарался бы сделать свой подарок как можно более дешевым. Вместо красивого сервиза из массивного серебра мы получили бы жалкую коллекцию мельхиоровых чайных ложек. Вместо дорогой коллекции книг с прекрасными иллюстрациями, возможно, нам пришлось бы выражать благодарность за семейную Библию стоимостью десять шиллингов. Я, конечно же, хорошо понимал причины расточительности наших «друзей»: их подарки были не более чем взяткой, посланной с целью, которую нетрудно было угадать, а именно, чтобы, во-первых, быть приглашенными на свадьбу, а во-вторых, попасть в список гостей на наших будущих обедах и балах; а кроме того, они рассчитывали на наше влияние в обществе и на возможность занять у нас деньги, если вдруг возникнет такая необходимость. Мы с Сибиллой были единодушны, выражая мало благодарности за их льстивые подношения и сдерживая вызываемое ими презрение. Она устало и равнодушно смотрела на ряды ценных вещей и польстила моему самолюбию уверением, что единственной вещью, понравившейся ей, было колье из сапфиров и бриллиантов, которое я подарил ей на помолвку, и обручальное кольцо из тех же камней. Я заметил, что ей также очень понравился подарок Лючио, который был действительно настоящим произведением ювелирного искусства; это был пояс в виде змеи, ее туловище было составлено из мельчайших изумрудов, а голова – из рубинов и бриллиантов; гибкая, как тростник, она, казалось, как живая, обвивала талию Сибиллы и дышала вместе с ней. Лично мне не очень нравилось это украшение для молодой невесты, по-моему, оно было совсем не подходящим, но так как все другие восторгались им и завидовали обладательнице такой великолепной вещи, то я ничего не сказал о своем неудовольствии. Дайана Чесни выказала изящный и тонкий вкус в своем подарке: это была восхитительная мраморная статуя Психеи на пьедестале из массивного серебра и черного дерева.
Сибилла поблагодарила ее с холодной улыбкой.
– Вы дали мне эмблему души! – сказала она. – Без сомнения, вы вспомнили, что у меня нет души!
И ее смех пробрал бедную Дайану «до костей», как призналась мне со слезами на глазах сама добросердечная маленькая американка. В то время мы с Риманцем виделись очень редко. Я был занят с моими поверенными устройством моих денежных дел. Господа Бентам и Эллис позволили себе возразить против моего решения безо всяких условий отдать половину моего состояния моей нареченной жене; но я не терпел вмешательства, и бумага была составлена, подписана и засвидетельствована. Граф Элтон без устали превозносил мое «беспримерное великодушие» и мой «благородный характер» и расхваливал меня повсюду, дойдя до того, что почти сделался ходячей рекламой добродетелей своего будущего зятя. По-видимому, для него начиналась новая жизнь: он открыто флиртовал с Дайаной Чесни, а о своей парализованной супруге никогда не говорил и, должно быть, не думал. Сама Сибилла постоянно находилась в руках портных и модисток, и мы каждый день виделись только несколько минут. В эти минуты она была всегда очаровательна, даже нежна, а между тем, несмотря на мой страстный восторг и любовь к ней, я чувствовал, что она была моею настолько, насколько могла быть моею раба, – что, подставляя мне для поцелуя свои губы, она считала, что я имею право их целовать, потому что купил их; что все ее ласки были заучены и все ее поведение было результатом тщательной предусмотрительности, а не естественного побуждения. Я старался отделаться от этого впечатления, но оно продолжало настойчиво преследовать меня и омрачать сладость моего короткого ухаживания.
Тем временем о моей разрекламированной книге постепенно стали забывать. Морджесон представил мне внушительный счет за публикации, который я беспрекословно оплатил. Время от времени в той или иной газете сообщалось о моем «литературном триумфе», но почти никто не говорил о моем «знаменитом» произведении и мало кто его читал.
Меня постигла та же судьба, что и Патера – автора романа под названием «Марий-эпикуреец», расхваленного кликой литературных критиков, но потерпевшего неудачу у публики. Журналисты, с которыми я был знаком, стали отдаляться от меня, как от груза, выброшенного за борт при кораблекрушении. Думаю, они поняли, что я не намеревался устраивать для них обеды и ужины, и знали, что брак с дочерью графа Элтона поднимет меня на такие высоты, где обитатели Граб-стрит не смогут свободно дышать и удобно вытянуть ноги. Груда золота, на которой я сидел, как на троне, мало-помалу отделяла меня даже от задних дворов и низких коридоров в храме славы, и почти бессознательно для самого себя я, шаг за шагом, удалялся от них, защищая глаза, как от солнца, и смотря издали на блестящие башни, куда через высокий портик входила легкая женская фигура, повернув свою увенчанную лаврами головку и скорбно улыбаясь мне с божественным состраданием, прежде чем пойти поклониться богам. Между тем, если бы спросили журналистов, то каждый ответил бы, что я имел большой успех. Я, только я сознавал всю горечь и глубину моего провала. Я не тронул сердца публики; мне не удалось пробудить читателей от апатии их унылой будничной жизни и заставить их повернуться ко мне с распростертыми руками, с восклицаниями: «Больше, больше этих мыслей, которые утешают и вдохновляют нас! Благодаря им мы слышим голос Бога, провозглашающий среди бури: «Все будет хорошо!» Я этого не сделал. Я не мог это сделать. И хуже всего, во мне зародилось убеждение, что я мог бы это сделать, если б остался бедным! Во мне было убито самое сильное, самое здоровое, что только есть в человеке, – необходимость трудиться. Я знал, что не нуждался в труде, что общество, в котором я теперь вращался, нашло бы странным, если б я вздумал трудиться, что я был обязан тратить деньги и «веселиться» по-идиотски, потому что в высшем обществе это называлось «весельем».
Мои знакомые не замедлили явиться со всевозможными советами о том, как потратить излишки моего состояния. Отчего бы мне не построить мраморный дворец на Ривьере? Или яхту, чтоб окончательно затмить «Британию» принца Уэльского? Почему бы мне не основать театр? Или не начать издавать газету? Когда становилось известно о каком-нибудь ужасном случае и объявлялась подписка для облегчения положения пострадавшего или пострадавших, я неизменно давал десять гиней и позволял благодарить себя за «щедрую помощь», хотя десять гиней для меня значили почти то же, что десять пенсов для другого. Когда воздвигали памятник какому-нибудь великому человеку, который, как водится, не был оценен до самой своей смерти, я опять вынимал десять гиней, хотя легко бы мог, к чести для самого себя, покрыть все издержки на сооружение памятника и не стать нисколько беднее. Со всем своим богатством я не сделал ничего достойного. Я не помог терпеливым труженикам на их тяжелом пути в литературе и искусстве. Не проявил заботу о бедняках; а когда однажды ко мне зашел священник, худой, с серьезным лицом и горящими глазами, чтобы с нервной застенчивостью описать мне ужасные страдания больных и умирающих с голода в его районе у доков и спросить, не хочу ли я облегчить некоторые из этих тяжких нужд, как ради личного удовлетворения, так и из человеколюбия, – к своему стыду, я отпустил его с совереном, после чего меня бросило в жар от его простых слов: «Спасибо и благослови вас Господь». Я видел, что сам он был беден; я мог бы осчастливить его бедный район и его самого несколькими росчерками пера на чеке и даже не почувствовать лишения этой суммы, а между тем я ничего ему не дал, кроме одной золотой монеты, и позволил ему уйти! Он приглашал меня посмотреть на его голодную паству. «Поверьте мне, мистер Темпест, – сказал он, – мне было бы больно, если б вы подумали, как многие богачи, к несчастью, склонны думать, что я прошу денег для удовлетворения своих личных нужд. Если б вы посетили район и своей рукой раздали бы милостыню, это доставило бы мне бесконечно большее удовольствие и оказало бы значительно лучшее воздействие на настроения людей. Поскольку, сэр, бедняки не могут бесконечно терпеть жесточайшие невзгоды, которые они вынуждены выносить». Я снисходительно улыбнулся и заверил его не без некоторой иронии, что убежден в честности и бескорыстии духовенства, а затем послал слугу выпроводить его как можно учтивее. И я помню, что в тот самый день пил за обедом «Шато д’Икем» по двадцать пять шиллингов за бутылку.
Я пустился в эти пустячные на первый взгляд подробности потому, что из них составляется сумма и сущность неумолимых последствий, а также желая подчеркнуть тот факт, что в своих поступках лишь подражал примеру моих сотоварищей. Большинство богатых людей следуют тому же течению, что и я, и мало таких, кто действительно приносит пользу обществу. Подвиги великодушия не отражены в наших анналах.
Приюты для бедных, устроенные в Ист-Энде некоторыми аристократами, ничтожны – даже менее чем ничтожны. Это жалкие подачки нашему ручному «лежащему льву». Наш лев не спит, а упорно бодрствует, и никто не знает, что может случиться, если в звере проснется природная ярость. Несколько наших богачей могли бы значительно облегчить тяжелую нужду во многих кварталах столицы, если б они соединились в благородном бескорыстии, в сильном и твердом желании сделать это, избегая канцелярского формализма и многословных аргументов. Но они остаются в бездействии, тратя время лишь на личные наслаждения и удовольствия; между тем появляются грозные признаки возмущения. Бедняк, как сказал худой взволнованный священник, не будет терпеть бесконечно!
Я должен упомянуть, что Риманец, следуя своему слову, данному мне на второй день нашего знакомства, добыл для меня лошадь для участия в скачках. Это было восхитительное существо, названное Фосфором, и где его достали, Лючио так мне и не сказал. Его показали нескольким экспертам, которые не только казались удивленными, но положительно потрясенными совершенством этого животного по всем статьям. Риманец, подаривший мне его, предупредил, чтобы я был осторожен и не допускал в конюшню посторонних, а также попросил не позволять никому, кроме специально приставленных двух конюхов, долго находиться при нем. О возможностях Фосфора ходило много толков, поскольку грумы во время тренировок не показывали всех его способностей. Каково же было мое удивление, когда Лючио объявил мне, что жокеем будет его лакей Амиэль.
– Бог мой! – воскликнул я. – Разве он умеет ездить верхом?
– Как сам дьявол! – ответил с улыбкой мой друг. – Он живо домчится на Фосфоре до призового столба!
Собственно говоря, я в этом очень сомневался: лошадь первого министра должна была участвовать, и все ставки были на нее. Фосфора же мало кто видел, и эти немногие, хоть и восхищались наружностью животного, не имели случая судить о его настоящих качествах благодаря тщательным заботам двух конюхов, очень похожих на Амиэля, таких же молчаливых и угрюмых.
Лично я был равнодушен к результату скачек. В сущности, мне было безразлично, возьмет ли Фосфор приз или нет. Я свободно мог бы проиграть, а выигрыш дал бы мне немного – разве только краткий триумф. В такой победе не было ничего прочного, разумного или почетного; нет ничего прочного, разумного или почетного ни в чем, имеющем отношение к скачкам. Но поскольку интересоваться ими считалось модным, я следовал общему направлению только ради того, чтобы обо мне говорили, – и больше ничего.
Тем временем Лючио был занят приготовлениями к празднику в Уиллоусмире, придумывая всевозможные сюрпризы для гостей. Было разослано восемьсот приглашений; общество вскоре начало возбужденно толковать о несомненном великолепии предстоящего события. Все с готовностью приняли приглашения, лишь немногие сообщили о невозможности приехать из-за болезни, смерти члена семьи или уже имевшихся договоренностей; в числе последних, к моему великому сожалению, оказалась и Мэвис Клер. Она уезжала на побережье со старыми друзьями и объяснила это в красиво написанном письме, выразив благодарность за приглашение. Как странно, что по прочтении ее отказа мною овладело острое чувство разочарования! Она была ничто для меня, ничто – всего лишь женщина-литератор, по странной случайности оказавшаяся гораздо привлекательнее многих женщин, не имевших отношения к литературе; и тем не менее я сознавал, что праздник в Уиллоусмире без нее лишится части своего блеска. Я хотел познакомить ее с Сибиллой, зная, что этим доставил бы особенное удовольствие моей невесте; однако этому не суждено было осуществиться, и я чувствовал необъяснимую личную обиду.
Согласно данному мной обещанию, я предоставил Риманцу полную свободу в устройстве того, что должно было стать крайней степенью всего, когда-либо придуманного для развлечения, удовольствия и удивления рассеянного и требовательного «высшего» общества, и не вмешивался, не задавал вопросов, полагаясь на вкус, фантазию и изобретательность моего друга; я только знал, что будут приглашены иностранные артисты и поставщики и ни одна английская фирма не примет участия. Однажды я рискнул спросить Лючио о причине этого и получил один из его загадочных ответов:
– Ничто английское не может быть достаточно хорошо для англичан, – сказал он. – Все должно быть привезено из Франции, чтобы понравиться людям, которых сами французы в раздражении называют «коварным Альбионом». Вы должны иметь меню вместо списка блюд, а сами блюда должны носить французские названия, иначе это сочтут дурным тоном. Чтоб угодить британскому вкусу, актрисы и танцовщицы должны быть выписаны из Франции, а шелковые драпировки – сотканы на французских станках. Недавно даже стало необходимым вместе с парижскими модами ввозить парижскую нравственность. Доблестная Великобритания перенимает парижские манеры и выглядит как добродушный гигант с открытым лицом и кукольной шляпкой на львиной голове, потому что кукольная шляпка теперь «в моде». Думаю, в один прекрасный день гигант увидит, что выглядит нелепо, и сбросит ее, искренне смеясь над своим временным помешательством. И без нее он вернет себе прежнее достоинство – достоинство завоевателя, имеющего море своим регулярным войском.
– Очевидно, вы любите Англию! – сказал я, улыбаясь.
Он рассмеялся.
– Нисколько! Я люблю Англию не больше, чем какую-либо другую страну на земном шаре; я и земной шар не люблю, и Англия получает долю моей ненависти как одно из мест на этой ничтожной планете. Если б это было в моей власти, я бы хотел царствовать на такой звезде, откуда мог бы нанести такой удар по Земле, чтобы она закружилась в пространстве, в надежде этим актом справедливой жестокости отделаться от нее навеки!
– Но почему? – удивился я. – За что вы ненавидите Землю? Что такого сделала бедная маленькая планета, чтобы заслужить ваше отвращение?
Он очень странно на меня посмотрел.
– Сказать ли вам? Вы не поверите мне!
– Это не имеет значения! Говорите.
– Что сделала мне бедная маленькая планета? – медленно повторил он. – Бедная маленькая планета не сделала ничего. Но то, что сделали боги с этой самой бедной маленькой планетой, вызывает мой гнев и презрение. Они сделали ее живой сферой чудес, одарили ее красотой, заимствованной от прекраснейших уголков великого Неба, покрыли ее цветами и зеленью, научили ее музыке – музыке птиц и водопадов, и катящихся волн, и падающего дождя, ласково колыхали ее в светлом эфире, среди такого света, какой ослепляет взор смертных, вывели ее из хаоса, сквозь громовые раскаты и зубчатые столбы молнии, чтоб она мирно вращалась в назначенной ей орбите, освещаемая с одной стороны ярким великолепием солнца, а с другой – мечтательным сиянием луны; и, кроме того, они наделили ее божественной душой, заключив ее в человека! О, вы можете мне не верить, но эта душа здесь, и все бессмертные силы с ней и вокруг нее! Более того, боги – я использую множественное число, как это было принято у древних греков, поскольку считаю, что существует множество богов, исходящих из Высшего Божества, – итак, боги так упорствовали в этом своем решении, что Один из них сошел на Землю в человеческом образе, чтобы показать истину Бессмертия этим жалким тленным существам! Вот за что я ненавижу эту планету! Разве не было, разве нет других, больших миров! Почему Бог выбрал именно этот, чтоб обитать в нем!
Потрясенный, я минуту молчал.
– Вы поражаете меня, – сказал я наконец. – Я полагаю, вы говорите о Христе. Вы противоречите сам себе. Я помню, вы с негодованием отрицали христианство.
– Конечно, и я продолжаю его отрицать, – быстро ответил он. – Я не христианин, и никто из людей не христианин. Вспомните, как было сказано: «Никогда не было другого христианина, кроме Одного, и Он был распят». Но, хоть я не христианин, я никогда не говорил, что сомневаюсь в существовании Христа. Я был вынужден признать это – и под большим давлением!
– Каким-то надежным авторитетом? – спросил я с легкой иронией.
Он ответил не сразу. Его горящие глаза смотрели как бы сквозь меня, на что-то очень далекое. Странная бледность проступила на его лице, та бледность, которая временами делала его черты похожими на непроницаемую маску, и он улыбнулся страшной улыбкой. Так мог бы улыбнуться человек, испытывающий мрачную удаль перед ожидающими его ужасными муками.
– Вы затронули мое больное место, – наконец произнес он медленно, жестким тоном. – Мои убеждения относительно некоторых религиозных фаз человеческого развития и прогресса основаны на изучении очень неприятных истин, на которые человечество обыкновенно закрывает глаза, пряча голову в песок своих заблуждений. Сейчас я не хочу вдаваться в эти истины. Я посвящу вас в некоторые из моих тайн в другой раз.
Мучительная улыбка исчезла с его лица, и оно приняло свое обычное спокойное и невозмутимое выражение, а я поспешил переменить тему разговора, к тому времени уже придя к заключению, что мой блистательный друг, как и многие особенно одаренные личности, имел «пунктик» в виде одного предмета, и этот предмет был весьма труден для обсуждения, касаясь сверхчеловеческого, а потому (по моему мнению) невозможного. Мой темперамент, который в дни моей бедности колебался между духовной борьбой и материальной выгодой, с появлением неожиданного богатства быстро укрепился в характере светского человека, для которого все размышления о невидимых силах в нас и вокруг нас были чистейшей ерундой, недостойной, чтобы задумываться о ней. Я бы презрительно рассмеялся, если бы кто-нибудь вздумал толковать мне о законе Вечной Справедливости, направляющей как отдельные личности, так и целые нации к добру, а не ко злу, и не в преходящей «фазе», а во все времена – так как человек, хоть и старается закрыть на это глаза, все же заключает в себе частицу Божества, и если он умышленно оскверняет его своей нечестивостью, он принужден снова и снова очищаться в неистовом пламени таких угрызений совести и такого отчаяния, какие справедливо называют неугасимыми огнями ада!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































