Текст книги "Скорбь Сатаны. Вендетта, или История всеми забытого"
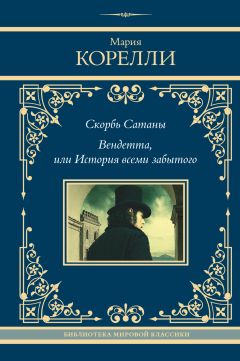
Автор книги: Мария Корелли
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
– Возможно, что вы это и сделаете, – сказал он, глядя на меня полузакрытыми глазами сквозь облако дыма. – Лондон любит толки. Особенно о некрасивых и сомнительных предметах. Поэтому, как я вам уже намекнул, если б ваша книга была смесью Золя, Гюисманса и Бодлера или если б имела своей героиней «скромную» девушку, которая считает честное замужество «унижением», то вы могли бы быть уверены в успехе в эти дни новых Содома и Гоморры. – Тут он вдруг вскочил, бросил сигару и встал передо мной. – Отчего огненный дождь не падает с неба на эту проклятую страну? Она созрела для наказания – полная отвратительных существ, недостойных даже мучений ада, на которые, как говорят, осуждены лжецы и лицемеры! Темпест, если есть человеческое существо, которого я более всего гнушаюсь, так это тип человека, весьма распространенный в наше время, – человека, который облекает свои мерзкие пороки в платье широкого великодушия и добродетели. Такой субъект будет даже преклоняться перед потерей целомудрия в женщине, потому что он знает, что только ее нравственным и физическим падением он может утолить свое скотское сластолюбие. Чем быть таким лицемерным подлецом, я предпочел бы открыто признать себя негодяем!
– Это потому, что у вас самого натура благородная, – сказал я. – Вы исключение из правила.
– Исключение? Я? – И он горько усмехнулся. – Да, вы правы. Я – исключение, быть может, между людьми, но я подлец сравнительно с честностью животных! Лев не перенимает повадок голубя, он громко заявляет о своей свирепости. Змея, как ни скрытны ее движения, выказывает свои намерения шипением. Вой голодного волка слышен издалека, пугая торопящегося путника среди снежной пустыни. Но человек более злобный, чем лев, более вероломный, чем змея, более алчный, чем волк, – он пожимает руку своего ближнего под видом дружбы, а за спиной мешает его с грязью. Под улыбающимся лицом он прячет фальшивое и эгоистичное сердце, кидая свою ничтожную насмешку на загадку мира, он ропщет на Бога. О Небо! – Здесь он прервал себя страстным жестом. – Что сделает Вечность с таким неблагодарным слепым червем, как человек?
Его голос звучал с особенной силой, его глаза горели огненным пылом.
Его вид произвел на меня ошеломляющее впечатление, и я с потухшей сигарой уставился на него в немом изумлении.
Что за вдохновенное лицо! Что за величественная фигура! Какой царственный, почти богоподобный вид был у него в этот момент! А между тем было что-то страшное в его позе, полной вызова и протеста. Он поймал мой удивленный взгляд, и пыл страсти поблек на его лице; он засмеялся и пожал плечами.
– Я думаю, что я рожден быть актером, – сказал он небрежно. – По временам меня одолевает любовь к декламации. Тогда я говорю, как говорят первые министры и господа в парламенте, отдаваясь настроению минуты и не придавая значения ни одному сказанному слову!
– Я не принимаю такого объяснения, – слегка улыбнулся я, – вы должны придавать значение тому, что говорите; хотя мне думается, что вы натура, действующая под влиянием импульса.
– В самом деле, вы так думаете! – воскликнул он. – Как это умно с вашей стороны, милый Джеффри, как это умно! Но вы ошибаетесь! Нет существа менее импульсивного или более обремененного умыслом, чем я. Верьте мне или не верьте, как хотите. Вера – такое чувство, которое нельзя навязать принуждением. Если б я сказал вам, что я опасный спутник, что я люблю зло больше, чем добро, что я ненадежный наставник человека, что бы вы подумали?
– Я бы подумал, что вы имеете странную склонность обесценивать свои качества, – сказал я, снова зажигая сигару и несколько забавляясь его горячностью. – И я испытывал бы к вам такую же симпатию, как и теперь, и даже больше, если только это возможно.
Он сел и устремил на меня свои темные загадочные глаза.
– Темпест, вы следуете примеру хорошеньких женщин: они всегда любят самых отъявленных негодяев!
– Но вы же не негодяй, – заметил я, спокойно попыхивая сигарой.
– Да, я не негодяй, но во мне много дьявольского.
– Тем лучше! – И я лениво развалился на стуле. – Я надеюсь, что и во мне также сидит дьявол!
– Вы верите в него? – спросил Риманец, улыбаясь.
– В дьявола? Конечно, нет!
– Он – весьма интересная легендарная личность, – продолжал князь, закуривая другую сигару и принимаясь медленно пускать клубы дыма. – И стал героем не одной захватывающей истории. Вообразите его падение с небес! «Люцифер, Сын Утра» – что за титул, что за превосходство! Предполагается, что существо, рожденное от Утра, образовалось из прозрачного чистого света; вся теплота поднялась от миллиона сфер и окрасила его светлое лицо, и весь блеск огненных планет пылал в его глазах. Безупречный и превосходный стоял он, этот величественный Архангел, по правую руку самого Божества, и пред его неутомимым взором проносились великие творения Божеской мысли. Вдруг он заметил вдали, внутри зарождавшейся материи, новый маленький мир и в нем существо, формирующееся медленно, существо хотя слабое, но могущественное, хотя высшее, но легкомысленное – странный парадокс! – предназначенное пройти все фазы жизни, пока, приняв душу Творца, оно не коснется сознательного Бессмертия – Вечной Радости. Тогда Люцифер, полный гнева, повернулся к Властелину Сфер и кинул ему безумный вызов, громко закричав: «Не хочешь ли Ты из этого ничтожного слабого создания сделать Ангела, как я? Я протестую и осуждаю Тебя! Если Ты сделаешь человека по нашему образу, то я скорее уничтожу его, чем стану делить с ним великолепие Твоей Мудрости и сияние Твоей Любви!» И Голос, страшный и прекрасный, ответил ему: «Люцифер, Сын Утра, тебе хорошо известно, что ни одно праздное или безумное слово не должно быть произнесено при мне, так как Свободная Воля есть дар Бессмертных; поэтому что ты говоришь, то ты и сделаешь! Поди, Гордый Дух, Я лишаю тебя твоего высокого звания! Ты падешь, и твои ангелы вместе с тобой! И не возвратишься, пока человек сам не выкупит тебя! Каждая человеческая душа, что не устоит пред твоим искушением, станет преградой меж тобой и Небом; каждый же, кто по собственной воле восстанет против тебя и одержит над тобой верх, вознесет тебя ближе к твоей прежней обители. Когда мир отвергнет тебя, я прощу тебя и снова приму, но не до тех пор».
– Никогда не слыхал такого переложения легенды, – сказал я. – Идея, что человек выкупит дьявола, совершенно нова для меня.
– Не правда ли? – он пристально посмотрел на меня. – Это один из самых поэтичных вариантов истории. Бедный Люцифер! Конечно, его наказание вечно, и расстояние между ним и Небом должно увеличиваться с каждым днем, потому что человек никогда не поможет ему исправить его ошибку. Человек скорее и охотнее отвергнет Бога, но дьявола никогда. Посудите сами, как этот «Люцифер, Сын Утра», Сатана, или как иначе он называется, должен ненавидеть человечество!
Я улыбнулся.
– Хорошо, но ему оставлено средство, – заметил я, – он не должен никого искушать.
– Вы забываете, что, согласно легенде, он связан своим словом. Он поклялся перед Богом, что совершенно уничтожит человека; поэтому, если может, он должен исполнить эту клятву. Ангелы, по-видимому, не могут клясться перед Вечностью без того, чтоб не стараться исполнить свои обеты. Люди клянутся именем Бога ежедневно без малейшего намерения сдержать свои обещания.
– Но все это бессмыслица! – сказал я с оттенком нетерпения. – Все эти старые легенды истрепались. Вы рассказываете историю очень хорошо и так, как если б сами верили в нее: это потому, что вы одарены красноречием. В наше время никто не верит ни в дьяволов, ни в ангелов. Я, например, даже не верю в существование души.
– Я знаю, что вы не верите, – проговорил он мягко. – И ваш скептицизм весьма удобен, потому что он освобождает вас от всякой личной ответственности. Я завидую вам, так как, к сожалению, я принужден верить в душу.
– Принуждены! – повторил я. – Это абсурд: никого нельзя заставить поверить в ту или другую теорию.
Он взглянул на меня с блуждающей улыбкой, которая скорее омрачила, чем осветила его лицо.
– Верно! Совершенно верно! Нет принудительной силы во всей Вселенной. Человек – высшее и независимое творение, хозяин всего, что он обозревает, не признающий другой власти, кроме своего желания. Верно. Я забыл! Но оставим, прошу вас, теологию и психологию и будем говорить о единственном предмете, в котором есть и смысл, и интерес, – то есть о деньгах. Я замечаю, что ваши планы определены: вы хотите напечатать книгу, которая наделает шуму и даст вам известность. Это довольно скромно! Нет ли у вас более широких замыслов? Есть несколько способов, чтоб заставить о себе говорить. Могу я вам их перечислить?
Я засмеялся.
– Если хотите!
– Хорошо. Во-первых, я посоветую вам поместить о себе статью в газетах. Пресса должна знать, что вы чрезвычайно богатый человек. Существуют агенты, занимающиеся написанием таких статей; я полагаю, они это сделают довольно хорошо за десять или двадцать гиней.
Я раскрыл глаза.
– Разве это так делается?
– Как же иначе это может делаться, мой друг? – спросил он несколько нетерпеливо. – Неужели вы думаете, что-нибудь на свете делается без денег? Разве несчастные, выбивающиеся из сил журналисты вам братья или близкие друзья, чтоб обратить на вас внимание публики, не взяв что-нибудь за труды? Если же вы не заплатите, они с радостью обольют вас грязью совершенно бесплатно, обещаю вам! Я знаю одного «литературного агента», весьма почтенного господина, который за сто гиней заставит прессу работать так, что через несколько недель публике станет казаться, будто Джеффри Темпест, миллионер – единственный человек, о котором стоит говорить, и пожать ему руку есть честь, которую превосходит разве что встреча с королевской семьей.
– Договоритесь с ним! – сказал я весело. – Заплатите ему двести гиней. Тогда весь свет услышит обо мне.
– Когда о вас основательно прокричат в газетах, – продолжал Риманец, – следующим шагом будет вступление в так называемое «чопорное» общество. Это делается осторожно и постепенно. Вы должны быть представлены в первом сезоне, а потом я устрою вам приглашение в дома некоторых знатных дам, где вы встретите за обедом принца Уэльского. Если сумеете понравиться или сделать какое-нибудь одолжение его королевскому высочеству – тем лучше для вас: он наиболее популярная королевская особа в Европе. Далее вам необходимо купить замок и обнародовать этот факт, а затем можете спокойно почить на лаврах. Общество примет вас!
Я от души рассмеялся: его слова забавляли меня.
– Я не предлагаю вам, – продолжал он, – беспокоиться, пытаясь избраться в парламент. Для карьеры джентльмена теперь в этом нет необходимости. Но я рекомендую вам выиграть дерби.
– Еще бы! Это восхитительная мысль, но не так легко исполнимая.
– Если вы хотите выиграть дерби, вы его выиграете. Я гарантирую и лошадь, и жокея!
Что-то в его решительном тоне поразило меня, и я наклонился вперед, чтоб внимательно рассмотреть его черты.
– Разве вы волшебник? – шутливо спросил я.
– Проверим! Итак, нужно ли достать вам лошадь?
– Если не поздно и вы этого хотите, – сказал я, – то я даю вам полную свободу, но я должен откровенно вам сказать, что мало интересуюсь скачками.
– Значит, вы должны изменить ваш вкус, – возразил он, – если хотите понравиться английской аристократии, потому что она мало чем другим интересуется. Нет ни одной знатной дамы, не имеющей тетрадки, куда она записывает ставки, пусть даже ее познания в правописании оставляют желать много лучшего. Вы можете стать настоящим литературным событием сезона, но в «высшем» обществе этого никто не заметит; если же вы выиграете дерби, вы сделаетесь подлинной знаменитостью. Собственно говоря, я имею много дел с ипподромом, я посвятил себя ему. Я присутствую на каждых крупных скачках, не пропуская ни одних. Я всегда играю и никогда не проигрываю! А теперь я продолжу рисовать план ваших общественных действий. Выиграв дерби, вы примете участие в гонке яхт в Каусе и позволите принцу Уэльскому чуть-чуть обогнать вас. Затем вы дадите большой обед, приготовленный великолепным шеф-поваром, и позабавите его королевское высочество песней «Правь, Британия!», что сочтут красивым комплиментом, после чего в изящных выражениях намекнете на эту самую песню; вероятным результатом всего этого будет одно или два приглашения от членов королевской семьи. Пока все отлично. В разгар летней жары вы отправитесь в Гамбург пить воды, все равно, нужно вам это вам или нет. А осенью устроите охоту в купленном замке и пригласите королевскую особу присоединиться к вам, чтобы убивать бедных маленьких куропаток. Тогда ваша известность будет признана обществом, и вы сможете жениться на какой угодно прекрасной леди!
– Благодарю! Премного обязан! – И я дал волю искреннему смеху. – Честное слово, Лючио, ваша программа превосходна! В ней ничего не упущено!
– Это ортодоксальный круг общественного успеха, – сказал Лючио с восхитительной серьезностью. – Ум и оригинальность не добьются его, только деньги совершают все.
– Вы забыли о моей книге, – заметил я, – в ней, я знаю, есть и ум, и также оригинальность. Я уверен, что она поднимет меня на значительную высоту.
– Сомневаюсь, очень сомневаюсь, – ответил он. – Она, конечно, будет принята благосклонно, как произведение богача, забавляющегося литературой из прихоти. Но, как я уже сказал, гений редко развивается под влиянием богатства. К тому же аристократы не могут выкинуть из своих одурманенных голов, что литература принадлежит Граб-стрит [3]3
Название лондонской улицы, где продавались дешевые издания и жили преимущественно бедные писатели. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Великих поэтов, великих философов, великих романистов представители «высшего» общества обычно неопределенно называют «людьми этого сорта». «Люди этого сорта так интересны», – снисходительно говорят олухи голубой крови, словно извиняясь за знакомство с некоторыми членами литературного класса. Вообразите себе чопорную леди времен Елизаветы, обращающуюся к приятельнице: «Ты разрешишь, дорогая, представить тебе некоего Уильяма Шекспира? Он пишет пьесы и что-то делает в театре “Глобус”, боюсь даже, что он немного актерствует; он очень нуждается, бедняга, но люди этого сорта так забавны!» Вы, мой дорогой Темпест, не Шекспир, но ваши миллионы дадут вам более шансов, чем он когда-либо имел в своей жизни, и так как вам незачем искать покровительства или выказывать почтение «моему лорду» или «моей леди», – эти высокие особы только обрадуются случаю занять у вас деньги, если вы готовы будете их одолжить.
– Я не собираюсь давать взаймы.
– А давать просто так?
– Тоже нет.
Его проницательные глаза блеснули одобрением, и он сказал:
– Я очень рад, что вы не намерены «творить добро» вашими деньгами, как говорят ханжи. Вы умны! Тратьте их на себя, потому что тем самым вы обязательно принесете пользу другим, пусть и иными способами. Я всегда принимаю участие в благотворительности и вношу свое имя в подписные листы и никогда не отказываю в помощи духовенству.
– Удивляюсь этому, – заметил я, – особенно после того, как вы сказали, что не являетесь христианином.
– Да, это действительно кажется странным, не правда ли? – сказал он особенным тоном, извиняющим скрытую насмешку. – Но, может быть, вам стоит взглянуть на это с другой стороны. Духовенство делает все возможное, чтобы разрушить религию – ханжеством, лицемерием, чувственностью и всевозможными обманами, – и когда они обращаются ко мне за помощью в таком благородном деле, я оказываю ее с легкостью.
Я засмеялся.
– Очевидно, вы шутите, – сказал я, бросая окурок сигары в огонь, – и я вижу, что вы любите осмеивать свои добрые дела… Что это?
В этот момент вошел Амиэль, неся мне телеграмму на серебряном подносе. Я открыл ее: она была от моего приятеля, редактора, и содержала следующее:
С удовольствием принимаю книгу. Высылайте рукопись немедленно.
Я с торжествующим видом показал телеграмму Риманцу. Он улыбнулся.
– Само собой разумеется! Чего же другого вы ожидали? Только этот человек должен был иначе написать свою телеграмму, так как я не могу предположить, чтобы он принял вашу книгу с удовольствием, если б не рассчитывал хорошо на ней нажиться. «С удовольствием принимаю деньги за издание книги» – так было бы вернее. Хорошо, что же вы намерены делать?
– Это я сейчас решу, – ответил я, чувствуя удовлетворение оттого, что наконец-то пришло время для отмщения некоторым моим врагам. – Книга должна быть напечатана как можно скорее, и я с особенным удовольствием лично займусь всеми относящимися к ней деталями. Что же касается остальных моих планов…
– Предоставьте их мне, – сказал Риманец, властно кладя безукоризненной формы руку на мое плечо, – предоставьте их мне! И будьте уверены, что очень скоро вы окажетесь наверху, как медведь, удачно достигнувший лепешки на вершине смазанного жиром столба, – к зависти людей и изумлению ангелов.
VII
Три или четыре недели пролетели вихрем, и к концу их я с трудом узнавал себя в праздном, беспечном, экстравагантном светском человеке, которым неожиданно сделался. Иногда, случайно, в уединенные минуты, прошлое с его неприглядными картинами возвращалось ко мне, как в калейдоскопе, и я видел себя – голодного, плохо одетого, склонившегося над бумагами в своей унылой квартире, несчастного, но среди всего этого несчастия, однако, получавшего отраду в мыслях, которые создавали красоту из нищеты и любовь из одиночества. Эта творческая способность теперь уснула во мне, я делал очень мало, а думал еще меньше. Но я чувствовал, что эта интеллектуальная апатия была только преходящей фазой – умственными каникулами и желанным отдыхом от интеллектуальной работы, на который я заслуженно имел право после всех страданий бедности и отчаяния. Моя книга печаталась, и, может быть, самым большим удовольствием из всех, которыми я теперь пользовался, была для меня вычитка первых листов, по мере того как они поступали мне на просмотр.
Между тем даже это авторское удовлетворение имело свой недостаток, и мое личное неудовольствие было каким-то странным. Я читал свою работу, конечно, с наслаждением, так как нисколько не отставал от своих собратьев, считая, будто все, что я делал, было хорошо, но мой снисходительный литературный эгоизм был смешан с неприятным удивлением и недоверием, потому что в моей книге, написанной с энтузиазмом, превозносились чувства и излагались теории, в которые я не верил. Как это случилось? – спрашивал я себя. Зачем же я предлагал публику составить обо мне ложное мнение?
Эта мысль ставила меня в тупик. Как я мог написать книгу, совершенно непохожую на меня, каким я теперь знал себя?
Мое перо, сознательно или бессознательно, написало то, что мой рассудок всецело отвергал, как, например, веру в Бога, веру в вечные возможности божественного прогресса человека. Я не верил ни в одну из этих доктрин. Когда мною владели такие идеи, я был бедняком, умирающим с голода, не имевшим друга в целом свете, и, вспоминая все это, я поспешно решил, что мое так называемое вдохновение было результатом работы не получавшего достаточного питания мозга. Но тем не менее было нечто утонченное в этой поучительной истории, и однажды днем, когда я занимался просмотром последних листов корректуры, я поймал себя на мысли, что книга была благороднее, чем ее автор. Эта идея причинила мне внезапную боль. Я бросил свои бумаги и стал смотреть в окно. Шел сильный дождь, и улицы были черны от грязи; промокшие пешеходы имели жалкий вид, вся перспектива казалась печальной, и тот факт, что я теперь был богатым человеком, не поборол уныния, незаметно закравшегося в меня. Я был совершенно один, так как теперь имел свой собственный номер из нескольких комнат в отеле, недалеко от тех, которые занимал князь Риманец. Я также имел своего слугу, порядочного человека, который мне нравился тем, что разделял мое инстинктивное отвращение к княжескому лакею Амиэлю. Кроме того, у меня были собственные лошади, экипаж, кучер и грум, так что мы с князем, будучи самыми задушевными приятелями, все же могли, избегая той «фамильярности», которая вызывает презрение, существовать по отдельности. В тот день я был в более отвратительном расположении духа, чем в дни моей бедности, хотя, по здравому размышлению, мне не о чем было горевать. Я обладал громадным состоянием, отличался прекрасным здоровьем и имел все, что хотел, сознавая, что, если бы мои желания увеличились, я легко мог удовлетворить их. Под руководством Лючио «колесо публичности» набрало такие обороты, что я мог увидеть свое имя почти в каждой провинциальной и лондонской газете, называвшей меня «знаменитым миллионером». И для пользы публики, к сожалению, несведущей в этих делах, я могу пояснить, и это истина без всяких прикрас, что за четыреста фунтов стерлингов [4]4
Факт. – Примеч. автора.
[Закрыть] хорошо известное «агентство» гарантирует помещение все равно какой, лишь бы не пасквильной, статьи не менее как в четырехстах газетах. Таким образом, секрет популярности легко объясним, и здравомыслящие люди в состоянии понять, почему имена некоторых авторов постоянно встречаются в печати, тогда как другие, быть может, более достойные, остаются неизвестными. Их заслуги в таких случаях ничего не значат – все решают деньги.
Настойчивое упоминание моего имени с описанием моей наружности и моих «удивительных литературных дарований», вместе с почтительными и довольно явными намеками на «миллионы», которые и делали меня таким интересным (статья была написана самим Лючио и передана в вышеупомянутое «агентство» вместе с кругленькой суммой), – все это, повторю, имело два следствия: во-первых, целую гору приглашений принять участие в общественных и артистических мероприятиях, а во-вторых – непрерывный поток просительных писем. Я был вынужден завести секретаря, который поселился в комнате рядом с моим номером и буквально весь день работал не покладая рук. Излишне говорить, что я отвечал отказом на все просьбы о деньгах: в дни моих бедствий мне не помог никто, кроме старого товарища Баффлза; никто, кроме него, не сказал мне даже доброго слова. И я решил теперь быть таким же жестоким и таким же беспощадным, какими были мои современники. Я со злорадством прочел письма двух-трех литераторов, просящих работы в качестве «секретаря или компаньона», или немного денег «взаймы», чтоб «преодолеть затруднения». Один из этих просителей был журналистом в хорошо известной газете, который обещал найти мне работу, но вместо этого, как я потом узнал, отговаривал редактора дать мне какое-нибудь занятие. Он и представить себе не мог, что Темпест-миллионер и Темпест – неудачливый писатель были одно и то же лицо, – так мало верит большинство, что богатство может выпасть на долю автора! Я ответил ему лично и сказал все то, что, как я считал, он должен был знать, прибавив саркастическую благодарность за его дружелюбную помощь в дни моей крайней нужды, – и, делая это, я вкушал наслаждение мести. Он никогда больше мне не писал, и я уверен, что мои слова дали ему пищу не только для удивления, но и для размышления. Между тем, несмотря на преимущества, какими я теперь пользовался, я не мог по совести сказать, что был счастлив. Я знал, что стал одним из людей, которым завидовали больше всего, а между тем… Когда я стоял и смотрел в окно на непрерывно идущий дождь, я чувствовал скорее горечь, чем сладость в полной чаше богатства. Многое, от чего я ожидал необыкновенного удовлетворения, оказалось бесцветным. Например, я наводнил прессу искусно составленной, броской рекламой своей книги, и когда я был беден, я представлял себе, как буду ликовать при этом, но даже она теперь меня почти не занимала: мне надоело видеть свое собственное имя в газетах. И хотя я с понятным интересом ожидал издания моего труда, сегодня и эта мысль потеряла свою привлекательность из-за нового и неприятного впечатления, что содержание книги было совершенно противоположно моим истинным мыслям. Улицы сделались темными от тумана и дождя, и, почувствовав отвращение к погоде и к самому себе, я отвернулся от окна и уселся в кресло у камина, мешая уголь, пока он не запылал, и придумывая способ, как бы избавить свой дух от мрака, который угрожал окутать его таким же густым покровом, как лондонский туман.
Кто-то постучал в дверь, и в ответ на мое несколько раздраженное «Войдите!» вошел Риманец.
– Что это значит, Темпест, почему у вас темно? – воскликнул он весело. – Отчего вы не зажжете свет?
– Огня довольно, – ответил я сердито, – во всяком случае, довольно, чтобы думать.
– А, вы думали? – спросил он смеясь. – Не делайте этого. Это дурная привычка. В наше время никто не думает. Люди не могут выдержать этого, их головы слишком слабы. Только начать думать – и основы общества рухнут; кроме того, думать – работа скучная.
– Я согласен с этим, – сказал я мрачно. – Лючио, со мной что-то неладно!
Его глаза засветились.
– Неладно? Что же может быть неладного с вами, Темпест? Разве вы не один из самых богатых людей?
Я пропустил насмешку.
– Послушайте, мой друг, – сказал я горячо, – вы знаете, что последние две недели я был очень занят, читая корректуру моей книги для печати.
Он, улыбаясь, кивнул головой.
– Я почти закончил работу и пришел к заключению, что в этой книге нет меня, она нисколько не отражает мои чувства, и я не могу понять, каким образом я написал ее.
– Может быть, вы находите ее пустой? – сочувственно спросил Лючио.
– Нет, – ответил я с оттенком негодования, – я не нахожу ее пустой.
– Тогда скучной?
– Нет, не скучной.
– Мелодраматичной?
– Нет, не мелодраматичной.
– Хорошо, мой друг, если она не пуста, не скучна и не мелодраматична, какая же она? – воскликнул он весело. – Она должна быть какой-нибудь!
– Да… и вот она что: она выше меня! – Я говорил с некоторой горечью: – Гораздо выше меня! Я бы не мог написать ее теперь, и я удивляюсь, как я мог написать ее тогда! Лючио, я говорю глупо, но, право, мне кажется, что мои мысли парили высоко, когда я писал книгу, на той высоте, с которой я упал с тех пор.
– Мне жаль это слышать! – Его глаза сверкнули. – Из ваших слов я заключаю, что вы виновны в литературной выспренности. Дурно, весьма дурно! Ничего не может быть хуже. Выспренно писать – самый тяжкий грех, которого критики никогда не прощают. Я досадую за вас! Я никогда б не подумал, что вы были настолько безнадежны.
Я рассмеялся, несмотря на свое уныние.
– Вы неисправимы, Лючио, – сказал я, – но ваше хорошее расположение духа действует ободряюще. Вот что я хотел объяснить вам: моя книга выражает мысли, которые, считаясь моими, совсем не мои. Одним словом, я, каким я стал теперь, нисколько им не симпатизирую. Должно быть, я сильно изменился с тех пор, как имел их.
– Изменились? Еще бы! – Лючио расхохотался. – Обладание пятью миллионами способно значительно изменить человека к лучшему или к худшему! Но вы, по-видимому, мучаетесь без причины. Ни один автор в продолжение многих веков не пишет от сердца; если же он действительно чувствует то, о чем пишет, то делается почти бессмертным. Эта планета слишком мала, чтобы иметь больше одного Гомера, одного Платона, одного Шекспира. Не терзайте себя, вы не один из этих трех! Вы принадлежите своему веку, Темпест, – декадентскому, эфемерному веку, и многое, что связано с ним, также декадентское и эфемерное. Эпоха, в которой господствует любовь к деньгам, имеет гнилую сердцевину и должна погибнуть. Вся история говорит нам об этом, но никто не принимает ее уроки всерьез. Обратите внимание на признаки времени. Искусство подчинено любви к деньгам; литература, политика и религия – также; вы не можете избежать общей болезни. Единственно, что остается делать, это извлечь из нее самую большую выгоду; никто не может излечить ее, и меньше всех вы, которому досталось так много презренного металла.
Он остановился, я молча следил за пылающим огнем и падающей красной золой.
– То, что я скажу сейчас, – продолжал он почти меланхолично, – покажется вам до смешного банальным, но в этом состоит истина во всей своей отвратительной прозаичности: чтобы писать с чувством, вы должны сами чувствовать. Очень вероятно, что, когда вы писали свою книгу, вы были подобны ежу в смысле чувства. Каждая из ваших острых игл поднималась и отвечала на прикосновение различных влияний: приятного или совершенно противоположного, воображаемого или действительного. Это такое положение, которому одни завидуют и от которого другие предпочли бы избавиться. Теперь, когда вам, как ежу, нет необходимости в самозащите или беспокойстве, ваши иглы успокоились в приятном бездействии и вы перестали чувствовать. Вот и все. Перемена, на которую вы жалуетесь, объясняется так: вам нечего чувствовать, потому-то вы и не можете понять, как могло быть, что вы чувствовали.
Его спокойный убедительный тон раздосадовал меня.
– Не считаете ли вы меня за бездушную тварь? – воскликнул я. – Вы ошибаетесь во мне, Лючио: я чувствую, и чувствую живейшим образом…
– Что вы чувствуете? – спросил он, пронизывая меня взглядом. – В этой столице сотни несчастных, умирающих от голода мужчин и женщин, помышляющих о самоубийстве, потому что у них нет надежды на что-нибудь лучшее ни в этом, ни в будущем мире и им не от кого ждать сочувствия… Переживаете ли вы за них? Тревожат ли вас их горести? Вы знаете, что нет, вы никогда о них не думаете… зачем? Одно из главных преимуществ богатства – то, что оно способно скрыть от нас чужие несчастия.
Я ничего не сказал; в первый раз его правдивые слова рассердили меня, главным образом потому, что они были правдивы.
– Увы, Лючио! Если б я только знал тогда то, что знаю теперь!
– Вчера, – продолжал он тем же спокойным тоном, – как раз против этого отеля переехали ребенка. Это был всего лишь бедный ребенок. Заметьте, всего лишь. Его мать с воплем прибежала из какого-то бедного переулка и увидела его маленькое тельце уже все в крови, представляющее бесформенную массу. Она отчаянно отбивалась от людей, пытавшихся увести ее, и с криком, похожим на крик раненого дикого зверя, упала замертво лицом в грязь. Она была всего лишь бедной женщиной – опять-таки «всего лишь». В газетах об этом напечатали три строчки под заглавием «Печальный случай». Здешний швейцар смотрел на всю сцену так же спокойно, как фат на драматическое представление, сохраняя невозмутимую величавость осанки, но не прошло десяти минут после того, как труп женщины был убран, он, важное, надутое существо, сгорбился в подобострастии, спеша открыть дверь вашего экипажа, мой милый Темпест, когда вы остановились у подъезда. Это – маленькое наблюдение из жизни в наши дни, а между тем духовенство клянется, что мы все равны перед Богом. Я не желаю морализировать, я только хотел вам рассказать «печальный случай», как он произошел, – и я уверен, что вы нисколько не жалеете ни ребенка, которого переехали, ни его мать, которая внезапно умерла от разрыва сердца. Не говорите мне, что вы жалеете их, так как я знаю, что нет!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































