Текст книги "Скорбь Сатаны. Вендетта, или История всеми забытого"
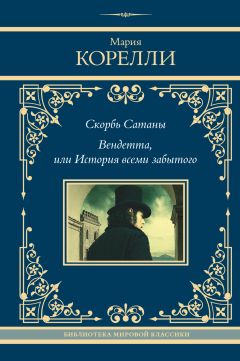
Автор книги: Мария Корелли
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
– Здесь нет дам-репортеров, – сказал я со смехом, обвивая рукой ее гибкую талию, когда мы шли назад.
– О, ты только думаешь, что их нет! – воскликнула она, тоже смеясь. – Не воображаешь ли ты, что какое-нибудь крупное развлекательное мероприятие может обойтись без них? Они уже проникли в общество. Например, старая леди Мараваль, которая стеснена в средствах и за гинею еженедельно описывает какой-нибудь скандал для одной из газет. А она здесь, я видела, как час назад она поедала трюфели и салат из цыплят.
Она замолчала и, опираясь на мою руку, внимательно посмотрела сквозь деревья.
– Вон трубы коттеджа «Лилии», где живет знаменитая Мэвис Клер, – сказала она.
– Да, я знаю, – тотчас ответил я. – Мы с Риманцем были у нее с визитом. Сейчас она отсутствует, иначе сегодня была бы здесь.
– Тебе она понравилась? – спросила Сибилла.
– Очень. Она очаровательна.
– А… князю… понравилась?
– Если честно, – ответил я с улыбкой, – мне кажется, она ему нравится больше всех остальных женщин. Он выказал ей необыкновенное внимание и положительно чувствовал себя смущенным в ее присутствии. Тебе холодно, Сибилла? – быстро добавил я, так как она вздрогнула и побледнела. – Лучше будет, если мы уйдем от реки: здесь сыро, под этими деревьями.
– Да, вернемся в сад, на солнечный свет, – задумчиво произнесла она. – Так, значит, твой эксцентричный друг, ненавистник женщин, находит в Мэвис Клер нечто, достойное восхищения. Она, должно быть, счастливый человек: совершенно свободна, знаменита и верит во все светлое, что есть в жизни и людях, как можно судить по ее книгам.
– Что ж, если посмотреть со всех сторон, жизнь не так уж плоха! – заметил я шутливо.
Сибилла ничего не ответила, и мы возвратились на лужайку, где уже подали чай гостям, нарядными группами рассевшимся под деревьями или в шелковых павильонах. И все это время музыка, вокальная и инструментальная, самая сладостная и вместе с тем в высшей степени странная, – если только человеческое ухо способно было это услышать, – звучала, исполняемая невидимыми музыкантами и певцами, таинственное местопребывание которых было не известно никому, кроме Лючио.
XXIV
Как только солнце стало садиться, из дома вышли несколько пажей и с низкими поклонами раздали гостям красочные, с изящным тиснением программки «Живых картин», устроенных для их развлечения в импровизированном театре. Большинство тотчас же поднялось с мест, заинтересовавшись новым зрелищем, и стало проталкиваться вперед, отпихивая друг друга локтями с той истинной «благовоспитанностью», которая так часто встречается в гостиных Ее Величества.
Мы с Сибиллой опередили нетерпеливую толпу, поскольку я желал занять для моей прелестной невесты удобное место, прежде чем зал будет переполнен. Между тем в нем было довольно места для всех, и его пространство казалось бесконечным, так что зрители смогли безо всяких затруднений удобно разместиться.
Вскоре все мы с интересом занялись изучением программок, потому что названия живых картин были оригинальными и интригующими. Всего их было восемь: «Общество», «Доблесть прежняя и современная», «Потерянный ангел», «Деспот», «Уголок ада», «Семена разврата», «Его последнее приобретение» и «Вера и материализм».
Только сидя в театре, каждый наконец заметил чарующее свойство музыки, которая в течение целого дня лилась вокруг. Сидя под одной крышей в более или менее вынужденном внимании и безмолвии, суетная и легкомысленная толпа утихла и примолкла; «светская усмешка» сползла с лиц, привыкших постоянно улыбаться так же, как их языки привыкли постоянно лгать; не было слышно отвратительного хихиканья незамужних охотниц за кавалерами, и вскоре даже самые отъявленные модницы перестали шелестеть платьями. Страстные вибрации виолончели под аккомпанемент арфы звучали в тишине глубокими молящими нотами, и я видел, что публика слушала, почти затаив дыхание, в невольном оцепенении, и как загипнотизированная смотрела на золотой занавес с надписью:
Весь мир – театр,
А люди – все актеры.
Не успели раздасться аплодисменты исполненному на виолончели соло, как музыка изменилась и послышались веселые звуки скрипок и флейт, образующие волшебный мотив головокружительного вальса. В этот самый момент звякнул серебряный колокольчик, и занавес бесшумно раздвинулся, открыв первую картину – «Общество». Перед нами оказалась элегантная женская фигура в роскошном, экстравагантном вечернем платье. Ее прическа была увенчана бриллиантами, такие же камни сверкали на ее груди. Голова ее была высоко поднята, а на губах играла томная улыбка. В одной руке она держала бокал пенящегося шампанского; ногой, обутой в золотой башмачок, она наступала на песочные часы. А позади нее, судорожно вцепившись в складки шлейфа ее платья, сидела на корточках другая женщина – в лохмотьях, несчастная и жалкая, с осунувшимся от голода лицом. Рядом с ней лежал мертвый ребенок. И, затмевая эту группу, за ней возвышались два сверхъестественных образа – один в красном, другой в черном, громадные, выше человеческого роста. Красная фигура представляла Анархию, и ее кроваво-красные пальцы были протянуты, чтобы схватить бриллиантовую корону с головы «Общества»; фигура в соболях была Смертью, и в то время, как мы смотрели, она медленно поднимала стальной клинок, словно бы для удара. Эффект был фантастический, и мрачный смысл, передаваемый картиной, был достаточно ошеломляющим, чтобы произвести видимое впечатление. Никто не говорил, никто не аплодировал – публика беспокойно двигалась и ерзала на стульях, а когда занавес упал, раздался вздох облегчения.
Раздвинувшись опять, занавес открыл вторую картину: «Доблесть прежняя и современная». Она состояла из двух сцен: первая изображала дворянина времен Елизаветы; он стоял с опущенной шпагой, попирая одной ногой распростертое тело злодея, очевидно оскорбившего женщину, легкая фигура которой виднелась робко удаляющейся от места поединка. Это была «Прежняя доблесть», и она быстро сменилась «Современной», показывающей нервного, узкоплечего, бледного денди в пальто и шляпе, курящего папиросу и обращающегося к огромному полисмену за защитой от другого молодого олуха его круга, так же одетого и показанного в страхе скрывающимся за углом. Все оценили силу этого сравнения, и показанная в картине сатира привела нас в гораздо лучшее настроение, чем мораль «Общества». Далее следовал «Потерянный ангел». Перед нами открылась большая зала королевского дворца, где множество роскошно одетых людей сидели и стояли группами, по-видимому, настолько погруженные в свои заботы, что не обращали никакого внимания на стоящего среди них удивительного ангела в ослепительно-белом одеянии, с сиянием вокруг белокурой головки и с полуопущенными крыльями, как бы озаренными заходящим солнцем. Глаза его были печальны, лицо задумчиво; казалось, он говорил: «Узнает ли когда-нибудь мир, что я здесь?» Почему-то, когда занавес опустился под громкие аплодисменты, так как картина была необыкновенно красива, я подумал о Мэвис Клер и вздохнул. Сибилла взглянула на меня.
– Отчего ты вздыхаешь? – сказала она. – Это всего лишь красивая фантазия; в наше время ни один образованный человек не верит в ангелов.
– Это правда, – подтвердил я.
Тем не менее какая-то тяжесть легла мне на сердце, поскольку ее слова напоминали мне то, о чем я предпочел бы забыть, – а именно что у нее самой не было веры.
Следующая картина называлась «Деспот» и представляла сидящего на троне императора. У его ног преклонила колени жалкая толпа голодных и угнетенных, протягивающих к нему худые руки с мучительной мольбой, но он смотрел в сторону, как бы не замечая их. Повернув голову, он прислушивался к шепоту того, кто, судя по учтивому поклону и льстивой улыбке, был его советником и доверенным лицом; однако этот человек прятал за спиной кинжал, готовый поразить своего господина. «Россия!» – раздалась пара приглушенных голосов, когда занавес закрылся. Однако впечатление от этой картины быстро сменилось изумлением и страхом при виде «Уголка ада». Эта картина была в высшей степени оригинальной и представляла собой совершенно иную, отличную от традиционной трактовку данного сюжета. Нашим глазам открылась глубокая черная пещера, освещаемая попеременно то блеском льда, то огнем; громадные ледяные сосульки спускались сверху, и бледное пламя украдкой вырывалось снизу, а во мраке виднелась темная фигура человека, который сидел и считал золото или то, что казалось золотом. И каждая монета, выскользнув из его бледных пальцев, превращалась в огонь, и смысл этой картины легко было понять. Погибшая душа сама обрекла себя на муки и продолжала эту работу, усугубляя собственную агонию. Восторг, который вызвала эта сцена, во многом имел причиной рембрандтовский эффект света и тени, но лично я был доволен, когда занавес скрыл ее из вида; что-то в ужасном лице осужденного грешника неприятно напомнило мне тех трех призраков, которые привиделись мне в ночь самоубийства виконта Линтона.
Следующая картина, «Семена разврата», показала нам молодую красивую девушку, лежащую в дезабилье на роскошной кушетке с романом в руках. Заглавие романа было отчетливо видно: этот роман был хорошо известен всем присутствующим, а его автор был весьма популярен и всеми восхваляем. Вокруг девушки, на полу и на стульях, небрежно брошенные, лежали другие романы того же «эротического» типа; все их заглавия были повернуты к нам, и имена всех авторов виднелись на обложках.
– Какая смелая идея! – сказала сидевшая позади меня дама. – Желала бы я знать, как бы к ней отнеслись эти авторы, если бы они были здесь.
– Они бы не обратили никакого внимания! – ответил ее сосед, подавив смешок. – Писатели такого сорта восприняли бы это лишь как первоклассную рекламу.
Сибилла смотрела на картину с побледневшим лицом и серьезными глазами.
– Это правдивая картина! – прошептала она. – Джеффри, она мучительно правдива!
Я ничего не ответил; я знал, на что она намекала, но, увы, я не знал, как глубоко «семена разврата» укоренились в ее собственной душе и какие плоды они со временем принесут. Занавес закрылся, но почти тотчас снова раздвинулся, чтобы открыть нам «Его последнее приобретение».
Нашим взорам предстала роскошная современная гостиная, где находились человек десять мужчин в модных фраках. Они, по-видимому, только что встали из-за игорного стола, и один из них, на вид грубый гуляка, со зловещей ухмылкой, в которой соединялись триумф и насмешка, указывал на свое «приобретение» – прекрасную женщину. Она была одета как невеста, в блестящее белое платье, но привязана, как бывают привязаны пленники, к высокой колонне, с которой на нее с усмешкой взирала мраморная голова Силена. Руки женщины были связаны бриллиантовыми цепями, ее талия была обвита толстой веревкой из жемчугов; широкий ошейник из рубинов охватывал ее горло, и с головы до ног она была окутана и связана нитями из золота и драгоценных камней. Ее голова была вызывающе откинута назад с гордым и презрительным видом, и только глаза ее выражали отчаяние и стыд за свое положение пленницы.
Человек, ставший хозяином этой белой рабыни, судя по его позе, перечислял и оценивал ее «достоинства» под одобрительные возгласы и аплодисменты своих товарищей, чьи лица выражали различные чувства – сладострастие, жестокость, зависть, равнодушие, презрение и самолюбие – так живо и так разнообразно, как не смог бы изобразить ни один самый одаренный художник.
– Прекрасный образец современного брака! – заметил кто-то.
– Скорее, – ответил другой голос, – «счастливая пара» в действительности!
Я посмотрел на Сибиллу. Она была бледна, но улыбнулась, встретив мой вопросительный взгляд. Облегчение обдало теплой волной мое сердце, когда я вспомнил, что теперь, как она сама сказала мне, она «научилась любить», а потому ее брак со мной больше не был следствием лишь материального расчета. Она не была моим «приобретением», она была моей любовью, моей святыней, моей королевой – или так мне хотелось думать в моем безумии и тщеславии.
Последняя картина называлась «Вера и материализм» и была самой потрясающей из всех. Зал постепенно погрузился во мрак, и раздвинувшийся занавес открыл изумительной красоты сцену на морском берегу. Полная луна бросала мягкий свет на зеркальные воды, и, поднимаясь на радужных крыльях от земли к небесам, одно из прелестнейших созданий, о которых разве только могут мечтать поэты и художники, подобно ангелу, возносилось вверх; в сложенных на груди руках она держала букет лилий, ее лучистые глаза были полны божественной радости, надежды и любви.
Слышалась чарующая музыка, хор нежных голосов где-то вдали пел о блаженстве, небо и земля, море и воздух – все, казалось, поддерживало Духа, уносящегося все выше и выше, и все мы следили за этим устремленным ввысь образом с ощущением восторга и удовлетворения; как вдруг раздался громовой удар, сцена потемнела и послышался отдаленный рев рассвирепевших волн. Лунный свет померк, музыка оборвалась. Блеснул красный огонек, сначала слабо, потом более явственно, и показался «Материализм» – человеческий скелет, белевший в темноте и весело скаливший зубы на нас всех! И вдруг на наших глазах скелет рассыпался в куски, и длинный извивающийся червь выполз из обломков костей, а другой показался из глазных впадин черепа. В зале послышался шепот неподдельного ужаса, публика встала с мест; один известный профессор, проталкиваясь мимо меня, сердито проворчал: «Это, может быть, очень забавно для вас, но, по-моему, это отвратительно!»
– Как и ваши теории, мой дорогой профессор! – прозвучал звучный веселый голос подошедшего к нему Лючио, и театр снова залил яркий свет. – Одним они кажутся забавными, а другим – отвратительными. Простите, я, конечно, шучу, но я поставил эту картину специально для вас.
– О, в самом деле? – прорычал профессор. – Что же, я не оценил ее.
– Однако вы должны это сделать, поскольку в научном отношении она совершенно правильна, – заявил, все еще смеясь, Лючио. – Вера с крыльями, которую вы видели радостно летящей к несуществующему небу, конечно, не имеет научного подтверждения. Разве не вы нам это говорили? Однако скелет и черви полностью соответствуют вашему «культу». Ни один материалист не может отрицать научности того состояния, к которому мы все придем в конце концов. Однако некоторые дамы положительно побледнели! Как забавно, что все, чтобы называться светскими и пользоваться благосклонностью прессы, принимают материализм как единственную веру и одновременно боятся естественного конца жизни.
– Нельзя сказать, чтобы эта последняя картина была веселой, – сказал лорд Элтон, выходя из театра с Дайаной Чесни, доверчиво повисшей на его руке, – далеко не праздничная!
– Праздничная для червей! – ответил, смеясь, Лючио. – Пожалуйте, мисс Чесни, и вы, Темпест, с леди Сибиллой, пойдемте опять в сад смотреть на мои блуждающие огни.
Новое любопытство было возбуждено этим замечанием; публика быстро освободилась от трагического впечатления, вызванного странными «картинами», и повалила из дома в сад, болтая и смеясь громче, чем обычно. Были уже сумерки, и, выйдя на открытую лужайку, мы увидели огромное множество маленьких мальчиков в коричневых костюмчиках, снующих повсюду с фонарями. Их движения были быстрыми и совершенно бесшумными; они прыгали, скакали и кружились, как гномы, на клумбах, под кустами и вдоль дорожек и террас; многие из них карабкались на деревья с проворством и ловкостью обезьян, и везде они оставляли позади себя хвост блестящего света. Вскоре их стараниями весь сад был украшен огнями с таким великолепием, с каким не могли бы сравниться даже исторические праздники в Версале; высокие дубы и вязы превратились в пирамиды огненных цветов, с каждой ветки свисали лампы в форме звезд; ракеты со свистом взвивались к небу, откуда дождем падали светящиеся букеты, гирлянды и ленты. По траве бежали красные и голубые блестящие полосы, и под восторженное рукоплескание зрителей в разных углах сада забили восемь огромных огненных фонтанов всевозможных цветов, и громадного размера золотой, ослепительно блестящий воздушный шар медленно поднялся в воздух и остался висеть над нами, в то время как из его гондолы вылетали сотни птиц, подобных драгоценным камням, и бабочек с огненными крылышками, которые кружили вокруг нее некоторое время и потом исчезали.
Мы все еще громко аплодировали этому восхитительному зрелищу, когда вдруг появилась группа прелестных танцовщиц в белом, которые помахивали длинными серебряными жезлами, увенчанными электрическими звездами, и под звуки странной звенящей музыки, по-видимому, исполняемой вдали на стеклянных колокольчиках, начали фантастический танец невероятного, однако самого грациозного характера. Разноцветные тени падали на их гибкие фигуры, когда они скользили и кружились в танце, и каждый раз, когда они взмахивали своими жезлами, огненные флаги и ленты взвивались высоко в воздух, где некоторое время развертывались в виде спиралей, словно движущиеся иероглифы.
Зрелище было таким потрясающим, таким волшебным и удивительным, что от изумления мы не могли сказать ни слова. Слишком очарованные и поглощенные своими впечатлениями, даже чтобы аплодировать, мы не заметили, как летело время и как спустилась ночь, пока вдруг, без малейшего предупреждения, над нашими головами не разразился оглушительный гром и огненный зигзаг молнии не разорвал в клочки светящийся воздушный шар. Две или три женщины закричали, а Лючио тем временем выдвинулся из толпы зрителей и остановился на виду у всех, подняв руку.
– Это сценический гром, уверяю вас, – сказал он шутливо своим ясным и звучным голосом. – Он гремит и смолкает по моему приказанию. Всего лишь забава, поверьте мне. Подобные вещи – это детские игрушки. Ну что опять, вы, незначительные элементы! – крикнул он, смеясь и поднимая свое красивое лицо с искрящимися глазами к темным небесам. – Гремите как можно громче, изо всех сил! Гремите, я приказываю!
Ответом ему был такой гул и грохот, который невозможно описать словами, – словно огромная скала раскололась на куски, однако, поверив, что оглушающие звуки были всего лишь «сценическим громом», публика более не испытывала беспокойства, и многие из гостей выразили мнение, что это было «удивительно хорошо сделано». Вслед за этим на небе постепенно проступило широкое красное зарево, словно отражение грандиозного огня в прерии. Оно поднималось непосредственно от земли, заливая всех нас, стоящих там, кроваво-красным светом. Танцовщицы в белых платьях продолжали кружиться в танце, сплетя руки, и зловещее зарево освещало их прекрасные лица, а над ними теперь летали существа с черными крыльями – летучие мыши, совы и огромные ночные бабочки, и их крылья хлопали и трепетали так натурально, словно они действительно были живыми, а не всего лишь «бутафорией». Последовала еще одна вспышка молнии, за ней еще один раскат грома – и все стихло, и вокруг нас снова была тихая, напоенная ароматами ночь, безмятежная и свежая от выпавшей росы. Молодой месяц меланхолично улыбался с безоблачного неба, танцовщицы исчезли, багровое зарево сменилось чистым серебристым свечением, и красивые пажи в костюмах восемнадцатого века, сочетавших в себе бледно-розовый и бледно-голубой цвета, выстроились перед нами двумя рядами с зажженными факелами в руках, образуя нечто вроде длинной триумфальной аллеи, по которой Лючио предложил нам проследовать.
– Вперед, вперед, прекрасные леди и галантные джентльмены! – воскликнул он. – Этот импровизированный путь света ведет – нет-нет, не на Небо, это было бы слишком скучно! – к ужину. Вперед же, за своим предводителем!
Все глаза были устремлены на его статную фигуру и прекрасное лицо, а он, стоя между двумя рядами горящих факелов и жестикулируя одной рукой, приглашая гостей, являл собой зрелище, достойное кисти художника, – со своими темными глазами, блестевшими такой странной веселостью, что ей невозможно было подобрать определение, и с приветливой улыбкой на губах, в которой чудилась некоторая жестокость, но которая тем не менее была удивительно привлекательной. И вся компания единодушно последовала за ним с возгласами восторга и одобрения. Разве кто-то мог устоять перед ним? Никто, по крайней мере из числа присутствовавших: среди гостей было немного «святых».
Идя вместе с остальными, я ощущал себя словно в каком-то волшебном сне; все мои чувства пришли в смятение, голова кружилась от возбуждения, и я не мог ни думать, ни анализировать свое душевное состояние. Если б у меня хватило силы и желания остановиться и поразмыслить, возможно, я мог бы прийти к заключению, что в чудесах этого блестящего празднества обнаруживалось нечто, выходящее за границы человеческих возможностей, но я, как и все остальные, отдавался минутному удовольствию, не заботясь, как оно было достигнуто, во сколько оно мне обошлось или какое впечатление произвело на других. Теперь я знаю многих жертв моды и тщеславия, поступающих точно так же, как я поступал тогда. Равнодушные к чьему-либо еще благосостоянию помимо собственного, жалеющие каждое пенни, если оно не тратилось на их личные удовольствия, и слишком жестокосердные, чтобы даже слушать о горестях, затруднениях или радостях других людей, если они хоть каким-то образом, близко или отдаленно, не затрагивают их собственных интересов, они проводят все свое время, день за днем, в эгоистических забавах, сознательно закрывая глаза на тот факт, что сами приготовляют свою судьбу в будущем – в том будущем, реальность которого будет тем ужаснее, чем упорнее мы пытаемся отрицать ее достоверность.
Больше четырехсот гостей уселись ужинать в громадном павильоне. Ужин был сервирован самым роскошным образом, а обстановка производила впечатление высшей степени экстравагантности. Я ел и пил, сидя подле Сибиллы, едва сознавая в головокружительном возбуждении, что говорил и что делал. Хлопки откупориваемых бутылок шампанского, звон стаканов и стук тарелок, громкий гул голосов перемешивался со смехом, напоминающим крики обезьян или ржание лошадей, иногда перекрываемым духовой музыкой и барабанами, и от всех этих звуков в моих ушах стоял шум, как от катящихся волн, делая меня рассеянным и смущенным.
Я не слишком много говорил Сибилле: трудно нашептывать сентиментальный вздор в уши своей невесте, когда она кушает ортоланы и трюфели.
Вскоре колокол громко пробил двенадцать раз, и Лючио встал во главе одного из длинных столов с полным бокалом пенящегося шампанского в руке.
– Леди и джентльмены!
Наступила тишина.
– Леди и джентльмены! – повторил он, и его глаза, как мне почудилось, блеснули насмешкой, когда он обвел взглядом сытую толпу. – Пробило полночь, и лучшие друзья должны расстаться. Но прежде, чем мы это сделаем, вспомним, что мы собрались здесь для того, чтобы пожелать счастья нашему хозяину мистеру Джеффри Темпесту и его нареченной невесте, леди Сибилле Элтон.
Тут раздались оглушительные аплодисменты.
– Составителями скучных правил сказано, – продолжал Лючио, – что «счастье никогда не приходит с полными руками», но в данном случае это изречение ложно – потому что наш друг обладает не только богатством, но также сокровищем любви и красоты. Беспредельная наличность хороша, но беспредельная любовь еще лучше, и оба эти дара ниспосланы нареченной паре, которую мы сегодня чествуем. Я хочу попросить вас поздравить их от чистого сердца, и затем мы скажем друг другу «до свидания», а не «прощайте», так как с тостом за жениха и невесту я выпью также за время – может быть, недалекое, – когда снова увижу если не всех, то многих из вас, и буду наслаждаться вашим очаровательным обществом даже больше, чем сегодня!
Он замолк среди бури аплодисментов, а потом все поднялись и повернулись к столу, где сидели мы с Сибиллой, и, громко провозгласив наши имена, стали пить вино, а мужчины при этом кричали: «Гип-гип ура!» Между тем, когда я кланялся в ответ на шумные поздравления, а Сибилла наклоняла, улыбаясь, свою грациозную головку направо и налево, мое сердце вдруг упало от ощущения страха. Показалось ли мне или я на самом деле слышал дикий хохот вокруг роскошного павильона, отзывающийся где-то в отдалении? Я прислушался с бокалом в руке.
– Гип-гип ура! – бушевали гости.
– Ха-ха! Ха-ха! – казалось, кричали и вопили снаружи.
Борясь с этой иллюзией, я встал и от себя и Сибиллы поблагодарил гостей в коротких словах, которые были встречены новым взрывом аплодисментов, а затем мы увидели, что Лючио вскочил с места и встал выше всех нас, одной ногой на стол, другой на стул, с бокалом вина в руке, наполненным до краев. Что за лицо у него было в этот момент! Что за улыбка!
– Прощальный кубок, друзья! – воскликнул он. – За нашу следующую встречу!
Гости со смехом шумно ему отвечали, и, пока они пили, павильон осветился красным светом, как огнем. Все лица казались кроваво-красными. Все бриллианты на женщинах горели живым пламенем. Это длилось только один момент, затем все исчезло и воцарилась обычная для больших компаний суматоха: все спешили к экипажам, длинной вереницей ожидавшим гостей, чтобы отвезти на станцию; последние два «специальных» поезда отходили в час и в час тридцать.
Я торопливо простился с Сибиллой и ее отцом; Дайана Чесни ехала с ними в одной коляске, полная восторженной благодарности ко мне за все великолепия этого дня, которые она описала в свойственной ей манере как «знание толка в подобных вещах», затем экипажи начали быстро разъезжаться.
Вдруг светящаяся арка перекинулась от одного конца крыши Уиллоусмирского замка до другого, блистая всеми цветами радуги, в середине которой показались бледно-голубые с золотом буквы, образуя то, что я до сих пор считал погребальным девизом: «Sic transit gloria mundi! Vale!» [16]16
Так проходит слава мирская! Будь здоров! (лат.)
[Закрыть] Но, в конце концов, он был столь же применим к эфемерному великолепию праздника, сколь и к более основательной мраморной торжественности склепа, – и я не обратил на него особого внимания. Так совершенны были все распоряжения, так хорошо знали свое дело слуги, что гости уехали очень быстро, и вскоре сад был не только пустым, но и темным. Нигде не осталось ни следа великолепной иллюминации, и я вошел в дом усталый, с тяжелым чувством смущения и страха, которого не мог себе объяснить. Я нашел Лючио одного в курительной комнате в дальнем конце отделанного дубовыми панелями коридора. Это было небольшое, уютно занавешенное помещение с глубоким эркером, выходящим прямо на луг. Он стоял в этом проеме спиной ко мне, но быстро повернулся, услышав мои шаги, и я увидел такое безумное, белое, перекошенное от боли лицо, что, ошеломленный, отступил.
– Лючио, вы больны! – воскликнул я. – Вы слишком много трудились сегодня!
– Может быть! – ответил он хрипло, нетвердым голосом, и сильная дрожь пробежала по его телу; затем, собравшись с силами, он принудил себя улыбнуться. – Не тревожьтесь, мой друг! Это ничего: только приступ старой укоренившейся болезни, досадной болезни, которая редко встречается у людей и, к сожалению, неизлечима.
– Что же это такое? – спросил я тоскливо, так как его мертвенная бледность обеспокоила меня.
Он пристально посмотрел на меня; его глаза расширились и потемнели, а его рука тяжело упала на мое плечо.
– Очень странная болезнь! – сказал он тем же дрожащим голосом. – Угрызения совести! Вы об этом никогда не слыхали, Джеффри? Здесь не поможет ни медицина, ни хирургия, – это «червь, что не умирает, и пламя, что не угасает». Но не будем об этом говорить: никто не вылечит меня, никто этого не хочет! Я безнадежен!
– Но угрызения совести, если они у вас есть, хотя я не могу себе представить почему, так как вам, наверно, не о чем сожалеть, – не есть физический недуг! – сказал я с удивлением.
– А вы думаете, что только о физических недугах стоит тревожиться? – спросил он, продолжая улыбаться той же дикой улыбкой. – Тело – наша главная забота; мы холим его, кормим его, лелеем его и охраняем его от самой ничтожной боли, если можем, и таким образом мы уверяем себя, что все хорошо, все должно быть хорошо! Между тем оно не более чем прах, чем куколка, обязанная рассыпаться и быть уничтоженной с возрастанием в ней души бабочки – бабочки, которая летит, повинуясь слепому инстинкту, прямо в неизвестное, прельщаемая слишком ярким светом! Взгляните сюда, – продолжал он более мягким тоном. – Взгляните на ваш задумчивый, тенистый сад. Цветы заснули, деревья, наверно, рады избавиться от искусственных фонариков, висевших недавно на их ветвях; там молодая луна уткнулась подбородком в маленькое облачко, как в подушку, и опускается на запад, чтобы поспать; минуту назад поздний соловей еще бодрствовал и пел. Вы можете еще ощутить дыхание роз от его трелей! И все это работа Природы, и насколько все здесь теперь прекраснее и милее, чем когда горели огни и грохот музыки пугал маленьких птичек в их мягких гнездышках! Однако «общество» не оценило бы этой прохладной темноты, этого счастливого безмолвия: «общество» предпочитает фальшивый блеск настоящему свету. И хуже всего, что оно старается отставить настоящие предметы на задний план, как второстепенные, – в этом-то и кроется причина зла.
– Точно так же, как вы преуменьшаете роль вашего неутомимого усердия в необычайном успехе сегодняшнего дня, – ответил я, смеясь. – Вы можете называть это «фальшивым блеском», если хотите, но это было великолепное зрелище, какое, безусловно, останется несравненным и единственным в своем роде.
– И принесет вам больше известности, чем могла бы дать ваша рекламированная книга, – сказал он, внимательно глядя на меня.
– В этом нет ни малейшего сомнения, – ответил я, – общество предпочитает еду и увеселение всякой литературе, даже самой великой. Кстати, где все артисты, музыканты и танцовщицы?
– Уехали!
– Уехали! – повторил я удивленно. – Уже! Бог мой! Ужинали они?
– Они получили все, что нужно, – произнес Лючио несколько нетерпеливо. – Разве я не говорил вам, Джеффри, что если берусь за что-нибудь, то делаю это основательно или не делаю вообще?
Я взглянул на него; он улыбался, но глаза его смотрели мрачно и презрительно.
– Отлично! – промолвил я беспечно, не желая обижать его. – Пусть будет по-вашему. Но даю честное слово, мне все это показалось дьявольской магией!
– Что именно? – спросил он невозмутимо.
– Все! Танцовщицы, слуги и пажи, ведь их было двести или триста; эти удивительные живые картины, иллюминация, ужин – все, говорю вам! И самое поразительное то, что весь этот народ так скоро убрался!
– Хорошо. Если вы предпочитаете называть деньги дьявольской магией, то вы правы, – сказал Лючио.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































