Текст книги "Скорбь Сатаны. Вендетта, или История всеми забытого"
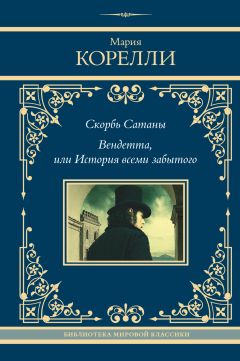
Автор книги: Мария Корелли
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
– Как ты свиреп сегодня, Джеффри! – сказала она.
Я смотрел на нее в угрюмом молчании. От легкой шляпы с бледно-лиловыми орхидеями, оттенявшими ее каштановые волосы, до кончика изящно вышитой туфельки ее туалет был безукоризнен, и она сама была безукоризненна – я знал это, – бесподобный образец женственности… наружной!
Мое сердце билось, я задыхался, я готов был убить ее за омерзение и желание, которые она вызывала во мне.
– Прости, – произнес я хрипло, избегая ее взгляда, – но я не могу видеть тебя с подобной книгой.
– Тебе известно ее содержание? – спросила она с той же легкой улыбкой.
– Я могу догадаться.
– Говорят, что сегодня подобные вещи нужно писать, – продолжала она. – И, судя по похвалам, расточаемым прессой таким книгам, общественное мнение вполне допускает, чтобы девушки имели возможность узнать о браке все еще до того, как вступят в него, и смогли это делать с открытыми глазами – широко открытыми глазами.
Она засмеялась, и ее смех причинил мне почти физическую боль.
– Какими старомодными теперь кажутся представления о невесте поэтов и романистов шестидесятилетней давности! Только представьте себе ее – нежное существо с робкими манерами, застенчивой речью, в вуали, которая в прежние времена полностью закрывала лицо, как символ того, что все тайны брака скрыты от невинных глаз девственницы! Теперь вуаль носят откинутой назад и невеста, не смущаясь, смотрит на всех – о да, мы теперь хорошо знаем, что делаем, когда выходим замуж, благодаря «новой» литературе.
– Новые романы отвратительны, – горячо возразил я, – как в смысле стиля, так и в смысле нравственности! Не представляю, как ты можешь читать их. Женщина, грязную книгу которой я только что выбросил – и не испытываю из-за этого ни малейшего сожаления, – не имеет представления не только о приличиях, но и о грамматике.
– Но критики этого не заметили, – прервала она меня с насмешкой, прозвучавшей в ее голосе. – По-видимому, это не их дело – содействовать сохранению правильного английского языка. Они приходят в восхищение только от оригинальности темы, хотя я думаю, что подобные вещи стары как мир. Обычно я не читаю критических статей, но как-то мне попалась одна – на книгу, которую ты только что утопил, и критик превозносил ее. – Она опять рассмеялась.
– Скотина! – проворчал я. – Должно быть, он нашел в ней лестный отзыв о своих собственных пороках. Но ты, Сибилла, зачем ты читаешь подобную гнусность?
– Прежде всего, из любопытства, – ответила она равнодушно. – Я хотела понять, что привело в восторг критика. Потом, когда начала читать, увидела, что вся история была о том, как мужчины развлекаются с потрепанными голубками с больших и окольных дорог, а поскольку я была не особенно сведуща в этой теме, то подумала, что не мешает познакомиться с ней поближе. Знаешь, фрагменты знаний о подобных низких предметах подобны дьявольским наущениям: выслушаете одно, за ним последуют и другие. К тому же предполагается, что литература отражает время, в котором мы живем, а так как этот род литературы теперь преобладает, мы вынуждены принять и изучить его как зеркало века. – С выражением наполовину насмешки, наполовину презрения на лице она встала с места и посмотрела на восхитительное озеро внизу. – Рыбы съедят книгу, – заметила она, – надеюсь, они не отравятся. Если б они могли прочесть и понять ее, какое странное представление они бы имели о нас, человеческих существах!
– Отчего ты не читаешь книги Мэвис Клер? – спросил я вдруг. – Ты говорила мне, что восторгаешься ею.
– Да, чрезвычайно! – ответила она. – Я восторгаюсь ею и удивляюсь ей одновременно. Как эта женщина может сохранять детское сердце и детскую веру в таком мире, как наш, выше моего понимания. Ты спрашиваешь меня, отчего я не читаю ее книги; я читаю их, я перечла их по несколько раз, но она много не пишет, и ждать ее произведения приходится дольше, чем произведения других авторов. Когда я хочу ощущать себя ангелом – я читаю Мэвис Клер, но чаще я склонна чувствовать совсем иначе, и тогда ее книги только мучительны для меня.
– Мучительны? – повторил я.
– Да! Мучительно знать, что кто-то верит в Бога, когда сама ты не можешь в Него верить; видеть, как тебе предлагают веру, которую ты не можешь принять, и осознавать, что есть на свете существо, женщина, такая же, как ты, во всем, кроме ума, крепко держащая в руках счастье, которого ты не можешь достичь, хотя бы протягивала с мольбой руки день и ночь, вознося отчаянные молитвы печальным небесам.
В тот момент она выглядела, как королева в какой-нибудь трагедии: ее фиалковые глаза сверкали, губы полуоткрылись, грудь взволнованно вздымалась. Я подошел к ней со странным нервным колебанием и дотронулся до ее руки. Она безразлично протянула ее мне, я продел ее себе под локоть, и несколько минут мы молча ходили взад и вперед по посыпанной гравием дорожке.
От основания до крыши огромного отеля, обеспечивающего нас всем необходимым, начали зажигаться огни, и как раз над нашим шале образовалось созвездие в форме трилистника.
– Бедный Джеффри! – сказала она, вдруг быстро взглянув на меня снизу вверх. – Мне жаль тебя! Со всеми моими переменами настроения я все же не дура и, во всяком случае, научилась хорошо анализировать как себя, так и других. Тебя я читаю так же легко, как книгу; я вижу, что в твоей душе бушует буря. Ты меня любишь, и ты меня ненавидишь, и этот контраст ощущений разрушает тебя и твои идеалы. Ничего не говори, я знаю, знаю. Но кем бы ты хотел меня видеть? Ангелом? Я не могу представить подобное существо более чем на один преходящий миг воображения. Святой? Все они были мученицами. Доброй женщиной? Я никогда не встречала такой. Невинной? Невежественной? Я говорила тебе до свадьбы, что я ни та ни другая; для меня не представляли тайны отношения между мужчиной и женщиной, я имела понятие о степени врожденной любви к пороку у того и другого пола. Они совершенно одинаковы, никому нельзя отдать предпочтения; мужчины не хуже женщин, женщины не хуже мужчин. Я открыла все, кроме Бога, и пришла к заключению, что Бог никак не мог создать такую безумную и низкую вещь, как человеческая жизнь.
Пока она говорила, я готов был упасть к ее ногам и умолять ее замолчать, потому что она, не подозревая, высказывала многие из тех мыслей, на которых я часто себя ловил, а между тем в ее устах они звучали жестоко, неестественно и грубо до такой степени, что я чуть не отскочил от нее в страхе и страдании. Мы дошли до маленькой сосновой рощи, и здесь в тени и безмолвии я обнял ее и тоскливо смотрел на ее красивое лицо.
– Сибилла! – прошептал я. – Сибилла! Что с нами такое? Почему мы не видим прекрасную сторону любви? Почему даже в поцелуях и объятиях какая-то неосязаемая тьма ложится между нами и мы злим и мучаем друг друга, когда могли бы быть довольны и счастливы? Что это? Можешь ли ты сказать? Ведь ты сама знаешь, что тьма есть.
Странное выражение было в ее глазах, далекое, напряженное выражение неутоленного желания, смешанного, как мне показалось, с состраданием ко мне.
– Да, есть! – медленно ответила она. – И мы оба создали ее. Я думаю, Джеффри, что в твоей натуре есть нечто более благородное, нежели в моей, нечто, питающее отвращение ко мне и моим теориям против твоей воли и желания. Может быть, если б ты вовремя дал волю этому чувству, ты бы никогда не женился на мне. Ты говоришь о прекрасной стороне любви… По-моему, в ней нет никакой прекрасной стороны, она вся груба и ужасна. Вот ты и я, например, – культурные мужчина и женщина, но и мы в браке не можем достичь ничего более возвышенного, чем какой-нибудь мужлан и его девица. – Она громко захохотала и вздрогнула в моих руках. – Какие лгуны поэты, Джеффри! Их следовало бы на всю жизнь заключать в тюрьму за лжесвидетельство. Они способствуют созданию иллюзий в женских сердцах; в ранней юности она читает их сладостные уверения и воображает, что любовь будет такой, как они говорят, – чем-то божественным и вечным, но затем палец прозы придавливает крылатую бабочку-поэзию и наступает горечь и ужас полного разочарования.
Я все еще держал ее в объятиях с неистовой силой человека, цепляющегося за обломок мачты посреди океана, чтобы не утонуть.
– Но я люблю тебя, Сибилла! Жена моя, я люблю тебя! – сказал я, задыхаясь от страсти.
– Ты любишь меня, да, я знаю, но как?! Такой страстью, какая отвратительна тебе самому! Это не поэтическая любовь, это любовь мужчины, а любовь мужчины – животная любовь. Такая она есть, такой она будет, такой она и должна быть. Впрочем, животная любовь скоро пресыщается, и, когда она погибает от пресыщения, ничего не остается. Ничего, Джеффри, абсолютно ничего, кроме вежливых бесцветных отношений, какие мы должны будем поддерживать для света.
Она освободилась из моих объятий и направилась к дому.
– Пойдем, – прибавила она, повернув через плечо свою очаровательную головку с ласковой кошачьей грацией, какой только она одна обладала. – Ты знаешь, в Лондоне есть одна знаменитая дама, рекламирующая свои продажные прелести для проходящей мимо публики с помощью монограммы, вплетенной в кружево на всех оконных занавесках, думая, без сомнения, что это будет способствовать торговле. Я не так дурна. Ты дорого заплатил за меня, я знаю, но помни, я теперь не ношу никаких драгоценностей, кроме твоих, и не прошу подарков, кроме тех, что ты делаешь мне по своему великодушию, и мое неизменное желание – быть стоящей твоих денег.
– Сибилла, ты убиваешь меня! – вскричал я, не в силах больше выносить эту муку. – Ты считаешь меня настолько низким! – Я почти рыдал от отчаяния.
– Ты не можешь не быть низким, – сказала она, внимательно глядя на меня, – потому что ты мужчина. Я низка, потому что я женщина. Если б кто-нибудь из нас верил в Бога, мы могли бы найти другой образ жизни и любви – кто знает! Но ни ты, ни я не имеем ни малейшей веры в Того, Чье существование опровергается всеми учеными нашего времени. Нам постоянно внушают, что мы животные и ничего более, так давай не будем этого стыдиться. Животное начало и атеизм одобряются учеными и восхваляются прессой. А духовенство не в состоянии навязать нам веру, которую проповедует. Пойдем, Джеффри, не стой в задумчивости под этими соснами, как пораженный Парсифаль. Отбрось то, что тебя тревожит – твою совесть, как ты выбросил книгу, которую я читала, и подумай о том, что большинство мужчин твоего типа были бы рады и горды стать добычей дурной женщины, так что можешь поздравить себя с тем, что взял одну из них в жены! К тому же такую, которая придерживается настолько широких взглядов, что всегда и во всем будет давать тебе полную свободу, если только ты будешь давать свободу ей. Теперь все браки так устроены, во всяком случае в нашем кругу, иначе их узы были бы невыносимы. Пойдем же!
– Мы не можем жить вместе при таких отношениях, Сибилла! – сказал я хрипло, медленно идя с ней рядом по направлению к вилле.
– Очень даже можем! – недобрая улыбка заиграла на ее губах. – Мы можем делать то, что делают другие; нам нет необходимости выделяться среди остальных бессмысленным донкихотством или изображать из себя образец примерного супружества для других, нас бы только невзлюбили за это. Лучше быть популярными, чем добродетельными: добродетель никогда не вознаграждается. Смотри, вон идет этот интересный немец-официант, собираясь сообщить нам, что ужин подан. Пожалуйста, перестань казаться таким несчастным, ведь мы не поссорились, и было бы глупо, если бы прислуга подумала наоборот.
Я ничего не ответил, мы вошли в дом и сели ужинать. Сибилла, как обычно, поддерживала оживленный разговор, я же отвечал односложно. После обеда мы, по обыкновению, отправились в украшенный иллюминацией сад отеля послушать оркестр. Сибиллу многие знали, и своей красотой она вызывала всеобщий восторг и потоки лести. Пока она переходила от одной группы знакомых к другой, разговаривая со всеми, я сидел в угрюмом молчании, следя за ней с возрастающим удивлением и страхом. Ее красота казалась мне красотой ядовитого цветка, который, блистая великолепным цветом и совершенной формой, способен убить своим смертельным ароматом того, кто его сорвет. И в ту ночь, когда я держал ее в своих объятиях и ощущал в темноте биение ее сердца рядом с моим, ужас охватил меня – ужас оттого, что я мог задушить ее, когда она вот так лежала на моей груди, задушить, как вампира, который высасывает кровь и силы из другого человека.
XXVII
Мы завершили наше свадебное путешествие раньше, чем предполагали, и возвратились в Англию, в Уиллоусмирский замок, примерно в середине августа. Смутная идея бродила во мне, давая мне некоторое утешение, и она заключалась в том, что я намеревался свести вместе мою жену и Мэвис Клер, надеясь, что благотворное влияние грациозного счастливого создания, которое, как радостная птичка в своем гнездышке, невозмутимо жило в маленьком домике так близко от моего собственного, могло оказать смягчающее и целительное действие на любовь Сибиллы к безжалостному анализу и ее презрение ко всем благородным идеалам. В Уорикшире в это время жара стояла чрезвычайная; розы достигли полного расцвета своей красоты; густая листва дубов и вязов в моих владениях давала приятную тень и отдых усталому телу, а спокойная прелесть лугов услаждала не менее усталую душу.
В конце концов, на свете нет страны прекраснее Англии, так богато наделенной зелеными лесами и благоухающими цветами; ни одна из них не может похвастаться более поэтическими уголками для уединения и мечтаний. В Италии, воспетой истеричными позерами, считающими особым шиком хвалить любую страну, кроме своей собственной, поля чахлые и черные, выжженные слишком жарким солнцем; там нет тенистых тропинок, какие можно найти в любом английском графстве, а мания итальянцев безжалостно вырубать красивейшие деревья не только повредила климату, но до того испортила ландшафт, что трудно поверить в ее когда-то знаменитую и до сих пор по ошибке прославляемую прелесть. Такого прелестного уголка, каким был коттедж «Лилии» в тот душный август, нельзя было отыскать во всей Италии.
Мэвис сама заботилась о своем саде: у нее было два садовника, которые по ее указаниям постоянно поливали траву и деревья, и невозможно было представить себе что-то более очаровательное, чем живописный, в старинном вкусе дом, увитый розами и жасмином, цветы которых гирляндами свисали с его крыши. Вокруг него расстилались изумрудные лужайки, окаймленные густыми зелеными кустами, где находили убежище самые сладкоголосые певчие птицы и где по вечерам компания соловьев создавала журчащий фонтан восхитительной мелодии. Я хорошо помню тот теплый, тихий, томный день, когда повел Сибиллу к женщине-автору, которой она так давно восторгалась. От жары птицы в нашем саду молчали, но, когда мы подошли к коттеджу «Лилии», первое, что мы услышали, было щебетание дрозда где-то наверху среди роз – нежное, плавное, выражающее «сладкое довольство», оно перемешивалось с глухим воркованием голубей-«критиков», которые обсуждали что-то приятное или неприятное, увиденное ими вдали.
– Какое прелестное место! – заметила моя жена, отворяя калитку и проходя вдоль пахучей живой изгороди из жимолости и жасмина. – В самом деле, здесь красивее, чем в Уиллоусмире! Удивительно, как все тут изменилось к лучшему!
Нас провели в гостиную, и Мэвис, ожидавшая нашего визита, не заставила себя долго ждать. Когда она вошла, одетая в платье из белой прозрачной ткани, мягко облегавшей ее прекрасную фигуру, с поясом из простой ленты, сердце мое сжалось от странной болезненной тоски. Прелестное безмятежное лицо, веселые и вместе с тем мечтательные глаза, чувственный рот и в особенности светлый взгляд счастия, придающий ее чертам такое ясное и пленительное выражение, в один миг показали мне, какой может быть женщина и какой она чаще всего не бывает.
И я мог ненавидеть Мэвис Клер! Я даже поднял перо, чтоб нанести ей удар посредством анонимной критики! Но это было прежде, чем я узнал ее, прежде, чем понял разницу между нею и пугалами в юбках, часто выдающими себя за «романисток» и не умеющими правильно писать по-английски, говорящими в обществе о своих сочинениях с развязностью, которой научились на Граб-стрит и в дешевых ресторанах, посещаемых журналистами. Да, я ненавидел ее… А теперь… теперь я почти любил ее. Сибилла, высокая, царственная и прекрасная, смотрела на нее глазами, выражающими изумление и восторг.
– Подумать только, что вы знаменитая Мэвис Клер! – сказала она, улыбаясь и протягивая ей руку. – Я слышала и знала, что вы не выглядите, как литератор, но никогда не думала, что вы можете быть такой, какой я вас вижу.
– Выглядеть литератором и быть им не всегда одно и то же, – возразила Мэвис со смехом. – Очень часто можно встретить женщин, которые прилагают все усилия, чтобы выглядеть литераторами, и при этом не имеют ни малейшего понятия о литературе. Но как я рада видеть вас, леди Сибилла! Знаете, я наблюдала за вашими играми на лугу, в Уиллоусмире, когда была совсем маленькой девочкой.
– А я наблюдала за вами, – ответила Сибилла, – вы плели венки из маргариток и делали букеты из первоцветов в поле, на другом берегу Эйвона. Я очень рада, что мы соседи. Вы должны часто бывать у меня в Уиллоусмире.
Мэвис ответила не сразу – она разлила чай и подала нам чашки. Это не укрылось от Сибиллы, которая всегда замечала проявления человеческого характера, и она ласково повторила свои слова.
– Вы будете приходить, правда? И чем чаще, тем лучше. Мы должны стать друзьями!
Наконец Мэвис подняла глаза, в которых светилась милая искренняя улыбка.
– Вы в самом деле этого хотите? – спросила она.
– Хочу ли я? – повторила Сибилла. – Ну да, конечно, хочу!
– Как вы можете сомневаться в этом? – воскликнул я.
– Вы простите, что я задала такой вопрос, – сказала, все еще улыбаясь, Мэвис, – но, видите ли, вы теперь, что называется, местные магнаты, а местные магнаты считают себя бесконечно выше всяких авторов. – Она засмеялась, и ее синие глаза заблестели весельем. – Думаю, многие из них считают писателей какими-то странными отпрысками человеческого рода, которых вряд ли можно считать приличными людьми. Это очень забавно, тем не менее из всех моих недостатков самым значительным, на мой взгляд, является гордость и упрямый дух независимости. По правде сказать, я получала приглашения от многих так называемых «знатных людей», но, приняв их, обыкновенно досадовала после.
– Почему? – спросил я. – Они оказывали себе честь, приглашая вас.
– О, не думаю, что они так считали! – ответила она, важно тряхнув своей светлой головкой. – Они воображают, что совершали великий подвиг снисхождения, хотя в действительности это я снисходила до них, так как с моей стороны было настоящей милостью покинуть общество Афины Паллады в моем кабинете ради общества разодетых и завитых модных дам. – Ясная улыбка опять осветила ее лицо, и она продолжала: – Однажды меня пригласили на завтрак к барону и баронессе, которые позвали нескольких гостей, чтобы «познакомиться со мной», как они сказали. Меня представили только одному или двум; остальные сидели и смотрели на меня, как если б я была новым сортом рыбы или дичи. Затем барон показал мне свой дом и назвал стоимость своих картин и фарфора; он был даже настолько добр, что объяснил, какой из них был дрезденского и какой делфтского производства, хотя, думаю, каким бы невежественным автором я ни была, я и сама могла бы просветить его как в том, так и в другом. Тем не менее я любезно улыбалась в течение всей экскурсии и старалась казаться очарованной и восхищенной. Тем не менее больше они меня не приглашали, и я не могу понять, ни зачем они меня приглашали, разве что и вправду хотели поразить своей домашней обстановкой, ни что я такого сделала, чтоб больше никогда не быть приглашенной!
– Это были, должно быть, какие-нибудь парвеню, – сказала с негодованием Сибилла. – Благовоспитанные люди никогда не станут называть стоимость своего имущества, если только они не евреи.
Мэвис рассмеялась веселым смехом, похожим на звон колокольчиков, и продолжила:
– Я не скажу, кто они были: я должна приберечь кое-что для своих мемуаров, которые буду писать, когда состарюсь. Я вам рассказала об этом случае только для того, чтобы объяснить, почему я спросила вас: действительно ли вы хотите, чтобы я пришла, когда приглашаете меня в Уиллоусмир?
Барон и баронесса, о которых я говорила, до такой степени восторгались мною и моими книгами, что легко было поверить, будто я навсегда стану их самым дорогим другом, – между тем они вовсе так не думали. Иные люди с преувеличенным чувством обнимают меня и приглашают к себе, просто чтобы что-то сказать. Я вижу такое притворство и не ищу ни объятий, ни приглашений, и если некоторые знатные люди считают, что оказывают мне снисхождение, приглашая к себе домой, то я так не думаю: скорее это я окажу снисхождение, приняв приглашение. Я говорю это не из самолюбия – самолюбие здесь ни при чем; я говорю это и настаиваю на этом, желая защитить достоинства литературы как искусства и профессии. Если б другие авторы поддержали меня, мы бы могли поднять литературу до той высоты, на какой она находилась в дни Скотта и Байрона. Надеюсь, вы не считаете меня слишком гордой?
– Наоборот, я считаю, что вы совершенно правы, – горячо сказала Сибилла. – И преклоняюсь перед вами за вашу независимость и мужество; я знаю, что некоторые представители аристократии до того вульгарны, что мне часто делается стыдно за свою принадлежность к ней. Но могу вас уверить, что, если вы окажете нам честь сделаться нашим другом, вы не пожалеете об этом. Попробуйте полюбить меня, если сможете.
Она наклонилась вперед с чарующей улыбкой на прекрасном лице. Мэвис смотрела на нее серьезно и с восхищением.
– Как вы красивы! – откровенно сказала она. – Конечно, вам все это говорят, и все же я не могу не присоединиться к общему хору. Для меня красивое лицо подобно красивому цветку: я должна восхищаться им. Красота есть нечто божественное, и, хотя мне часто говорят, что хорошие люди обычно некрасивы, я не могу этому поверить. Наверняка природа дает прекрасное лицо прекрасной душе.
Сибилла, которая улыбалась от удовольствия после первых слов комплимента, сделанного ей одной из самых талантливых представительниц ее пола, теперь густо покраснела.
– Не всегда, мисс Клер, – сказала она, скрывая свои блестящие глаза под сенью длинных ресниц. – Красивого злого духа так же легко себе представить, как и красивого ангела.
– Действительно! – и Мэвис задумчиво посмотрела на нее, потом, вдруг засмеявшись своим веселым, серебристым смехом, добавила: – Совершенная правда! Я не могу представить себе безобразного злого духа, так как предполагается, что злые духи бессмертны, а я убеждена, что бессмертное безобразие не может быть частью Вселенной. Очевидное безобразие принадлежит только одному человечеству, и некрасивое лицо – такое пятно на творении, что мы можем только утешать себя мыслью о том, что, оно, к счастью, тленно и что со временем находящаяся в нем душа избавится от безобразной оболочки и получит более привлекательную. Хорошо, леди Сибилла, я приду в Уиллоусмир; я не могу отказаться от случая полюбоваться такой красотой, как ваша.
– Ваша лесть очаровательна! – сказала Сибилла, вставая и обнимая ее с той нежностью, которая казалась такой искренней и которая так часто ничего не значила. – Но я признаюсь, что предпочитаю выслушать лесть скорее от женщины, чем от мужчины. Мужчины говорят всем женщинам одно и то же, у них весьма ограниченный набор комплиментов, и они скажут дурнушке, что она красавица, если увидят в этом для себя непосредственную выгоду. Но сами женщины с трудом допускают существование друг в друге достоинств, внешних или внутренних, так что, когда они отзываются благосклонно или великодушно о своем собственном поле, это чудо заслуживает того, чтоб сохраниться в памяти. Могу я увидеть ваш рабочий кабинет?
Мэвис охотно согласилась, и мы втроем вошли в мирное святилище, где председательствовала Афина Паллада и где расположились обе собаки – Трикси и Император. Император сидел и смотрел на перспективу из окна, а Трикси с забавной важностью подражал своему большому товарищу в некотором отдалении. Оба дружелюбно встретили меня и мою жену, и, пока Сибилла гладила огромную голову сенбернара, Мэвис вдруг спросила:
– Где ваш друг, который был с вами здесь в первый раз, князь Риманец?
– Он теперь в Петербурге, – ответил я, – но мы ожидаем его возвращения недели через две-три.
– Наверно, он необыкновенный человек, – задумчиво произнесла Мэвис. – Вы помните, как странно повели себя по отношению к нему мои собаки? Император беспокоился еще несколько часов после его ухода.
И в коротких словах она рассказала Сибилле инцидент с нападением сенбернара на Лючио.
– Некоторые люди имеют природную антипатию к собакам, – сказала Сибилла, – и собаки всегда это чувствуют и отплачивают тем же самым. Но я бы не подумала, что князь Риманец питает антипатию к каким-либо другим существам, кроме женщин, – и она рассмеялась несколько горько.
– Кроме женщин? – повторила с удивлением Мэвис. – Он ненавидит женщин? Тогда он, должно быть, хороший актер, так как со мной он был удивительно вежлив и добр.
Сибилла пристально на нее посмотрела и с минуту молчала, затем сказала:
– Может быть, это потому, что он знает, как вы не похожи на обыкновенных женщин и не имеете ничего общего с их обычными суетными целями. Конечно, он всегда вежлив с нашим полом, но, как мне кажется, легко увидеть, что вся его учтивость часто не более чем маска, скрывающая совсем иные чувства.
– Ты, значит, это заметила, Сибилла? – спросил я с легкой улыбкой.
– Нужно быть слепой, чтобы это не заметить, однако я не осуждаю его за это странное отвращение, а думаю, что оно делает его еще более интересным и привлекательным.
– Он ваш близкий друг? – спросила Мэвис, взглянув на меня.
– Самый близкий, какой только есть! – быстро ответил я. – Я обязан ему так многим, что вряд ли когда-нибудь смогу отплатить, – ведь даже со своей женой я познакомился благодаря ему.
Я говорил не думая и шутливо, но едва произнес эти слова, как ощутил неожиданный удар по нервам – удар мучительного воспоминания. Да, это правда. Я был обязан ему, Лючио, несчастием, страхом, унижением и стыдом быть связанным с такой женщиной, как Сибилла, пока смерть не разлучит нас. Я почувствовал дурноту, голова у меня закружилась, и я опустился на один из старинных дубовых стульев, стоявших в рабочем кабинете Мэвис Клер. Между тем женщины вместе вышли в сад через открытое французское окно, и собаки последовали за ними. Я смотрел на них: моя жена – высокая, статная, одетая по последней моде; Мэвис – маленькая, легкая, в своем мягком белом платье с трепещущей в воздухе лентой-поясом; одна – чувственная, другая – одухотворенная; одна – низкая и порочная в желаниях, другая – с чистой душой и стремящаяся к благороднейшим целям; одна – физически совершенное животное; другая с милым лицом и безупречной прелестью сильфиды. И, глядя на них, я стиснул руки и с горечью подумал, какой ошибочный выбор я сделал. В своем безграничном эгоизме, всегда составлявшем часть моей натуры, я не сомневался, что мог бы жениться на Мэвис Клер, не допуская мысли, что все мое богатство оказалось бы бесполезным для достижения этой цели и что с таким же успехом я мог бы попытаться добыть звезду с неба, как и одержать победу над женщиной, которая видела меня насквозь и никогда бы не спустилась до уровня моих денег со своего интеллектуального трона, хотя бы я был монархом, повелевающим множеством народов!
Я взирал на крупные спокойные черты Афины Паллады, и белые глазные яблоки мраморной богини, казалось, в свою очередь глядели на меня со спокойным презрением. Я осмотрел комнату и стены, украшенные мудрыми изречениями поэтов и философов, словами, напоминавшими мне об истинах, которые я знал, но никогда не считал подходящими для практического применения; и вдруг мой взгляд упал на угол вблизи письменного стола, где горела маленькая тусклая лампада. Над лампадой висело распятие из слоновой кости, белевшее на темно-красной бархатной драпировке; под ним на серебряной подставке стояли песочные часы, из которых блестящими крупинками сыпался песок, а вокруг этого маленького алтаря было написано золотыми буквами: «Настоящее – самое приемлемое время». Слово «настоящее» было крупнее, чем остальные. «Настоящее» было, очевидно, девизом Мэвис: не терять ни минуты и работать, молиться, любить, надеяться, благодарить Бога, быть довольной жизнью – и все это в настоящем; не сожалеть о прошедшем, не гадать о будущем, а просто делать то, что может быть сделано, и оставить все остальное с детским доверием Божественному Провидению. Я в беспокойстве поднялся и последовал в сад за женой и Мэвис. Я нашел их у клетки с совами «Атеней»: главная сова по обыкновению важно фыркала и топорщила перья в негодовании. Сибилла повернулась, заметив меня; ее лицо было ясным и улыбающимся.
– Мисс Клер независима в своем мнении, Джеффри, – сказала она. – Она не очарована князем Риманцем, как большинство людей. Более того, только что она призналась мне, что он ей не очень нравится.
Мэвис покраснела, но ее глаза встретились с моими с бесстрашной прямотой.
– Я знаю, что не следует говорить того, что думаешь, – пробормотала она немного смущенно, – это мой большой недостаток. Пожалуйста, простите меня, мистер Темпест. Вы сказали, что князь – ваш лучший друг, и, уверяю вас, я была чрезвычайно поражена его внешностью при первом взгляде… Но потом, когда я немного присмотрелась к нему, у меня появилась ощущение, что он не совсем тот, кем кажется.
– Точно так же он сам говорит о себе, – ответил я, рассмеявшись. – Думаю, у него есть какая-то тайна, и он обещал когда-нибудь мне ее открыть. Но мне жаль, что он вам не понравился, мисс Клер, потому что вы ему нравитесь.
– Может быть, когда я встречу его снова, мой взгляд изменится, – сказала мягко Мэвис, – а теперь… не будем об этом больше говорить! В самом деле, с моей стороны было неделикатно высказывать такое мнение о человеке, к которому вы и леди Сибилла чувствуете большое расположение. Но что-то, мне показалось, заставило меня, почти против моей воли, сказать то, что я только что сказала.
Ее ласковые глаза глядели огорченно и смущенно, и, чтобы успокоить ее и переменить тему, я спросил, не пишет ли она что-нибудь новое.
– О да, – ответила она, – я никогда не сижу без дела. Публика очень добра ко мне и, прочитав одну мою вещь, тут же требует другую, так что я очень занята.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































