Текст книги "Скорбь Сатаны. Вендетта, или История всеми забытого"
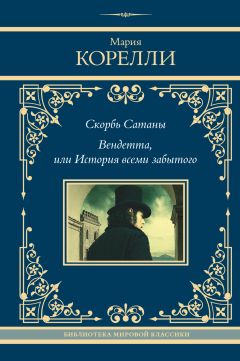
Автор книги: Мария Корелли
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 60 страниц)
XIX
Кровь бросилась мне в лицо, и я сразу же остановился.
– Пойдемте назад!
– Зачем?
– Затем, что я не знаю мисс Клер и не желаю ее знать. Женщины-литераторы вызывают во мне отвращение: они все становятся в какой-то степени бесполыми.
– Вы, я полагаю, говорите о «новых» женщинах, но вы льстите им: они никогда не имели пола; занимающиеся самоунижением создания, которые изображают своих вымышленных героинь, утопающих в грязи, и свободно пишут о предметах, которые мужчина постеснялся бы назвать, эти создания – действительно неестественные выродки и не имеют пола. Мэвис Клер не принадлежит к их числу: она – «старомодная» молодая женщина. Мадемуазель Дерино, танцовщица, – «бесполая», но вы в этом ее не упрекали. Напротив, показали, как цените ее таланты, истратив на нее значительную сумму.
– Это неудачное сравнение, – горячо возразил я, – мадемуазель Дерино какое-то время забавляла меня.
– И не была вашей соперницей в искусстве! – проговорил Лючио с недоброй улыбкой. – Лично я смотрю на это так, что женщина, показывающая силу ума, более достойна уважения, чем женщина, показывающая силу своих ног. Но мужчины всегда предпочитают ноги – совершенно так же, как они предпочитают Богу дьявола. Я думаю, что, поскольку у нас есть время, не лишним будет взглянуть на гения.
– Гения! – повторил я презрительно.
– Ну, тогда на вздорную женщину, – засмеялся он. – Без сомнения, она окажется не менее забавной в своем роде, чем мадемуазель Дерино. Я позвоню и спрошу, дома ли она.
Он подошел к калитке, укрытой вьющимися растениями, а я остался стоять, угрюмый и оскорбленный, решив не идти с ним в дом, если он будет принят. Вдруг раздался взрыв мелодичного смеха и звонкий голос воскликнул:
– О, Трикси! Гадкий мальчик! Отнеси его сейчас же назад и извинись.
Лючио заглянул через изгородь и энергично поманил меня.
– Вот она! – шепнул он. – Вот этот унылый, угрюмый, свирепый синий чулок – там на лужайке. Клянусь небом, она способна привести в ужас мужчину и миллионера!
Я посмотрел туда, куда он указывал, и увидел девушку со светлыми волосами в белом платье, сидящую на низком плетеном стуле с крошечным йоркширским терьером на коленях. Песик ревниво оберегал большой сухарь, почти такой же, как он сам, а на небольшом расстоянии лежал великолепный сенбернар, помахивая пушистым хвостом, со всеми признаками удовольствия и хорошего расположения духа. Ситуация была ясна с первого взгляда: маленькая собачка отняла сухарь у своего огромного товарища и отнесла его своей хозяйке – эту собачью шутку, по-видимому, поняли и оценили все ее участники. Наблюдая за маленькой группой, я не мог поверить, что та, которую я видел, была Мэвис Клер. Эта маленькая головка никак не могла предназначаться для бессмертных лавров – скорее для розового венка (нежного и тленного), надетого рукой возлюбленного. Могло ли это женственное создание, на которое я сейчас смотрел, иметь столько интеллектуальной силы, чтобы написать «Несогласие», книгу, которой я втайне восторгался, но которую анонимно пытался уничтожить. Женщину, создавшую это произведение, я представлял себе физически сильной, с грубыми чертами и резкими манерами. Эта же воздушная бабочка, играющая с собачкой, никак не походила на синий чулок, и я сказал Лючио:
– Не может быть, чтобы это была мисс Клер, – скорее всего, гостья или секретарь. Романистка должна выглядеть совсем не так, как эта легкомысленная молодая особа в белом платье, наверняка присланном из Парижа, не думающая ни о чем, кроме развлечений.
– Трикси! – опять раздался звонкий голос. – Отнеси печенье назад и извинись!
Крошечный йорк с невинным видом оглянулся, словно, занятый своими мыслями, не совсем понял значения фразы.
– Трикси! – Голос сделался более требовательным. – Отнеси печенье назад и извинись!
С комичным выражением покорности Трикси схватил огромный сухарь и, держа его в зубах с величайшей осторожностью, спрыгнул с колен своей хозяйки и, проворно подбежав к сенбернару, который продолжал махать хвостом и улыбаться настолько очевидно, насколько могут улыбаться собаки, возвратил похищенное добро с коротким тявканьем, как бы говоря: «На! Возьми!»
Сенбернар поднялся во весь свой величественный рост и фыркнул сначала на бисквит, затем на своего маленького друга, по-видимому, сомневаясь, что было бисквитом, а что – песиком, и, улегшись, снова принялся с удовольствием жевать, в то время как Трикси с яростным восторженным тявканьем принялся кружить вокруг него точно безумный. Эта собачья комедия все еще продолжалась, когда Лючио отошел от своего наблюдательного пункта у изгороди и, подойдя к калитке, позвонил. На звонок явилась аккуратная горничная.
– Мисс Клер дома? – спросил мой приятель.
– Да, сэр, но я не уверена, примет ли она вас, – ответила девушка, – если только вам не назначено.
– Нет, не назначено, но если вы передадите ей эти карточки… – сказал Лючио. – Джеффри, дайте вашу.
Я нехотя повиновался.
– Возможно, мисс Клер будет так добра, что не откажется принять нас. Если же нет, значит, нам не повезло.
Он говорил так скромно и держался так почтительно, что сразу же расположил к себе служанку.
– Пожалуйста, входите, сэр! – сказала она, улыбаясь и открывая калитку.
Он тут же воспользовался приглашением, и я, хотя еще секунду назад решил не входить в этот дом, машинально последовал за ним под арку молодых распускающихся листьев и ранних бутонов жасмина, ведущую в коттедж «Лилии», которому в один прекрасный день суждено будет стать единственным мирным и надежным приютом, какого я только мог страстно желать, и, страстно желая, не имел возможности получить! Дом был гораздо больше, чем казался снаружи; передняя была квадратной, с высоким потолком, обшитая резными панелями из прекрасного старого дуба, а гостиная, куда нас ввели, оказалась самой красивой и художественно оформленной комнатой, какую я когда-либо видел. Везде были цветы, книги, редкий фарфор, элегантные безделушки, которые только женщина со вкусом могла выбрать и оценить; на столах и рояле стояли портреты с автографами множества европейских знаменитостей. Лючио бродил по комнате, делая замечания:
– Вот самодержец всероссийский, – сказал он, задержавшись перед прекрасным портретом царя, – с надписью, сделанной императорской рукой. За что же эта «вздорная женщина» удостоилась такой чести? А здесь, являя собой странный контраст, Падеревский со своей буйной шевелюрой, рядом с ним – вечная Патти, там Ее Величество королева Италии, а вот принц Уэльский – и все с автографами. По-видимому, мисс Клер привлекает к себе знаменитостей без помощи золота. Как ей это удается, Джеффри? – И его глаза полунасмешливо блеснули. – Может, причина действительно в таланте? Посмотрите на эти лилии! – и он указал на множество белых цветов на одном из окон. – Разве они не прекраснее мужчин и женщин? Немые, но тем не менее красноречивые в своей чистоте. Неудивительно, что художники именно их выбрали для украшения ангелов.
Пока он говорил, дверь отворилась и девушка, которую мы видели на лужайке, вошла, неся на руках крошечного йоркширского терьера. Неужели это Мэвис Клер? Или кто-то, посланный сказать, что романистка не может принять нас? Я молча в замешательстве разглядывал ее, а Лючио подошел к ней с совершенно новым для меня выражением смирения и кротости и сказал:
– Мы должны извиниться за наше вторжение, мисс Клер, но, проходя мимо вашего дома, мы не могли удержаться от попытки увидеть вас. Моя фамилия Риманец. – Он почему-то поколебался секунду и затем продолжал: – А это мой друг Джеффри Темпест, писатель.
Молодая особа подняла на меня взгляд с легкой улыбкой и грациозным наклоном головы.
– Он, как вы, вероятно, знаете, сделался владельцем Уиллоусмирского замка. Вы будете соседями и, надеюсь, друзьями. Во всяком случае, если мы нарушили этикет, рискнув явиться к вам, заранее не представившись, вы должны простить нас! Трудно, а для меня невозможно пройти мимо жилища знаменитости без того, чтобы засвидетельствовать свое почтение обитающему в нем гению.
Мэвис Клер – так как это была Мэвис Клер, – казалось, не услышала намеренно сделанного комплимента.
– Милости прошу, – сказала она просто, протягивая руку каждому из нас. – Я привыкла к визитам незнакомых людей. Но я очень много слышала о мистере Темпесте. Садитесь, пожалуйста, – она указала на стулья у окна, заставленного лилиями, и позвонила.
Вошла горничная.
– Чаю, Жанетта!
Отдав это приказание, она села рядом с нами, продолжая держать на руках маленькую собачку, свернувшуюся, как клубок шелка. Я хотел заговорить, но не находил подходящей темы: ее вид наполнял меня слишком сильным ощущением раскаяния и стыда. Она была таким спокойным, грациозным созданием, таким нежным и воздушным, таким простым и непринужденным в обращении, что, подумав о ругательной статье, которую я написал на ее книгу, я сравнил себя с негодяем, бросившим камень в ребенка. Но ведь я ненавидел не ее, а ее талант – силу и страсть этого мистического качества, которое, где бы оно ни появлялось, привлекало внимание мира; у нее был дар, которого не было у меня и которого я страстно желал. Охваченный этими противоречивыми чувствами, я рассеянно смотрел в окно на старый тенистый сад и слышал, как Лючио говорил о пустячных предметах и о литературе вообще, и время от времени ее веселый смех звенел как колокольчик. Вскоре я почувствовал на себе ее пытливый взгляд и, обернувшись, встретился с ее глазами, серьезными и ясными.
– Это ваш первый визит в Уиллоусмирский замок? – спросила она.
– Да, – ответил я, изо всех сил стараясь говорить непринужденно. – Я купил поместье, даже не посмотрев его, полагаясь на рекомендацию моего друга князя.
– Я слышала об этом, – сказала она, продолжая с любопытством смотреть на меня. – И вы остались им вполне довольны?
– Более чем доволен – я в восторге. Оно превзошло все мои ожидания.
– Мистер Темпест женится на дочери прежнего владельца Уиллоусмира, – вставил Лючио. – Конечно, вы читали об этом в газетах?
– Да, – улыбнулась она, – я читала и считаю, что мистера Темпеста есть с чем поздравить. Леди Сибилла очень красива; я помню ее прелестным ребенком, когда я сама была ребенком; я никогда с ней не говорила, но часто ее видела. Она, должно быть, счастлива вернуться молодой женой в старый дом, который так любила.
Тут вошла горничная с подносом, и мисс Клер, опустив на пол собачку, подошла к столу, чтобы разлить чай. Я следил за ее движениями с чувством неопределенного удивления и невольного восхищения: она напоминала картину Грёза, в своем мягком белом платье, с бледной розой в старых фламандских кружевах на груди, и, когда она поворачивала к нам свою головку, солнце озаряло ее светлые волосы, так что они казались золотым ореолом, обрамлявшим ее лоб. Она не была красавицей, но, несомненно, обладала обаятельной, нежной прелестью, которая безмолвно таилась в ней, как дыхание жимолости, спрятавшейся в живой изгороди, очаровывает прохожего сладостным ароматом, хотя ее цветки и невидимы.
– Ваша книга очень хороша, мистер Темпест, – вдруг сказала она, улыбаясь мне, – я ее прочла, как только она вышла, но, знаете ли, ваша статья еще лучше!
Я почувствовал, как кровь прилила к моему лицу.
– О какой статье вы говорите, мисс Клер? – пробормотал я смущенно. – Я не пишу для журналов.
– Нет? – и она весело засмеялась. – Но на этот раз написали! И как же вы меня отделали! Я узнала, что это вы были автором филиппики, – не от издателя вашего журнала, о нет! Бедняга, он очень скромен! От совсем другого лица, которого я не хочу называть. Я всегда узнаю то, что хочу узнать, особенно в литературных делах. Какой же у вас несчастный вид! – Ее глаза искрились весельем, когда она подавала мне чашку чаю. – Вы в самом деле думаете, что оскорбили меня критикой? Даю честное слово, что нет. Ничто в этом роде никогда не огорчает меня. Я слишком занята, чтобы тратить время, думая о критике или критиках. Однако ваша статья была исключительно забавной!
– Забавной? – повторил я глупо, безуспешно стараясь улыбнуться.
– Да, забавной! В ней было столько гнева и негодования, что мне сделалось смешно. Мое бедное «Несогласие»! Мне досадно, что оно привело вас в такое настроение – настроение, так истощившее вашу энергию! – Она опять засмеялась и села на свое прежнее место, глядя на меня открытым, полусмеющимся взглядом, который я не мог выносить спокойно. Сказать, что я ощущал себя дураком, недостаточно, чтобы выразить мое чувство полного поражения. Эта женщина, с молодым светлым лицом, нежным голосом и, очевидно, счастливым характером, была совсем не такой, какой я ее себе представлял, и я силился подыскать какой-нибудь разумный и связный ответ.
Я поймал взгляд Лючио – насмешливый, сатирический, и мои мысли еще больше спутались. Тут нас отвлекло странное поведение Трикси, который вдруг, усевшись против Лючио и подняв вверх нос, принялся выть удивительно громко для такого маленького животного. Его хозяйка удивилась.
– Трикси, в чем дело? – воскликнула она, схватив на руки песика, который, дрожа и рыча, уткнул в них мордочку. Затем она испытующе взглянула на Лючио. – Я никогда раньше не замечала за ним ничего подобного. Может, вы не любите собак, князь?
– Боюсь, это они не любят меня! – ответил он почтительно.
– В таком случае извините меня, – промолвила она, вышла из комнаты и тотчас вернулась, уже без собачки.
После этого инцидента я заметил, что ее синие глаза часто останавливались на красивом лице Лючио с растерянным и озадаченным выражением, словно в самой его красоте она видела нечто неприятное. Тем временем ко мне вернулось мое обычное самообладание, и я обратился к ней тоном, который считал любезным, но который, в сущности, был скорее покровительственным.
– Меня радует, мисс Клер, что вы не обиделись на ту статью. Я допускаю, она была чрезмерно строгой, но, согласитесь, все люди не могут иметь одинаковое мнение…
– Безусловно! – ответила она спокойно, с легкой улыбкой. – Такое положение вещей сделало бы свет очень скучным! Уверяю вас, что я нисколько не была обижена ни тогда, ни теперь: ваша критика была образчиком остроумного сочинения и не оказала ни малейшего влияния ни на меня, ни на мою книгу. Вы помните, что Шелли писал о критиках? Нет? Вы найдете это место в его предисловии к «Возмущению Ислама», где он говорит следующее: «Я старался писать, как, по моему представлению, писали Гомер, Шекспир и Мильтон, с полным пренебрежением к анонимной цензуре. Я уверен, что клевета и искажение моих мыслей хоть и могут вызвать у меня сострадание, но не могут нарушить мой покой. Я пойму многозначительное молчание тех прозорливых врагов, которые не отваживаются говорить сами. Я постараюсь извлечь из оскорблений, презрения и проклятий те предостережения, которые послужат для исправления каких бы то ни было несовершенств, обнаруженных этими цензорами в моем обращении к публике. Если б некоторые критики были настолько же ясновидящи, насколько они злонамеренны, какое великое благо можно было бы извлечь из их ядовитых суждений! Как бы то ни было, я не хочу показаться слишком злобным, забавляясь их жалкими выходками и убогой сатирой. Если читатель решит, что мое сочинение не заслуживает внимания, я покорно поклонюсь трибуналу, от которого Мильтон получил свой венец бессмертия, и постараюсь, если буду жив, извлечь из этого поражения силы, способные побудить меня к новому движению мысли, которое не будет не заслуживающим внимания!»
Пока она говорила, ее глаза потемнели и стали глубже, а лицо словно осветилось внутренним светом, и я невольно прислушивался к ее свежему, сочному голосу, из-за которого имя «Мэвис» так подходило ей.
– Видите, я помню Шелли, – сказала она со смехом. – И эти слова в особенности: они написаны на одной из панелей в моем рабочем кабинете – именно чтобы напоминать мне в случае, если я забуду, что действительно гениальные люди думали о критиках, потому что их пример очень ободряющ и полезен для такой скромной труженицы, как я сама. Я не любимица прессы и никогда не имела хороших отзывов, но, – она опять засмеялась, – я все равно люблю моих критиков! Если вы допили чай, не хотите ли пойти и посмотреть на них?
Пойти и посмотреть на них! Что она хочет этим сказать? Она, казалось, была в восторге от моего очевидного замешательства, и ее щеки раскраснелись от удовольствия.
– Пойдемте посмотрим на них! – повторила она. – Обычно они ждут меня в этот час!
Мэвис направилась в сад, мы последовали за ней: я – смущенный, сбитый с толку, со всеми моими представлениями о «бесполых самках» и отвратительных синих чулках, опровергнутыми непринужденностью манер и пленительной откровенностью этой «знаменитости», славе которой я завидовал, но личностью которой не мог не восторгаться. Со всеми ее интеллектуальными дарованиями, она была прелестным женственным существом… Ах, Мэвис! Сколько горя суждено мне было узнать. Мэвис! Мэвис! В моем одиночестве я шепчу твое нежное имя! Я вижу тебя в моих снах и, стоя пред тобой на коленях, называю тебя ангелом! Моим ангелом у врат Потерянного Рая, и меч его гения, разя во все стороны, не позволяет мне приблизиться к утраченному мною Древу Жизни!
XX
Едва мы вышли на лужайку, как случилось неприятное происшествие, которое могло бы иметь прискорбные последствия. При приближении своей хозяйки сенбернар, мирно дремавший на солнышке, приготовился было приветствовать ее, но, заметив нас, вдруг остановился со зловещим рычанием и, прежде чем мисс Клер успела произнести слово предостережения, в два огромных прыжка достиг Лючио и набросился на него, словно намереваясь разорвать на куски. Лючио с удивительным присутствием духа твердой рукой схватил пса за горло и отстранил от себя. Мэвис смертельно побледнела.
– Я его уведу! Он меня послушается! – крикнула она и положила свою маленькую ручку на шею собаки.
– Лежать, Император! Лежать! Как ты смеешь! Лежать, сэр!
В один момент Император улегся на землю и униженно припал к ее ногам, тяжело дыша и дрожа всем телом. Мэвис держала его за ошейник и смотрела на Лючио; тот был совершенно спокоен, хотя в его глазах сверкали зловещие огоньки.
– Мне очень досадно, – промолвила она тихо. – Я забыла, вы же сказали, что собаки вас не любят. Но какая странная антипатия! Я не могу этого понять. Император обыкновенно так благодушен. Я должна извиниться за его дурное поведение – это так на него не похоже. Надеюсь, он не причинил вам вреда?
– Нисколько! – любезно возразил Лючио. – Надеюсь, я не причинил вреда ему и не расстроил вас?
Она ничего не ответила и увела сенбернара. Когда она ушла, лицо Лючио омрачилось и приняло жесткое выражение.
– Что вы о ней думаете? – спросил он отрывисто.
– Даже и не знаю, – ответил я рассеянно. – Она совсем не такая, какой я ее себе представлял. Но ее собаки довольно неприятная компания.
– Они – правдивые животные и, несомненно, привыкли к искренности своей госпожи, а поэтому протестуют против олицетворения лжи.
– Говорите о себе! – ответил я сердито. – Они протестуют главным образом против вас.
– Разве я этого не заметил? И разве я не говорил о самом себе? Не думаете ли вы, что я назвал бы вас олицетворением лжи, если б даже это была правда? Я не настолько невежлив. Да, это я – воплощение лжи и признаю это, что дает мне некоторое право считаться честным человеком и быть выше обыкновенных людей. Эта увенчанная лаврами женщина – олицетворение правды! Только вдумайтесь! Она не стремится казаться кем-то, кем не является! Неудивительно, что она так знаменита!
Я ничего не сказал, и тут предмет нашего разговора – Мэвис Клер – возвратилась, спокойная и улыбающаяся, с тактом и грацией прекрасной хозяйки прилагая все усилия, чтобы заставить нас забыть об отвратительном поведении своей собаки. Она водила нас по прелестным извилистым дорожкам сада, напоминающего купол из молодой весенней зелени. С непринужденностью, блеском и умом она говорила с нами обоими, однако я заметил, что она, украдкой поглядывая на Лючио, следила за его взглядами и движениями более из любопытства, нежели из расположения. Пройдя тенистую аллею распускающегося жасмина, мы очутились на открытом дворе, вымощенном синей и белой плиткой, в центре которого возвышалась живописная голубятня, построенная в виде китайской пагоды.
Остановившись, Мэвис хлопнула в ладоши. На ее призыв ответило целое облако голубей, белых, серых, бурых и пестрых, кружась вокруг ее головы и спускаясь к ее ногам.
– Вот мои критики! – сказала она смеясь. – Разве они не прелестные создания? Тех, которых я знаю лучше, я назвала по соответствующим журналам, но, конечно же, среди них и множество безымянных. Вот, например, «Субботнее обозрение»… – и она подняла надменную птицу с коралловыми ножками, которой, по-видимому, нравилось оказываемое ей внимание. – Он дерется со всеми своими товарищами и отгоняет их от корма при любой возможности. Сварливое создание! – Она погладила голубя по головке. – Ему невозможно угодить: то ему не нравится зерно и он клюет только горох, то наоборот. Он вполне заслуживает свое имя. Улетай, приятель! – и, подбросив птицу в воздух, она некоторое время следила за ее полетом. – Какой он смешной, старый ворчун! Вот «Оратор», – и она указала на жирную, суетливую птицу. – Он очень мило важничает и воображает себя значительным, чего на самом деле нет и в помине. Там «Общественное мнение» – тот, что дремлет на стене; рядом с ним «Зритель»: вы видите, у него два кольца вокруг глаз, как очки. То бурое создание с пушистыми крыльями, на цветочном вазоне, – «Девятнадцатое столетие»; а маленькая птичка с зеленой шеей – «Вестминстерская газета»; вон та, жирная, что сидит на помосте, – «Пэлл-Мэлл», она очень хорошо знает свое имя – смотрите! – И она весело позвала: – Пэлл-Мэлл, иди сюда!
Птица тотчас послушалась и, слетев с помоста, уселась на ее плече.
– Их так много, что иногда трудно различить. Как только я встречаю злую критику, я даю имя голубю: это меня забавляет. Тот, запачканный, с грязными ногами, – «Скетч», это очень дурно воспитанная птица, должна вас предупредить. Та, изящная на вид голубка с пурпуровой грудкой, – «Графика»; а та, кроткая серая старушка, – «И.Л.Н.», сокращенно от «Иллюстрированных лондонских новостей». Вот те три белые соответствуют «Дейли телеграф», «Морнинг пост» и «Стэндард». Теперь смотрите! – И, достав из угла закрытую корзинку, она начала щедро рассыпать по всему двору горох и всевозможные зерна.
Через мгновение мы едва могли видеть небо – так плотно сбились птицы, то налетая друг на друга, то отбиваясь, то спускаясь вниз, то взлетая вверх; но вскоре крылатое смятение уступило место чему-то вроде порядка: все они разбрелись по земле, каждая занятая своим любимым кормом.
– Вы и в самом деле философ, – улыбаясь, сказал Лючио, – если стая голубей символизирует для вас критиков!
Мэвис весело рассмеялась.
– Ну да, это лекарство против раздражения. Мне приходилось много переживать из-за своей работы. Я не могла понять, почему пресса так жестока ко мне, в то же время оказывая снисхождение гораздо худшим писателям. Но после небольшого размышления я поняла, что мнения критиков нисколько не влияют на убеждения публики, и решила больше о них не беспокоиться… разве что в виде голубей!
– И, кормя голубей, вы кормите ваших критиков, – заметил я.
– Совершенно верно! Я кормлю их. Они что-нибудь да получают от своих редакторов за то, что поносят мою работу, и, вероятно, зарабатывают еще больше, продавая свои критические статьи. Так что, как видите, голуби кажутся вполне подходящими. Но вы еще не видели «Атенея». О, вы непременно должны его увидеть!
Ее синие глаза искрились смехом, когда она привела нас из голубиного двора в уединенный и тенистый угол сада, где в большой клетке важно сидела белая сова. Едва заметив нас, она пришла в ярость и, встопорщив свои пушистые перья, стала грозно вращать сверкающими желтыми глазами и раскрывать клюв. Две совы поменьше сидели на земле, плотно прижавшись друг к другу: одна серая, другая коричневая.
– Злой старикашка! – сказала Мэвис, обращаясь к злобному созданию самым нежным тоном. – Разве тебе не удалось сегодня поймать мышку? О, какие злые глаза! Какой жадный рот! – Затем, повернувшись к нам, она продолжала: – Разве он не красавец? Разве не кажется умным? Но правда состоит в том, что он настолько глуп, насколько это только возможно. Поэтому я назвала его «Атенеем». Он имеет глубокомысленный вид, и вам кажется, будто он знает все, но, в сущности, он все время думает только о том, как бы убить мышонка, что значительно ограничивает его ум!
Лючио хохотал от души, и я тоже: она выглядела такой озорной и веселой.
– Но в клетке еще две другие совы, – сказал я. – Как их зовут?
Мэвис подняла пальчик в шутливом предостережении.
– Это секрет! Они все «Атеней», это род литературного триумвирата. Но какой именно это триумвират, я не стану объяснять. Это загадка, которую вы должны отгадать!
Мэвис прошла дальше, и мы последовали за ней через бархатную лужайку, окаймленную весенними цветами – крокусами, тюльпанами, анемонами и гиацинтами, как вдруг, остановившись, она спросила:
– Не хотите ли взглянуть на мой рабочий кабинет?
Я согласился на это предложение почти с мальчишеским энтузиазмом. Лючио посмотрел на меня с легкой циничной улыбкой и спросил:
– Мисс Клер, назовете ли вы голубя в честь мистера Темпеста? Он сыграл роль злого критика, но вряд ли когда-нибудь повторит это!
Она оглянулась на меня, и улыбка скользнула на ее губах.
– О, я была милосердна к мистеру Темпесту. Он находится среди безымянных птиц, которых я мало различаю!
Она подошла к открытой стеклянной двери, выходящей на газон, усеянный цветами, и, войдя вслед за ней, мы очутились в большой комнате восьмиугольной формы, где первым бросившимся в глаза предметом был мраморный бюст Афины Паллады, на бесстрастное лицо которой падали солнечные лучи. Левую сторону от окна занимал письменный стол, заваленный бумагами; в углу, задрапированный оливковым бархатом, стоял Аполлон Бельведерский, своей загадочной, но лучезарной улыбкой давая урок любви и торжества славы. Множество книг не стояли в строгом порядке на полках, как если б их никогда не читали, а были разложены на низких столах и этажерках, так, чтобы до них легко можно было дотянуться.
Наибольшее удивление и восторг у меня вызвала отделка стен: они были разделены на панели, и на каждой золотыми буквами были написаны изречения философов или строки поэтов. Слова Шелли, которые нам процитировала Мэвис, занимали, как она сказала, одну из панелей, и над ними висел великолепный барельеф поэта, скопированный с памятника в Виареджио. На другой, несколько более широкой панели, был выгравирован портрет Шекспира, а под ним строки:
«…Будь верен самому себе;
И вот тогда, как день сменяет ночь,
Ты не изменишь никому другому».
Здесь также были и Байрон, и Китс. Не хватило бы и целого дня, чтобы исследовать все очаровательные и оригинальные детали этой «мастерской», как называла ее хозяйка. Однако ж пришел час, когда я наизусть знал каждый ее уголок.
У нас оставалось немного времени, и, всячески выразив свое удовольствие и благодарность за любезный прием, Лючио взглянул на часы и напомнил об отъезде.
– Мы могли бы оставаться здесь бесконечно, мисс Клер, – сказал он с удивительной мягкостью в темных глазах. – Это настоящий приют для мирного и счастливого размышления, успокоительный уголок для усталой души… – Он подавил легкий вздох и продолжал: – Но поезд никого не будет ждать, а нам вечером нужно вернуться в город.
– Тогда не буду долее вас задерживать, – сказала наша молодая хозяйка, проведя нас через боковую дверь и коридор, наполненный цветущими растениями, в гостиную, где она перед этим нас приняла. – Надеюсь, мистер Темпест, – добавила она, улыбаясь мне, – что теперь, когда мы познакомились, вы не захотите походить на одного из моих голубей! Это совершенно того не стоит!
– Мисс Клер, – отвечал я, говоря на этот раз с неподдельной искренностью, – даю вам честное слово, что мне досадно за ту статью. Если б я только знал, какая вы!
– О, это не должно иметь разницы для критика.
– Для меня это имеет огромную разницу, – заявил я. – Вы так не похожи на пресловутую женщину-литератора! – Я остановился; улыбаясь, она смотрела на меня ясными, откровенными глазами. Затем я добавил:
– Должен сказать вам, что Сибилла, леди Сибилла Элтон, – одна из ваших преданных поклонниц.
– Мне очень приятно это слышать, – просто ответила она. – Я всегда радуюсь, когда мне удается снискать чье-либо одобрение и расположение.
– Разве не все одобряют вас и восторгаются вами? – спросил Лючио.
– О нет! Совсем нет! «Субботнее обозрение» утверждает, что я имею успех только у продавщиц, – и она засмеялась. – Бедное старое «Субботнее обозрение»! Ее авторы так завидуют каждому успешному писателю! Я рассказала принцу Уэльскому, как там на днях обо мне отозвались, – он очень смеялся.
– Вы знаете принца? – спросил я с легким удивлением.
– Да, правильнее сказать, что он знает меня. Он был так любезен, заинтересовавшись моей книгой. Он хорошо знаком с литературой – гораздо больше, чем думают. Он не раз был здесь и видел, как я кормлю моих критиков-голубей! Думаю, это его забавляло!
И вот все, чего добилась пресса своими ругательствами: лишь того, что она называет своих голубей именами критиков и кормит их в присутствии монарших особ или знаменитостей, которым случается бывать у нее (потом я узнал, что их было много) и смеяться, видя, что голубь «Зритель» дерется из-за зерна, а голубь «Субботнее обозрение» спорит из-за гороха! Очевидно, ни один критик, как бы враждебно он ни был настроен, не мог изменить веселую натуру шаловливого эльфа, каким она была.
– Как вы отличаетесь – как сильно вы отличаетесь от обычных литераторов! – невольно вырвалось у меня.
– Я очень рада, что вы так считаете, – ответила она. – Надеюсь, я действительно другая. Обычно литераторы держатся слишком серьезно и придают слишком большое значение тому, что делают. Поэтому они становятся скучными. Я не верю, чтобы кто-то, проделав по-настоящему хорошую работу, не был бы этим счастлив и совершенно равнодушен к чужому мнению. Я бы не перестала писать, даже если бы мне пришлось жить на чердаке. Когда-то я была бедна, чудовищно бедна, и даже теперь я небогата, но мне хватает на то, чтобы продолжать трудиться, и так и должно быть. Если бы я имела больше, я могла бы разлениться и начать с пренебрежением относиться к своей работе, и тогда в моей жизни появился бы Сатана, а с ним нашлось бы и недостойное дело для праздных рук, как гласит пословица.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































