Текст книги "Скорбь Сатаны. Вендетта, или История всеми забытого"
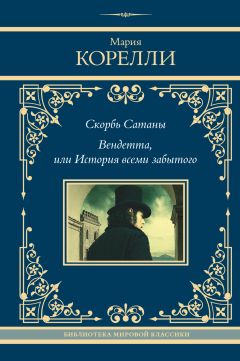
Автор книги: Мария Корелли
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 60 страниц)
XXXIX
Мне открылись величественные постройки, впечатляющие своими гигантскими размерами и роскошью; улицы, заполненные толпами мужчин и женщин в белых и цветных одеждах, украшенных драгоценностями; цветы, росшие на крышах дворцов и перекидывавшиеся с террасы на террасу фантастическими петлями и гирляндами; деревья с раскидистыми ветвями, покрытыми густой листвой; мраморные набережные, выходившие к реке; лотосы, густо росшие внизу у воды; серебристые звуки музыки доносились из тенистых садов и с крытых балконов – каждая прекрасная деталь представала передо мной более явственно, чем резная слоновая кость на щите черного дерева. Как раз напротив того места, где я стоял (или мне казалось, что стоял) на палубе корабля в оживленной гавани, тянулась широкая улица, переходящая в огромные площади, украшенные странными фигурами гранитных богов и животных; я видел струи множества фонтанов, сверкающие при лунном свете, и слышал тихий настойчивый гул, издаваемый толпами людей, заполнивших это место так густо, как пчелы в улье.
Слева мне были видны огромные бронзовые ворота, охраняемые сфинксами; за ними был сад, и из его тенистой глубины ветерок доносил до меня женский голос, певший незнакомую странную мелодию. Тем временем марш, который раньше всего достиг моего слуха, зазвучал ближе, и я заметил приближавшуюся толпу с зажженными факелами и гирляндами цветов. Вскоре я увидел группу жрецов в сверкающих одеждах, буквально ослеплявших блеском ярких, как солнце, драгоценных камней. Они двигались к реке, и с ними шли юноши и маленькие дети, а по обе стороны от них скромно выступали девушки в белых покрывалах и с розовыми венками, время от времени помахивая серебряными кадилами. За процессией жрецов шла царственная особа в сопровождении рабов и слуг: я знал, что это был властелин Прекрасного города, и едва не присоединился к приветствовавшим его оглушительным радостным крикам! За его свитой следовал белоснежный паланкин, который несли девушки в венках из лилий. Кто находился в нем?.. Какая драгоценность его страны была с такой нежностью помещена в этот ковчег? Я был охвачен необыкновенно сильным желанием узнать это. Я следил за этой белой ношей, приближавшейся к моему наблюдательному пункту, и увидел, как жрецы расположились полукругом на набережной. Царь был в середине, а волнующаяся, шумная толпа – вокруг; затем раздался звон множества медных колоколов, смешавшийся с барабанным боем и резкими звуками тростниковых труб, и среди света горящих факелов белый паланкин был поставлен на землю. Женщина в одеянии из какой-то блестящей серебряной материи вышла оттуда, как сильфида из морской пены, но ее лицо было закрыто покрывалом, и я испытал настоящую муку разочарования. Если б я только мог увидеть ее, – думал я, – я узнал бы то, о чем до сих пор не догадывался!
«Подними, о, подними скрывающее тебя покрывало, дух Прекрасного города! – молил я про себя. – Ибо я чувствую, что прочту в твоих глазах тайну счастия!»
Но покрывало осталось на месте… Музыка производила варварский шум в моих ушах… Блеск яркого света и пестрых красок ослеплял меня, и я почувствовал, как погрузился в темный хаос, где, как мне казалось, гнался за луной, которая летела передо мной на серебряных крыльях, а затем… Звук могучего баритона, напевавшего веселую песенку из современной оперы-буфф, смутил и поразил меня, и в следующую секунду я дико уставился на Лючио, который, свободно развалившись в своем шезлонге, радостно пел, обращаясь к безмолвной ночи и пустынному пространству песчаного берега, у которого неподвижно стоял наш дахабие. С криком я бросился на него.
– Где она? – воскликнул я. – Кто она?
Он взглянул на меня, не отвечая, и, загадочно улыбаясь, высвободился из моих рук. Я отодвинулся, растерянный и дрожащий.
– Я все видел, – пробормотал я, – город… жрецов… народ… царя… все, кроме ее лица. Отчего оно было скрыто от меня?
И самые настоящие слезы невольно навернулись мне на глаза. Лючио следил за мной, видимо забавляясь.
– Какой бы находкой вы стали для первоклассного спирита-самозванца, проделывающего свои фокусы в культурном и легко поддающемся одурачиванию лондонском обществе! – заметил он. – Преходящие видения, по-видимому, оказывают на вас сильное впечатление.
– Вы хотите сказать, – с жаром воскликнул я, – что то, что я сейчас видел, не более как мысль, переданная вашим мозгом моему?
– Вне всякого сомнения, – ответил он. – Я знаю, как выглядел Прекрасный город! И сумел нарисовать его на холсте моей памяти и представить в виде законченной картины вашему внутреннему зрению, так как у вас есть внутреннее зрение, хотя, как большинство людей, вы находитесь в неведении относительно этой пренебрегаемой способности.
– Но кто она? – упрямо повторил я.
– Полагаю, это была царская фаворитка. И если она скрыла от вас свое лицо, как вы сетуете, я очень сожалею, но, уверяю вас, это не моя вина. Идите спать, Джеффри, вы кажетесь расстроенным. Видения плохо на вас действуют, а между тем они гораздо лучше действительности, поверьте мне.
Я ничего не смог ему ответить. Быстро оставил его и спустился вниз, чтобы лечь спать, но мысли мои чудовищно путались, и меня более, чем когда-либо, переполнял все усиливавшийся ужас – ощущение, что мною распоряжалась, подчиняя себе и направляя, какая-то неземная сила. Это было мучительное чувство, временами оно заставляло меня ежиться под взглядом Лючио, иногда я почти боялся его – так велик был безотчетный страх, испытываемый мною в его присутствии. И причиной его было не столько странное видение Прекрасного города – потому что, в конце концов, оно было только следствием гипноза, как он мне сказал и с чем я охотно согласился, – сколько вся его манера, которая вдруг стала оказывать на меня такое впечатление, какого не оказывала никогда прежде.
Если в моих чувствах к нему медленно происходила какая-то перемена, то, несомненно, и он изменился ко мне. Его властное обращение сделалось еще более властным; его сарказм – более саркастическим; его презрение к человечеству проявлялось более открыто и выражалось чаще. Однако я восхищался им так же, как прежде; я наслаждался его разговорами, какими бы они ни были – остроумными, философскими или циничными. Я не мог представить себя без его общества. Тем не менее мрачное расположение моего духа усиливалось; наша экскурсия по Нилу сделалась для меня бесконечно мучительной – до такой степени, что, прежде чем мы преодолели половину пути, я стал страстно желать вернуться и окончить путешествие.
Инцидент, произошедший в Луксоре, еще более усилил это мое желание. Мы провели там несколько дней, исследуя местность и посещая развалины Фив и Карнака, где велись раскопки гробниц. Однажды был обнаружен нетронутый красный гранитный саркофаг – в нем находился покрытый богатой росписью гроб, который был вскрыт в нашем присутствии и содержал в себе искусно украшенную мумию женщины. Лючио показал себя прекрасным знатоком иероглифов и перевел кратко и точно историю тела, записанную внутри гроба.
– Танцовщица при дворе царицы Аменартес, – сообщил он мне и нескольким заинтересованным зрителям, окружившим саркофаг, – которая по причине множества грехов и тайных проступков, сделавших ее жизнь невыносимой, а ее дни полными разврата, умерла от яда, принятого собственноручно по приказу царя и в присутствии представителей закона. Такова вкратце история этой леди. Конечно, есть и подробности. По-видимому, ей шел всего двадцатый год. Но, – и он улыбнулся, оглядывая свою маленькую аудиторию, – мы можем поздравить себя с прогрессом, которого достигли в сравнении с этими чрезмерно строгими египтянами. Грехи танцовщицы, на наш взгляд, не так уж велики. Не хотите ли посмотреть, как она выглядит?
Это предложение не встретило ни одного возражения, и я, никогда не присутствовавший при развертывании мумии, следил за процедурой с интересом и любопытством. Когда одно за другим были сняты все благовонные пелены, показалась длинная прядь каштановых волос; затем все, кто принимал участие в этой процедуре, с величайшей осторожностью и помощью Лючио начали открывать ее лицо.
Когда это было сделано, тошнотворный ужас охватил меня: темные и жесткие, как пергамент, черты были все же мне знакомы, и, когда появилось все лицо, я едва не крикнул: «Сибилла!» – так мумия была похожа на нее, ужасно похожа, и, когда слабый полуароматический, полугнилостный запах пелен достиг меня, я, пошатнувшись, отпрянул назад и закрыл глаза. Невольно я вспомнил тонкие французские духи, которыми пахла одежда Сибиллы, когда я нашел ее мертвой: то и это нездоровое испарение были не лишены сходства. Человек, стоявший около меня, увидел, что я пошатнулся, готовый упасть, и подхватил меня.
– Боюсь, это солнце слишком горячо для вас, – произнес он добродушно. – Местный климат не всем подходит.
Я принудил себя улыбнуться и пробормотал что-то о головокружении, затем, придя в себя, боязливо взглянул на Лючио, который внимательно рассматривал мумию со странной улыбкой.
Вдруг, нагнувшись над гробом, он достал из него кусочек золота тонкой работы в форме медальона.
– Это, должно быть, портрет прекрасной танцовщицы, – сказал он, показывая его всем зрителям, столпившимся вокруг саркофага с жадным любопытством и изумленными восклицаниями. – Настоящий клад! Удивительное произведение древнего искусства и, кроме того, портрет очаровательной женщины. Вы так не думаете, Джеффри?
Он протянул мне медальон, и я рассматривал его с болезненным интересом: лицо было удивительно прекрасно, но, несомненно, это было лицо Сибиллы.
Я не помню, как пережил остаток того дня. Вечером, как только мне представился случай поговорить с Риманцем наедине, я спросил его:
– Узнали ль вы… заметили ли вы?..
– Что умершая египетская танцовщица похожа на вашу жену? – спокойно продолжил он. – Да, я сразу же это заметил. Но это не должно вас так изумлять. История повторяется. Почему бы и красивым женщинам не повторяться? Красота всегда имеет где-нибудь своего двойника: или в прошлом, или в будущем.
Я больше ничего не сказал, но на следующее утро был по-настоящему болен – так болен, что не мог встать с постели и провел часы в беспокойных стенаниях, испытывая непрекращающуюся боль, которая была не столько физической, сколько нравственной. В отеле в Луксоре жил врач, и Лючио, всегда демонстрировавший особое внимание к моему личному комфорту, тотчас же послал за ним. Тот потрогал мой пульс, покачал головой и после небольшого размышления посоветовал мне немедленно покинуть Египет. Я выслушал его предписание с радостью, которую едва мог скрыть. Желание уехать из этой «страны древних богов» было острым и лихорадочным: я ненавидел страшное безмолвие пустыни, где сфинкс презрительно хмурится при виде человеческого ничтожества; где вскрытые могилы и гробы вновь выставляют на свет лица, похожие на те, которые мы когда-то знали и любили, и где рассказанная в рисунках история говорит нам о том же, о чем и современная газетная хроника, пусть и в другой форме. Риманец с готовностью привел в исполнение приказание доктора и распорядился о нашем возвращении в Каир, а оттуда в Александрию с такой быстротой, что мне ничего более не оставалось желать, и я был исполнен благодарности за его очевидное сочувствие.
Со скоростью, которую только могло обеспечить обилие наличности, мы вернулись на «Пламя» и поплыли, как я думал, в Англию или во Францию. Мы не решили точно, куда именно направимся, и собирались для начала пройти вдоль берегов Ривьеры, а поскольку ко мне почти вернулось мое прежнее доверие к Риманцу, я предоставил ему принимать решение, довольный уже тем, что мне не пришлось оставить свои кости в населенном ужасами Египте. И я провел на борту яхты еще не менее недели или десяти дней, уже достаточно восстановив свое здоровье, прежде чем предвестники начала конца этого путешествия, которое я никогда не забуду, явились мне в такой страшной форме, что почти погрузили меня во тьму смерти, или в то, что я скорее мог бы назвать (уже основательно выучив этот горький урок), сверканием той загробной жизни, существование которой мы не можем или отказываемся признать, пока не будем захвачены ее прекрасным или ужасным вихрем.
Однажды вечером, насладившись быстрым плаванием по гладкому, залитому солнцем морю, я удалился в свою каюту, чувствуя себя почти счастливым. Душа моя была совершенно спокойна, ко мне вновь вернулась вера в моего друга Лючио – могу добавить, что вернулась и моя былая надменная уверенность в себе. Обретенное мною богатство до сих пор не принесло мне ни счастья, ни славы, но мне все еще было не поздно сорвать золотые яблоки Гесперид. Разнообразные горести, которые я пережил, пусть они и случились совсем недавно, стали стираться в моей памяти, принимая неясный образ, как вещи давно прошедшие; я опять с удовольствием думал о прочности моего финансового положения и даже вынашивал мысль о второй женитьбе – женитьбе на Мэвис Клер! Я поклялся в душе, что никогда не женюсь на другой женщине – она, и только она будет моей! Я не видел никаких препятствий к этому и, полный приятных грез и иллюзий, быстро уснул. Около полуночи я проснулся в смутном страхе и увидел, что моя каюта была залита ярким красным светом и ослепительным сиянием. Первой моей мыслью было, что на яхте случился пожар; в следующую секунду я застыл и онемел от ужаса: Сибилла стояла предо мной… Сибилла, безумная, странная, корчившаяся в муках, полуодетая, размахивающая руками и делающая отчаянные жесты; ее лицо было таким, каким я видел его в последний раз – мертвым, серым и страшным; ее глаза горели угрозой, отчаянием и предостережением. Вокруг нее поднимались кольца пламени, напоминая свернувшуюся змею… Ее губы шевелились, словно она пыталась заговорить, но ни один звук не слетел с них, и, пока я смотрел на нее, она исчезла. Должно быть, я потерял сознание, потому что, когда очнулся, был уже день. Но этот визит был лишь первым из множества подобных, и в конце концов я видел ее каждую ночь, так же окутанную пламенем, пока чуть не сошел с ума от страха и горя. Мое мучение невозможно было описать словами, однако я ничего не говорил Лючио, который, как мне казалось, внимательно наблюдал за мной. Я принимал снотворное, надеясь обрести непрерывный сон, но напрасно: я просыпался всегда в определенный час и всегда видел огненный призрак моей мертвой жены – с отчаянием в ее глазах и непроизносимым предостережением на устах. Это было не все. В один солнечный тихий полдень я вошел один в салон яхты и отшатнулся, пораженный, увидев моего старого товарища Джона Кэррингтона, который сидел за столом с пером в руке, сводя счета. Он низко склонился над бумагами; лицо его было хмурым и очень бледным, но он так был похож на живого человека, так реален, что я позвал его по имени; он оглянулся, улыбнулся жуткой улыбкой и исчез. Дрожа всем телом, я понял, что к моему бремени добавился еще один призрачный кошмар, и, сев, попробовал собраться с духом и решить, что можно сделать. Несомненно, я был болен: эти привидения были предупреждением о начале душевной болезни. Я решил тщательно контролировать себя, пока не доберусь до Англии, а там посоветоваться с лучшими врачами и отдать себя на их попечение, пока окончательно не поправлюсь.
– А пока, – бормотал я сам себе, – я ничего не скажу… даже Лючио. Он только улыбнется… и я его возненавижу…
Тут я прервал себя. Возможно ли, чтобы я когда-нибудь возненавидел его? Безусловно, нет.
В ту ночь я для разнообразия лег спать в гамаке на палубе, надеясь избавиться от полуночных призраков благодаря отдыху на открытом воздухе. Но мои страдания только усилились. Я проснулся, как обычно… чтобы увидеть не только Сибиллу, но также, к своему смертельному ужасу, трех призраков, которые появились в моей комнате в Лондоне в ночь самоубийства виконта Линтона. Они были такими же, точь-в-точь такими же, только на этот раз их посиневшие лица были открыты и повернуты ко мне, и, хотя их губы не двигались, слово «горе», казалось, было произнесено, так как я слышал его звучавшим, подобно погребальному колоколу, в воздухе и на море… И Сибилла, с ее мертвым лицом, окруженная пламенем… Сибилла улыбалась мне улыбкой муки и раскаяния… Боже! Я больше не мог это выносить. Спрыгнув с гамака, я бросился к борту яхты… всего один прыжок в холодные волны… Но там стоял Амиэль со своим непроницаемым лицом и маленькими, как у хорька, глазами.
– Могу я вам помочь, сэр? – спросил он почтительно.
Я уставился на него, потом разразился хохотом:
– Помочь мне! О нет. Вы ничего не можете сделать. Я хочу отдохнуть… но я не могу здесь спать… Воздух слишком душный и пахнет серой, даже звезды издают жар… – Я остановился; он смотрел на меня со своим обычным насмешливым выражением. – Я пойду к себе в каюту, – продолжал я, стараясь говорить спокойно. – Там я буду один – возможно. – Я опять невольно дико расхохотался и, отойдя от него нетвердой походкой, спустился вниз по лестнице, боясь оглянуться из страха увидеть три фигуры судьбы, которые преследовали меня.
Очутившись в каюте, я захлопнул дверь и с лихорадочной поспешностью схватил ящик с пистолетами. Вынув один, я зарядил его. Сердце у меня бешено колотилось. Я смотрел в землю, чтобы не встретиться взглядом с мертвыми глазами Сибиллы.
– Один щелчок курка, – прошептал я, – и все кончено! Я обрету покой, бесчувственный, незрячий, не испытывающий боли. Кошмары больше не будут меня преследовать… я усну…
Я поднес дуло к правому виску, как вдруг дверь каюты открылась и заглянул Лючио.
– Простите, – сказал он, увидев пистолет в моей руке, – я не имел представления, что вы заняты. Я уйду. Ни за что на свете не хочу мешать вам.
В его насмешливой улыбке было что-то дьявольское; я быстро опустил оружие.
– Вы говорите мне это! – воскликнул я с тоской. – Вы говорите это, видя меня в таком состоянии! Я думал, вы мой друг!
Он прямо взглянул на меня… Глаза его расширились и светились презрением, смешанным со страстью и скорбью.
– Вы думали! – И опять страшная улыбка осветила его бледные черты. – Вы ошиблись! Я ваш враг.
Последовало пугающее молчание. Нечто жуткое и неземное в выражении его лица потрясло меня… Я задрожал и похолодел от страха. Машинально уложив пистолет в ящик, я с тупым изумлением и растерянностью взглянул на Лючио и увидел, как его мрачная фигура выросла и поднялась надо мною, словно гигантская тень грозовой тучи. Кровь у меня в жилах застыла от невыразимого, тошнотворного ужаса… Затем густая тьма заволокла мой взор, и я упал без чувств.
XL
Гром и невероятная сумятица, сверкание молнии, оглушительный рев волн, вздымавшихся, как горы, и с шипением разбивавшихся в воздухе, – в этом диком буйстве безумных составляющих неистового танца смерти я наконец очнулся, содрогаясь от шока. С трудом поднявшись на ноги, я стоял в непроглядной черноте своей каюты, пытаясь прийти в себя. Электрические лампы были погашены, и только молния разрывала могильную тьму. Бешеные крики доносились с располагавшейся надо мной палубы – бесовские завывания, в которых слышалось то торжество, то отчаяние, то угроза. Яхта прыгала, как затравленный олень, среди рассвирепевших волн, и каждый страшный удар грома, казалось, грозил разломить ее надвое. Ветер выл, словно дьявол, испытывающий мучения; он вопил, стонал и рыдал, словно наделенный имевшим разум телом, которое переживало острейшую агонию, налетал со звуками, напоминавшими рассерженное хлопанье огромных крыльев, и при каждом его бешеном порыве я был уверен, что на этот раз судно обязательно пойдет ко дну. Забыв обо всем, кроме угрожавшей мне опасности, я попытался открыть дверь. Она оказалась заперта снаружи – я был пленником. При этом открытии негодование заглушило во мне все другие чувства, и, стуча руками по деревянным панелям, я звал, кричал, грозил и проклинал – все напрасно! Пару раз упав на пол из-за того, что яхта сильно накренилась, я не переставал отчаянно звать на помощь, стараясь перекричать оглушающий шум, который, казалось, заполнил все судно, но все было бесполезно, и я, измученный и утомленный, наконец бросил эти попытки и прислонился к неподдающейся двери, чтобы перевести дыхание. Буря усиливалась, молния сверкала почти непрестанно, и каждая ее вспышка сопровождалась раскатом грома, не позволявшим усомниться, что все это происходило прямо у нас над головами. Я прислушался и вдруг услышал безумный крик: «Берегись! Рифы впереди!» Следом за ним раздался взрыв нестройного хохота. В страхе я ловил каждый звук, и вдруг кто-то произнес рядом со мной:
– Рифы впереди! Опасность повсюду – буря, рок и погибель! Погибель и смерть! Но после нее – жизнь!
Особая интонация этих слов наполнила меня таким неистовым ужасом, что я упал на колени, почти готовый молиться Богу, в которого никогда не верил и которого отрицал. Но я слишком обезумел от страха, чтобы найти слова; густая тьма, оглушающий шум ветра и моря, беспорядочные отчаянные крики – все это казалось мне разверзшимся адом, и я мог только стоять на коленях, онемевший и дрожащий. Вдруг звук словно бы приближающегося чудовищного вихря заглушил все остальные – звук, который постепенно перешел в хор тысячи голосов, завывавших вместе с ревущим ветром; неистовые крики перемешивались с раскатами грома, и я выпрямился, уловив сквозь этот яростный шум слова:
– Слава Сатане! Слава!
Выпрямившись и оцепенев от ужаса, я продолжал слушать. Волны, казалось, ревели: «Слава Сатане!» Ветер кричал это грому, молния чертила изогнутой огненной линией в темноте: «Слава Сатане!» В мозгу у меня все кружилось, а сам он готов был вот-вот лопнуть; я сходил с ума, безусловно, я сходил с ума – иначе почему я так отчетливо слышал настолько бессмысленные звуки, как эти?! С внезапным приливом нечеловеческой силы я всей тяжестью своего тела навалился на дверь каюты в неистовом желании открыть ее – она слегка поддалась; я приготовился ко второй попытке, и тут вдруг она широко распахнулась, впустив поток бледного света, и Лючио, закутанный в тяжелый плащ, встал предо мной.
– Следуй за мной, Джеффри Темпест! – сказал он тихим ясным голосом. – Твой час пробил.
Когда я услышал его слова, все мое самообладание покинуло меня. Ужасы бури и ужас от его присутствия отняли у меня все силы, и я умоляюще простер к нему руки, не сознавая, что делал и говорил.
– Ради Бога! – начал я безумным голосом.
Повелительным жестом он заставил меня замолчать.
– Избавь меня от твоих просьб. Ради Бога, ради себя и ради меня! Следуй за мной!
Он двигался передо мной, словно черный призрак, в окружавшем его странном бледном свете, а я, ослепленный, ошеломленный и пораженный ужасом, плелся за ним, словно влекомый какой-то неведомой силой, пока мы с ним не оказались в салоне яхты, в окна которой с шипением ударялись волны, напоминавшие готовых ужалить змей. Дрожа и не имея сил стоять, я опустился на стул; он повернулся и мгновение задумчиво смотрел на меня. Затем открыл одно из окон, и громадная волна, разбившись, осыпала меня горько-солеными брызгами, но я ничего не замечал: мой тоскливый взгляд был устремлен на него – на того, который так долго был моим товарищем. Подняв руку повелительным жестом, он сказал:
– Назад, демоны моря и ветра! Вы, которые не принадлежат Богу, а служат мне, нераскаявшиеся души людей! Потерявшиеся в волнах или кружащиеся в урагане, какую бы судьбу вы себе ни избрали – прочь отсюда! Перестаньте кричать! Этот час – мой!
Я слушал в паническом страхе и вдруг, ошеломленный, увидел, как громадные волны, мириадами поднимавшиеся со всех сторон, исчезли, вой ветра стих и яхта тихо заскользила дальше, словно по спокойной поверхности озера, и прежде, чем я мог осознать это, сверкающий свет полной луны проник в окна и разлился широким потоком по полу салона. Но в самый миг прекращения бури слова «Слава Сатане!», дрожа, поднялись из подводного мира и достигли моего слуха – после чего замерли вдали удаляющимся эхом грома. Тогда Лючио посмотрел на меня, и лицо его было исполнено величественной и страшной красоты!
– Узнал ли ты меня теперь, человек, которого мои миллионы сделали несчастным, или тебе нужно сказать, кто я?
Губы мои зашевелились, но я не мог говорить; смутная и страшная мысль, посетившая меня, казалась слишком безумной и слишком далекой от границы материального, чтобы смертный мог облечь ее в слова.
– Будь нем, будь недвижим, но слушай и чувствуй! – продолжал он. – Верховной властью Бога, так как нет другой власти ни в одном мире, ни на одном небе, я в этот момент управляю и повелеваю тобой, а твоя собственная бесполезная воля отброшена в сторону. Я выбрал тебя из миллионов людей, чтоб ты получил урок в этой жизни, какой все остальные получат в будущей; напряги все способности своего ума, чтобы принять то, что я тебе сообщу, и передай это твоим собратьям, если у тебя есть совесть, так же как есть душа.
Я опять попытался заговорить: он выглядел так по-человечески, он снова казался моим другом, хоть и назвал себя моим врагом. Но что это за свет, сияющий вокруг его головы, что за торжество все ярче горит в его глазах?
– Ты один из тех обитателей земли, которых принято называть счастливыми, – продолжал он, глядя на меня со странным безжалостным выражением. – По крайней мере, так свет судит о тебе, потому что ты можешь купить его благосклонность. Но силы, управляющие всеми мирами, не судят о тебе по таким стандартам: ты не можешь купить их благосклонность, даже если бы все церкви предложили тебе это. Они судят о тебе по тому, каков ты есть, с обнаженной душой, а не каким кажешься. И они видят в тебе бессовестного себялюбца, настойчиво искажающего их божественный Образ Бессмертия, и этому греху нет прощения, и нет спасения от наказания. Кто бы ни предпочел свое «я» Богу и в высокомерии этого «я» осмелился сомневаться и отрицать Бога, тот призывает другую силу управлять своей судьбой – силу зла, созданную и поддерживаемую непослушанием и порочностью человека, – ту силу, которую смертные называют Сатаной, Князем Тьмы, но который некогда был известен ангелам под именем Люцифер, Князь Света… – Он остановился, и его пылающий взор упал на меня. – Узнаешь ли ты меня… теперь?
Я сидел, оцепенев от страха, молча уставившись на него… Не был ли этот человек (так как он казался человеком) сумасшедшим, намекая на вещь, которая была слишком дикой и ужасной, чтобы выразить ее словами?
– Если ты не узнал меня, если не осознал своей погрязшей в грехах душой, кто я такой, это лишь потому, что не хочешь знать! Именно так я являюсь людям, наслаждающимся своим добровольным ослеплением и тщеславием, и делаюсь их постоянным товарищем, потворствуя им в их излюбленных пороках. Я принимаю образ, который им нравится, и приноравливаюсь к их настроению. Это они делают меня таким, каков я есть, – они переделывают мой образ по моде их быстротечного времени. Во все их меняющиеся и повторяющиеся эпохи они придумывали мне странные имена и титулы, и их религии и церкви сделали из меня чудовище, словно воображение способно создать нечто худшее, чем дьявол в человеческом обличье.
Застывший и безмолвный, я слушал… мертвую тишину, и его звучный голос, вибрировавший в ней, внушал мне больший ужас, чем самая страшная буря.
– Ты – Божье создание, наделенное, как и каждый разумный атом Его творения, даром бессмертия, – ты, целиком поглощенный накоплением бренного мусора, который считаешь полезным для себя на этой планете, смеешь своим ничтожным умом смертного оспаривать и подвергать сомнению постоянные, вечные вещи, которые не можешь увидеть! По воле Создателя ты имеешь возможность лицезреть Естественную Вселенную, однако ради твоего же блага сверхъестественное скрыто от тебя накинутой на него завесой, иначе твой ничтожный земной мозг был бы раздавлен тем, что в нем существует, как хрупкая ракушка колесом экипажа. Но поскольку ты не видишь, ты сомневаешься! Ты подвергаешь сомнению не только высшую Любовь и Мудрость, которые держат тебя в неведении до той поры, пока ты не станешь достаточно сильным, чтобы вынести всю полноту знания, но и само существование этой другой вселенной! Самонадеянный глупец! Твои часы отсчитываются Сверхъестественным временем, твои дни направляются Сверхъестественным законом; каждая твоя мысль, каждое слово, каждый поступок и каждый взгляд создают форму и содержание твоего последующего существования в Сверхъестественной жизни; то, чем ты был в твоей душе здесь, станет сутью твоей души там, и этот закон невозможно изменить! – Свет вокруг его лица стал ярче; он продолжал говорить очень отчетливо, и в его голосе звучала странная музыка. – Люди сами делают свой выбор и сами определяют свое будущее. И пусть они не говорят, что не имеют выбора. С величайших небесных высот Дух Божий сошел к ним в облике человека – из самых глубин Ада я, Восставший Дух, явился к ним также в человеческом обличье, однако Бог-человек был отвергнут и убит, а я, человек-дьявол, продолжаю жить, повсюду принятый и всеми обожаемый. Это выбор человека, а не Бога или мой! Если бы эгоистичное человечество в один прекрасный день отвергло меня полностью и окончательно, я бы перестал существовать в своем настоящем виде – так же как перестали бы существовать те, кто со мной. Слушай, пока я рисую тебе твое будущее, оно – точная копия жизней многих других людей, и подумай, как мало оно связано с силами Неба и насколько тесно – с Преисподней!
Я невольно содрогнулся: я начинал смутно понимать ужасную суть этой нечеловеческой беседы.
– Ты, Джеффри Темпест, – человек, некогда наделенный Божественной мыслью, тем огнем или отзвуком небесной музыки, которые называются гением. Такой великий дар редко посылается смертному, и горе тому, кто, получив его, использует его лишь для себя, а не для Бога. Божественные законы мягко направляли тебя истинным путем усердного труда – путем страдания, разочарования, самоотречения и бедности, так как только они способствуют облагораживанию человечества и достижению им совершенства. Через скорбь и тяжелый труд душа обретает силу для битвы и укрепляется для победы. Но ты – ты не оценил расположения к тебе Неба, путь унижения тебя совсем не устраивал. Бедность сводила тебя с ума, голод вызывал у тебя тошноту. Однако бедность лучше, чем надменное богатство, а голод здоровее, чем потворство своим желаниям. Ты не мог ждать: твои собственные беды казались тебе чудовищными, твои стремления – прекрасными и достойными похвалы; горести и стремления других людей были для тебя ничто; ты готов был проклясть Бога и умереть. Жалея себя, восхищаясь собой, и только собой, с сердцем, полным горечи, и с проклятием на устах, ты был готов уничтожить и свой гений, и свою душу. По этой причине у тебя и появились твои миллионы – и это сделал я!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































