Текст книги "Скорбь Сатаны. Вендетта, или История всеми забытого"
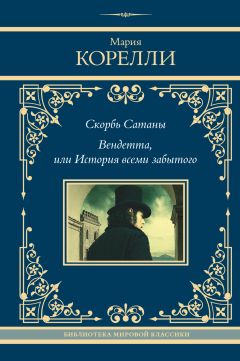
Автор книги: Мария Корелли
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 60 страниц)
XXXVI
«С того момента, как я увидела Лючио Риманца, – продолжалась предсмертная исповедь Сибиллы, – я целиком отдалась любви и желанию любить. Я слышала о нем раньше от моего отца, который, как я узнала со стыдом, был ему должен. В тот самый вечер, когда мы встретились, мой отец совершенно откровенно заявил мне, что мне представился случай устроиться в жизни. «Выходи за Риманца или за Темпеста – за того, кого сумеешь поймать, – сказал он. – Князь баснословно богат, но его окружает какая-то таинственность, и никто, в сущности, не знает, откуда он явился. К тому же он недолюбливает женщин. А у Темпеста пять миллионов, и он производит впечатление покладистого и недалекого человека. Я бы посоветовал тебе заняться Темпестом». Я ничего не ответила и не дала никакого обещания. Однако вскоре узнала, что Лючио не собирается жениться, и заключила, что он предпочитает быть любовником многих женщин, вместо того чтобы стать мужем одной. После этого я не стала его меньше любить, а только решила, что, по крайней мере, стану одной из тех счастливиц, которые разделяют его страсть. Я вышла замуж за Темпеста, рассчитывая, как и многие другие женщины, приобрести большую свободу действий; я знала, что большинство современных мужчин предпочитают роман с замужней женщиной всем другим связям, и думала, что Лючио тотчас же согласится на задуманный мною план. Но я ошиблась, и эта ошибка стала причиной всего моего замешательства, недоумения и страдания.
Я не могу понять, отчего мой возлюбленный, любимый мною больше всяких слов и мыслей, с таким жестоким презрением оттолкнул меня! В наши дни для замужней женщины совершенно обычное дело помимо мужа иметь любовника de convenance [22]22
По обычаю, по соглашению (фр.).
[Закрыть]. Писатели советуют это; я видела, как этот обычай не раз защищался в длинных научных статьях, которые свободно печатаются в первоклассных журналах. Почему же нужно осуждать меня или считать мои желания преступными? Какое в этом зло, если дело не дошло до публичного скандала? Я никакого зла не нахожу. И дело также не в Боге – ученые говорят, что никакого Бога нет.
Я только что очень испугалась. Мне почудилось, что я услышала голос Лючио, который позвал меня. Я обошла комнаты, заглядывая повсюду, открыла дверь и прислушалась, но никого не было. Я одна. Я приказала горничной не беспокоить меня, пока я не позвоню… Но я не позвоню! Я вдруг подумала: как странно, что я не знаю, кто, в сущности, Лючио на самом деле. Он называет себя князем, и я охотно этому верю, хотя настоящие князья в наше время производят впечатление плебеев своей внешностью и манерами, а он слишком прекрасен, чтобы принадлежать к этой ничтожной братии. Из какого царства он пришел? Какой нации он принадлежит? Вот вопросы, на которые он если и отвечает, то двусмысленно.
Я останавливаюсь и смотрю на себя в зеркало. Как я красива! Я с восхищением отмечаю свои глубокие лучистые глаза, темные шелковые ресницы, нежный цвет щек и губ, округлый подбородок с хорошенькой ямочкой, чистые линии тонкого горла и белоснежной шеи, блестящую волну моих длинных волос. Все это было мне дано, чтобы привлекать и порабощать мужчин, но мой возлюбленный, которого я люблю всем этим своим дышащим, живым и изящным существом, не видит красоты во мне и отталкивает меня с таким презрением, которое пронзает мне душу! Я стояла перед ним на коленях, я молилась ему, я умоляла его – напрасно! Значит, я должна умереть! Одна лишь его фраза прозвучала для меня надеждой, хотя она была произнесена с жестокостью, а его глаза были полны гнева. «Терпение! – шепнул он. – Мы скоро встретимся!» Что он хотел этим сказать? Какая может быть встреча теперь, когда смерть должна закрыть ворота жизни и даже любовь пришла бы слишком поздно!..
Я отперла свою шкатулку для драгоценностей и вынула спрятанную там смертоносную вещь – яд, который мне доверил один из докторов, лечивших мою мать.
– Держите его под ключом, – сказал он, – и помните, что оно только для наружного употребления. В этой склянке его достаточно, чтобы убить десять человек, если проглотить по ошибке.
Я смотрю на него с удивлением. Он бесцветный, и его едва ли хватит, чтобы наполнить чайную ложку… Однако… Он даст мне вечную тьму и навсегда скроет от меня чудесную сцену Вселенной… Так мало, чтоб сделать так много!.. Я надела на талию свадебный подарок Лючио – прелестную змею из драгоценных камней, которая обвилась вокруг меня, словно ей было поручено передать от него объятие… Ах, если б я могла обманываться такой приятной фантазией!.. Я дрожу, но не от холода или страха: это просто возбуждение нервов, инстинктивное отвращение плоти и крови от перспективы близкой смерти…
Как ярко светит сквозь окна солнце! Его бесчувственный золотой взор видел столько умирающих в муках созданий, и ни одно облачко не затмило его лучезарность, выражая сожаление! Я думаю, что если бы Бог существовал, он был бы таким же, как солнце – сияющим, неизменным, неприступным, прекрасным, но безжалостным!
Из всех разнообразных типов человеческих существ, мне кажется, больше всего я ненавижу тех, кого называют поэтами. Я любила их и верила им, но теперь я знаю, что они – только ткачи лжи, строители воздушных замков, в которых ни одна трепещущая жизнь не может дышать, ни одно усталое сердце не найдет приюта. Любовь – их главный мотив; они или идеализируют, или унижают ее, а о той любви, которую ищем мы, женщины, у них нет понятия. Они могут воспевать или животную страсть, или этические запреты; об огромной взаимной симпатии, о бескорыстной терпеливой нежности, которая делает любовь любовью, им нечего сказать. Между их преувеличенной эстетикой и разнузданной чувственностью моя душа была вздернута на дыбе и растерзана колесованием… Я думаю, не одна несчастная женщина, познавшая разочарования любви, проклинает их так же, как и я!
Думаю, я уже готова. Больше мне нечего сказать. Я не ищу для себя оправданий. Я такая, какая есть, – гордая и непокорная женщина, своенравная и чувственная, не видящая дурного в свободной любви и преступления в супружеской неверности, и если я порочна, я могу честно заявить, что мои пороки поощрялись большинством литературных наставников моего времени. Я вышла замуж, как выходит замуж большинство женщин моего круга, только из-за денег; я любила, как любит большинство женщин моего круга, за внешнюю привлекательность; я умираю, как умрет большинство женщин моего круга, естественно или совершив самоубийство, в совершенном неверии, радуясь тому, что нет ни Бога, ни будущей жизни…
Мгновение назад я держала яд в руке, готовая выпить его, но вдруг почувствовала, что кто-то крадучись подходит ко мне сзади; взглянув быстро в зеркало, я увидела… мою мать! Ее лицо, жуткое и отвратительное, каким оно было в последний период ее болезни, отражалось в стекле, выглядывая из-за моего плеча! Я повернулась – она исчезла! И теперь я содрогаюсь от холода и чувствую холодный пот, выступивший у меня на лбу; машинально я намочила носовой платок духами из одного из серебряных флаконов на туалетном столике и протерла им виски, чтобы прийти в себя от болезненного обморочного ощущения. Прийти в себя! Как глупо с моей стороны, когда я собираюсь умереть. Я не верю в привидения, между тем могу поклясться, что моя мать действительно только что была здесь; конечно, это была оптическая иллюзия моего возбужденного мозга. Сильный запах от носового платка напоминает мне Париж, я вижу магазин, где купила эти духи, и франтоватого приказчика с напомаженными усиками и непередаваемой французской манерой делать комплименты без слов, выписывая чек…
Рассмеявшись при этом воспоминании, я увидела в зеркале свое засиявшее лицо: мои глаза блестят, и ямочки возле губ то появляются, то исчезают, придавая его выражению очаровательную мягкость. Между тем через несколько часов эта красота будет уничтожена, а еще через несколько дней черви будут кишеть там, где теперь играет улыбка.
Я вдруг подумала, не стоит ли мне произнести молитву. Она была бы лицемерной, но подобающей случаю. Чтобы умереть прилично, необходимо посвятить несколько слов церкви. И все же… встать на колени, сжимая руки, и сообщить бездействующему, безжалостному, эгоистичному, продажному сообществу, называемому церковью, что ты собираешься убить себя из-за любви и порожденного ею отчаяния, а потому смиренно просишь у него за это прощения, показалось мне нелепым, столь же нелепым, как сказать об этом несуществующему Божеству. Полагаю, ученые не думают о том, в какое странное состояние приводят в час смерти человеческий ум своими передовыми теориями. Они забывают, что на краю могилы являются мысли, от которых нельзя отмахнуться и которые нельзя усмирить научными тезисами… Однако я не хочу молиться; мне кажется, это будет трусостью, если я, не читавшая молитв с самого детства, стану теперь лепетать их в глупой надежде задобрить невидимые силы.
Я задумчиво, в каком-то оцепенении смотрела на маленький флакон из-под яда в моей руке. Теперь он совершенно пуст. Я проглотила всю содержавшуюся в нем жидкость до последней капли, выпила ее быстро и решительно, как пьют противное лекарство, не оставляя себе времени на размышления или колебания. Вкус у яда едкий и жгучий, но я пока не чувствую никаких странных или болезненных ощущений. Я стану следить за своим лицом в зеркале и замечать приближение смерти: это будет, во всяком случае, новое и не лишенное интереса ощущение…
Моя мать здесь – здесь, со мной, в этой комнате! Она беспокойно ходит туда-сюда, делает отчаянные жесты и пытается что-то сказать. Она выглядит так же, как перед смертью, – только более живой и более разумной. Я следовала за ней по пятам, но не могла до нее дотронуться – она ускользала от моих прикосновений. Я позвала ее: «Мама! Мама!» – но ни один звук не слетел с ее бледных губ. Ее лицо так страшно, что меня охватил ужас и я упала перед ней на колени, умоляя ее уйти; тогда она остановилась в своем движении взад и вперед и улыбнулась! Что за безобразная это была улыбка!
Я думаю, что я потеряла сознание… так как очнулась, лежа на полу. Острая, мучительная боль пробежала по моему телу и заставила меня вскочить на ноги… Я до крови кусала губы, чтоб не закричать от испытываемых мною страданий и не переполошить дом.
Когда приступ прошел, я увидела мою мать, стоявшую почти рядом, безмолвно следившую за мной со странным выражением удивления и раскаяния. Шатаясь, я прошла мимо нее и опустилась в кресло, где сейчас сижу; теперь я спокойнее и способна сознавать, что она – только призрак, порожденный моим мозгом; я воображаю, что она здесь, хотя знаю, что она умерла.
Неописуемые муки сделали из меня на несколько минут корчащееся, стонущее, беспомощное существо. Действительно, эта микстура смертоносна; страдание ужасно… ужасно… Оно свело судорогой каждый мой член и заставило трепетать каждый нерв.
Глядя в зеркало на свое лицо, я вижу, что оно уже изменилось, осунулось и мертвенно побледнело – с губ исчезла свежая розовая краска, глаза неестественно выпучились… В уголках рта и на висках залегли синие тени, и я замечаю необыкновенно сильную пульсацию в горле. Каковы бы ни были мои мучения, лекарства теперь нет – и я решила сидеть здесь и изучать мои черты до конца. «Жница, имя которой Смерть», наверное, близко, готовая собрать своей костлявой рукой мои длинные волосы, как сноп спелого зерна… мои бедные прекрасные волосы! Как я любила их блестящие волны, расчесывала их, пропускала между пальцев… И как скоро они окажутся в земле, где будут лежать подобно промерзшим сорнякам!
Огонь пожирает мой мозг и мое тело, я вся пылаю, во рту у меня пересохло от жажды; я выпила несколько глотков холодной воды, но легче мне не стало. Солнце светит горячо, как открытая печь… Я пробовала встать, чтобы опустить шторы, но не нашла в себе сил подняться. Сильный свет ослепляет меня; серебряные туалетные ящики на столе сверкают, как лезвия сабель. Только благодаря могучему усилию воли я могу продолжать писать; голова у меня кружится, горло сдавило…
На мгновение мне кажется, что я умираю… Мучительная боль разрывает меня, я могла бы позвать на помощь и сделала бы это, если б у меня остался голос. Но я могу говорить только шепотом, я бормочу свое собственное имя: «Сибилла! Сибилла!» – и едва слышу его. Моя мать стоит возле меня – по-видимому, ожидая; только что мне показалось, будто она сказала:
– Пойдем, Сибилла! Пойдем к твоему возлюбленному!..
Теперь я ощущаю глубокую тишину повсюду, меня охватило полное онемение, боль волшебным образом отступила, но я вижу свое лицо в зеркале и знаю, что это – лицо мертвой. Все скоро кончится; несколько мучительных вздохов – и я обрету покой. Я рада этому, так как свет и я никогда не были добрыми друзьями; я уверена, если бы мы могли до рождения знать, какова жизнь на самом деле, мы бы ни за что не стали жить.
…Вдруг я ощутила жуткий страх. Что, если смерть не то, чем считают ее ученые: вдруг это лишь иная форма жизни? А может, я теряю одновременно и рассудок, и мужество?.. И что означает это ужасное предчувствие, овладевающее мною?.. Я начинаю колебаться… странный ужас охватывает меня… Я больше не чувствую физической боли, но что-то худшее, чем боль, гнетет меня… чувство, которое я не могу определить. Я умираю… умираю!.. Я повторяю это себе в утешение… Через короткое время я буду глуха, слепа и лишена сознания… Почему же тогда тишину вокруг меня нарушает шум? Я прислушиваюсь… и явственно слышу звук безумных голосов, смешанных с грохотом и раскатами отдаленного грома!.. Моя мать придвинулась ближе ко мне, она протянула руку, чтоб дотронуться до моей!..
О Господи!.. Позволь мне писать, писать, пока я еще могу! Позволь мне крепко держать нить, связующую меня с землей, дай мне время, время до того, как я улечу и растворюсь в далекой темноте и пламени! Позволь мне написать для других ужасную Правду, какой я вижу ее, – Смерти нет! Вообще нет! Я не могу умереть! Я выхожу из своего тела; я вырываюсь из него дюйм за дюймом в необъяснимых мистических муках, но не умираю, я переношусь в новую жизнь, неясную и беспредельную!.. Я вижу новый мир, полный темных образов, имеющих смутные очертания и в то же время бесформенных! Они летят ко мне, подавая мне знаки. Я в полном сознании, я слышу, я думаю, я знаю! Смерть – лишь человеческая мечта, утешительная фантазия; на самом деле ее нет, в мире есть только жизнь! О горе! Я не могу умереть! В своем смертном теле я едва способна дышать; перо, которое я стараюсь держать, пишет скорее само, чем направляемое моей колеблющейся рукой, но эти страдания – муки рождения, а не смерти!..
Я сопротивляюсь, всеми силами души борюсь, чтоб не погрузиться в ту черную бездну, которую вижу перед собой, но моя мать тянет меня с собой, я не могу оттолкнуть ее! Теперь я слышу ее голос, она говорит отчетливо и смеется, но ее смех похож на плач: «Иди, Сибилла! Душа дитя, которое я выносила, иди навстречу своему возлюбленному! Иди и смотри, кого ты любила! Душа женщины, которую я воспитала, возвращайся туда, откуда ты пришла!» Я продолжаю бороться, дрожа, я смотрю в темную пустоту – и вижу рядом со мной крылья огненного цвета; они наполняют пространство, они окружают меня, они гонят меня вперед, они проносятся мимо и колют меня, точно стрелами и градом!..
Позволь мне писать дальше… писать этой мертвой тленной рукой… Еще одно мгновение, страшный Бог!.. Еще одно мгновение, чтобы написать Правду, ужасную правду о смерти, самая темная тайна которой – Жизнь, неизвестная людям! Я живу! Новая, сильная, стремительная жизненность овладела мной, хотя мое тело почти мертво! Оно еще хватает воздух, и слабая дрожь пробегает по нему, и я, находясь вне его и больше не принадлежа ему, заставляю его ослабевшую руку писать эти последние слова: я живу! К моему отчаянию и ужасу, к моему сожалению и мучению, я живу! О, невыразимое горе этой новой жизни! Но хуже всего то, что Бог, в Котором я сомневалась, Бог, Которого меня учили отрицать, этот оскорбленный и поруганный Бог существует! И я могла бы найти Его, если б хотела, – это знание овладело мною, когда меня увлекало отсюда, и тысяча голосов кричит мне об этом!.. Слишком поздно! Слишком поздно! Багряные крылья бьют меня, эти странные, неясные образы окружают меня и уносят вперед… в дальнейшую темноту… среди ветра и огня!..
Послужи мне еще немного, умирающая рука, пока я не уйду… Мой измученный дух должен удержать тебя и заставить написать то, что нельзя назвать, но что земные глаза могут прочесть и что станет своевременным предостережением земным душам!.. Я узнала наконец, кого любила! Кого выбрала, кого боготворила! О Господи, будь милосерден!.. Теперь я знаю, кто требует моего поклонения и тянет меня в далекий вращающийся мир пламени… его имя…»
На этом рукопись заканчивалась – неполная, прерванная внезапно, и на последней фразе виднелось чернильное пятно, как будто перо было силой вырвано из омертвевших пальцев и поспешно брошено на бумагу.
Часы в западной комнате опять пробили. Дрожа, я встал со стула. Самообладание изменило мне, и я наконец почувствовал страх. Я искоса посмотрел на свою мертвую жену – ту, которая сверхъестественным усилием объявила себя живой, которая каким-то невероятным образом смогла, по-видимому, писать после смерти в неистовом желании сделать ужасающее заявление, которое тем не менее ей сделать не удалось! Окоченевший труп теперь внушал мне настоящий ужас, и я не смел дотронуться до него, я едва мог смотреть на него… Каким-то смутным, необъяснимым образом я чувствовал, что «багряные крылья» окружали его, ударяя меня и одновременно продвигая вперед!
Зажав письмо в руке, я нервно наклонился, чтобы потушить восковые свечи на туалетном столике… На полу я увидел носовой платок, издававший аромат французских духов, о которых написала покойная; я поднял его и положил рядом с ней, там, где она сидела, страшно ухмыляясь собственному отражению в зеркале. Мои глаза уловили блеск драгоценной змеи, обвивавшей ее талию, и мгновение я смотрел на ее зеленое сияние в немом очаровании, затем, двигаясь осторожно, чувствуя, как по спине от охватившего меня ужаса стекает холодный пот, повернулся, чтобы выйти из комнаты. Когда я дошел до портьеры и поднял ее, что-то заставило меня оглянуться на жуткий образ первой «светской» красавицы, которая сидела застывшая, мертвенно-бледная перед своим застывшим, мертвенно-бледным отражением в зеркале. Отличная была бы иллюстрация, подумал я, для какой-нибудь фривольной и лицемерной дамской газеты!
«Так ты говоришь, что ты не умерла, Сибилла? – громко произнес я. – Не умерла, а живешь! Тогда, если ты жива, где же ты, Сибилла? Где?» Тяжелое молчание, казалось, было исполнено страшного значения; свет электрических ламп, падая на труп и мерцая на покрывавшем его шелковом одеянии, казался неземным, а благоухание в комнате приобрело запах земли. Паника овладела мною, и, бешено отдернув портьеру, так что все ее складки сдвинулись вместе, я бросился бежать, чтобы не видеть ужасной фигуры женщины, телесную красоту которой я любил, как обычно любят чувственные люди, – и оставил ее без прощального поцелуя жалости или прощения на ее холодном лбу. Ведь… в конце концов, я должен был думать о себе… а она была мертва.
XXXVII
Я пережил все проявления вежливого «потрясения», трогательной скорби и притворного сочувствия общества к внезапной смерти моей жены. В действительности же она никого не огорчила: мужчины приподнимали брови, пожимали плечами, выкуривали лишнюю сигарету и спешили сменить тему разговора, ибо эта была слишком неприятна и безрадостна; женщины были рады избавиться от слишком красивой, вызывавшей восхищение соперницы, и большая часть светской публики с восторгом обсуждала трагические обстоятельства ее кончины. Как правило, люди редко искренне огорчаются уходу какого-нибудь выдающегося члена общества: это создает свободное место для посредственности. Будьте уверены: если вы, к своему несчастию, отмечены красотой, умом или остроумием, или же всеми этими качествами одновременно, половина общества желает вашей смерти, а другая половина старается сделать вас как можно более несчастным, пока вы еще живы. Чтобы о вас горевали после вашей смерти, кто-то должен любить вас глубоко и самоотверженно; а глубокая, самоотверженная любовь среди смертных встречается реже, чем жемчуг в мусорной корзине.
Благодаря тому, что у меня не было недостатка в наличности, все неприятности, связанные с самоубийством Сибиллы, были улажены. Принимая во внимание ее общественное положение как дочери графа, два доктора (получившие от меня весьма приличное вознаграждение) удостоверили, что ее смерть наступила «по несчастной случайности», а именно из-за приема по нечаянности слишком большой дозы снотворного.
Это было самое лучшее заключение и самое благопристойное. Оно дало возможность дешевым газетам порассуждать об опасности снотворных вообще, и Том, Дик и Гарри написали письма в свои любимые издания (подписав их своими настоящими именами), в которых изложили собственное мнение о снотворных лекарствах, так что в продолжение по крайней мере недели обычную скуку газет заметно оживляли малограмотные бесплатные «тексты».
Условности закона, приличий и порядка были полностью соблюдены – всем было заплачено (что самое главное) и все, как мне показалось, были удовлетворены своей частью посмертных выплат.
Похороны порадовали души всех, кто был к ним причастен, – настолько они вышли пышными и внушительными. Цветочная торговля получила нечто вроде нового стимула к развитию благодаря бесчисленным заказам на венки и кресты из самых дорогих цветов. Когда гроб принесли к могиле, его не было видно под грудой покрывавших его цветов. Но среди всех этих «символов любви» и трогательных надписей, сопровождавших белые массы лилий, гардений и роз, символизировавших, как предполагалось, невинность и прелесть отравленного тела, не было ни одного искреннего сожаления, ни одного непритворного выражения истинной скорби. Лорд Элтон представлял собой довольно убедительное воплощение родительского горя, но, думаю, он был не слишком удручен смертью дочери, поскольку с ней исчезло единственное препятствие к его женитьбе на Дайане Чесни. Мне показалась, что сама Дайана была опечалена, насколько может быть чем-нибудь опечалена такая легкомысленная маленькая американка, хотя будет правильнее сказать, что она была скорее испугана. Внезапная смерть Сибиллы ошеломила и встревожила ее, но я не уверен, что она горевала о ней.
Какая огромная разница между истинным горем и просто нервным потрясением! Мисс Шарлотта Фицрой приняла известие о смерти племянницы с тем удивительным мужеством, которое часто своейственно набожным старым девам в известном возрасте. Она отложила свое вязание и сказала: «На все воля Господа!» – после чего послала за своим любимым духовником. Он пришел, просидел с ней несколько часов, попивая крепкий чай, а на следующее утро в церкви причастил ее. Покончив с этим, мисс Фицрой продолжила следовать своему безупречному и сдержанному образу жизни, все с тем же выражением добродетельной встревоженности на лице, больше не выказывая никаких чувств. Я, как убитый горем муж-миллионер, без сомнения, был самым интересным лицом в драме; я знал, что выглядел отлично благодаря моему портному и предупредительной заботливости главного распорядителя, который в день похорон с сочувственной учтивостью подал мне черные перчатки, но в душе я ощущал себя актером почище Генри Ирвинга. Лючио не присутствовал при погребении; он прислал мне из города короткую записку с соболезнованием, в которой выразил уверенность, что я пойму причину его отсутствия. Я, разумеется, понял и оценил его уважение, как я думал, ко мне и моим чувствам. Однако, каким бы странным и нелепым это ни казалось, я никогда так не нуждался в его обществе, как в тот день!
Между тем похороны моей прекрасной и неверной жены были блистательны: запряженные лучшими лошадьми, украшенные коронами кареты растянулись вереницей от очаровательных тропинок Уорикшира до старой церкви, живописной и мирной, где священник со своими помощниками, в свежевыстиранных стихарях, встретили заваленный цветами гроб обычными приличествующими случаю словами и совершили обряд предания его земле. Присутствовали даже репортеры, которые не только описывали сцены, каких не было, но и послали в свои уважаемые журналы рисунки церкви, не соответствовавшие действительности. После церемонии все «скорбящие» вернулись в Уиллоусмир обедать, и я хорошо помню, что лорд Элтон рассказал мне за стаканом портвейна, прежде чем мы встали из-за стола, новый рискованный анекдот. В помещении для прислуги участникам похоронной команды устроили нечто вроде праздничного банкета; и, приняв все это во внимание, я заключил, что смерть моей жены доставила многим большое удовольствие и наполнила деньгами несколько с готовностью подставленных карманов. Она не оставила в обществе пустоты, которую было бы нелегко заполнить: она была лишь одной из тысячи бабочек – может быть, более изысканно окрашенной и более оживленно порхающей, но о ней никогда не судили иначе как о бабочке.
Я сказал, что никто искренне не сожалел о ней, но я ошибся. Горе Мэвис Клер было искренним и почти безутешным. Она не прислала цветов, но лично явилась на похороны и стояла немного в стороне, безмолвно ожидая, пока засыплют могилу, и потом, когда «модная» процессия двинулась от церковного двора, подошла и положила белый крест из лилий, сорванных в ее собственном саду, на свеженасыпанную землю. Я заметил ее поступок и решил, что прежде, чем я уеду из Уиллоусмира на Восток с Лючио (так как моя поездка была отложена лишь на неделю или две из-за смерти Сибиллы), она узнает все.
Настал день, когда я исполнил это решение. Это был холодный дождливый день, и я нашел Мэвис в ее рабочем кабинете сидевшей у яркого огня с крошечным терьером на коленях и верным сенбернаром, распростертым у ее ног. Она была погружена в чтение, а за нею наблюдала мраморная Паллада, непоколебимая и строгая. Когда я вошел, она встала и, отложив книгу и маленькую собачку, пошла мне навстречу со светившимся в ее ясных глазах сочувствием и с безмолвным сожалением в трепетавшей линии нежного рта. Мне было приятно видеть, какую жалость она испытывает ко мне, и странно было, что сам я не чувствовал никакой жалости. Произнеся несколько неловких слов приветствия, я сел и молча следил за нею, пока она занималась дровами в камине, чтобы заставить его ярче гореть, мгновение избегая моего взгляда.
– Я полагаю, вам известно, – начал я с грубой прямотой, – что история со снотворным – выдумка для общества? Вы знаете, что моя жена сама намеренно отравилась?
Мэвис взглянула на меня со смущенным и сочувственным выражением.
– Я опасалась, что это так… – начала она нервно.
– О, тут нет никаких причин опасаться или надеяться, – произнес я довольно резко. – Она сделала это. И можете ли вы догадаться, почему? Потому, что обезумела от своей порочности и сладострастия, потому что любила преступной любовью моего друга Лючио Риманца.
У Мэвис вырвался слабый болезненный крик, и она села, бледная и дрожащая.
– Я уверен, что вы быстро читаете, – продолжал я. – Литераторы имеют способность быстро пробегать книги и в несколько минут ухватить их главную суть. Прочтите это, – и я протянул ей свернутые страницы предсмертной исповеди Сибиллы. – Позвольте мне остаться здесь, пока вы узнаете, какого рода женщиной она была, и судите сами, достойна ли она сожаления, несмотря на всю ее красоту!
– Простите, – мягко сказала Мэвис, – но я бы не хотела читать то, что не предназначалось для моих глаз.
– Но это предназначалось для ваших глаз, – возразил я нетерпеливо. – По-видимому, это предназначалось для всех – это никому не адресовано. Тут есть упоминание о вас. Я прошу – нет, я требую, чтобы вы прочли это! Мне нужно ваше мнение, ваш совет. Быть может, по прочтении вы подадите мне мысль о какой-нибудь эпитафии, которую я написал бы на монументе, который собираюсь воздвигнуть в ее священную и дорогую мне память!
Я поднес руку к лицу, чтобы скрыть горькую усмешку, выдававшую мои мысли, и подтолкнул к ней рукопись. Очень неохотно она взяла ее и, медленно развернув, принялась читать.
На несколько минут воцарилось молчание, нарушаемое только потрескиванием дров в камине и мерным дыханием собак, которые теперь обе лежали, распростершись перед огнем. Я украдкой смотрел на женщину, славе которой завидовал, – на ее девичью фигуру, на корону шелковистых волос, на изящное опущенное лицо, на ее маленькую белую ручку, державшую исписанные листы так твердо и в то же время так нежно, настоящую руку греческой Психеи, – и думал, какие близорукие ослы многие литературные критики, полагающие, что могут помешать таким женщинам, как Мэвис Клер, получить все, что может дать слава. Такая головка, как ее, пусть и покрытая светлыми локонами, не была ли предназначена своей прекрасной формой для покорения более слабых умов мужчин и женщин? Этот решительный маленький подбородок, деликатно обрисованный огнем, пылавшим в камине, свидетельствовал о силе воли и неукротимых высоких стремлениях своей хозяйки. И в то же время добрые глаза, нежный рот – не говорили ли они о самой сладкой любви, о самой чистой страсти, какие когда-либо находили место в женском сердце? Я погрузился в мечтательную задумчивость; я думал о вещах, имевших мало отношения к моему прошедшему и настоящему. Я понял, что время от времени, в редкие промежутки, Бог создает женщину-гения с умом мыслителя и душой ангела и такая женщина является образцом для всех смертных, менее божественно одаренных, и прославляет тот мир, в котором живет.
Размышляя так, я наблюдал за лицом Мэвис Клер и увидел, что ее глаза наполнились слезами, пока она читала. Почему она плачет, подумал я, над этим «последним документом», ничуть не тронувшим меня? Я вздрогнул, словно очнувшись от сна, когда ее голос, дрожащий от скорби, нарушил тишину; она вскочила, глядя на меня, как на какое-нибудь страшное видение.
– О, неужели вы так слепы, – крикнула она, – что не видите, что это означает? Разве вы не понимаете? Разве вы не знаете вашего злейшего врага?
– Моего злейшего врага? – повторил я, пораженный. – Вы удивляете меня, Мэвис. Какое отношение имею я, или мои враги, или мои друзья к последней исповеди моей жены? Она бредила под воздействием яда и страсти, она не могла даже сказать, как вы видите из ее последних слов, мертва она или все еще жива, и то, что она писала под давлением таких обстоятельств, само по себе было следствием феноменального усилия, но это не имеет отношения ко мне лично.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































