Текст книги "Могусюмка и Гурьяныч"
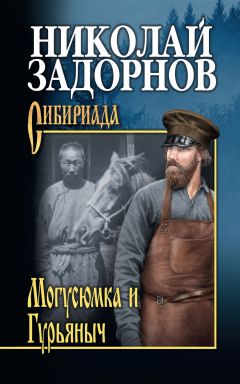
Автор книги: Николай Задорнов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Глава 28. Набег
Рахим, испуганный и бледный, отступал к дому. На него наседал рослый Ахмет, одутловатый башкирин с черными усами, бывший солдат.
– А ты зачем такой разговор ведешь? Зачем, я тебя спрашиваю? – кричал Ахмет. – Когда ты хорошее говорил, мы тебя слушали. А теперь ты что хочешь? Какое имеешь право государственную измену замышлять? Спрашиваю тебя, отвечай! Какое имеешь право? Молчишь… Лучше уйди отсюда, из нашей деревни, а то в волостное тебя потащим!
Ахмет воевал с французом, был ранен, награжден под Севастополем медалью.
– Моих товарищей убили, их муллы благословляли на смерть! Зачем старое поминать? Старое совсем. Другое дело. Ты на старое не указывай. Хивы и Турции тогда не касалось. Тогда свое дело было. А ты государственную измену замышляешь. Зачем ты государственную измену хочешь делать? Зачем народ подбиваешь? И так плохо жить нам. А? Кто тебя послал? Отвечай! – в бешенстве схватил солдат Рахима. – Тебя за государственную измену могу в волостное. Зачем так учишь?
– Ты Мухаммеду веришь? – грозно выкатил глаза Рахим.
Как только Рахим стал поминать пророка и Коран, все стихли.
– Верю! Молитвы знаю! Татарские песни пою! В Бога верю!
– Так сознай свой грех! На Страшном суде же поздно будет! Тот, кто раскаивается лишь перед смертью, не будет прощен!
– Какой грех? Про русских в Коране не сказано ни слова! Тогда на Севастополь мулла приехал, благословил нас! Как же нас тогда мулла на войну за царя и Отечество благословил против француза и турка? Что, мулла обманщик, что ли, у нас был? Или ты обманщик?..
– Аллах указал…
Солдат не сдавался.
– Аллах не велел! Врешь! Теперь на Хиву поход будет! Башкиры на Хиву пойдут, целый полк… При Перовском башкиры первые шли на Хиву! Ты марш Перовского – песню нашу – знаешь? Весь народ поет. Хватай его!.. – вдруг закричал солдат. – И представим…
В голове солдата, видавшего смерть в бою за Отчизну, не укладывалось, как можно по-разному толковать Коран.
– Худо будет! – громко и отчаянно вскричал Рахим, силясь вырвать руки.
– Вяжи его! В волостное! – закричал старик в белой войлочной шляпе.
Кагарман выступил из толпы.
– Я долго молчал, – сказал он. – Но зачем требуешь бунта? Султану наших детей не жалко! Ему землю нашу надо продать.
– Они тут проделки затевают! – закричал солдат.
Народ двинулся на Рахима.
– В Коране сказано: «Не заметил ли тех, которым было глаголено: воздержите руки ваши от войны, будьте постоянны в молитвах и раздавайте законные милостыни?» – грозно заговорил Рахим.
Толпа опять стихла.
– «Когда им повелено изыти на войну, смотри! – Рахим показал прямо на солдата. – Они убоялись людей, как должны были убояться Бога. Господи! Почто повелел нам идти на брань и не попустил дождаться конца нашего, уже приближающегося, скажи им: запас сей жизни мал; но запас для будущей жизни полезней будет для боящегося Бога; и с вами в день Судный сотворится точно, как повелевает правда».
Как только поминались священные истины, все цепенели. В это время во двор въехала целая группа всадников в чалмах. Муфтий из Уфы, из духовного управления мусульман, держал путь в Оренбург, пробираясь тропами, желая побывать в самых глухих деревушках. Услышав, что происходит во дворе у кузнеца, он поспешил сюда. До муфтия в Уфу уже дошли вести о том, что за Уралом появился странник, выдающий себя за посланца из Мекки и ведущий вредную проповедь. Об этом писал маленький мулла из горной деревни. Муфтий понял, что нечаянно встретил самого проповедника.
Глава мусульман России – могучий, плечистый старик. У него большое лицо, выдающиеся скулы, широкие челюсти и высохшие, запавшие щеки. Огромные глаза навыкате, косой лоб, чалма на голове. Это человек образованный, он знает арабскую литературу и по-русски прекрасно читает. Когда-то учился он в Казанском университете, получил европейское образование, выписывает русские и немецкие газеты. В должности муфтия утвержден ныне царствующим императором Александром Вторым.
– Ложь! – громко и твердо сказал муфтий.
Рахим пытался затеять спор. Старик муфтий рассердился и велел схватить его. Рахима обезоружили, посадили на телегу и в тот же день увезли в волость, в соседнее село. А муфтий сказал, что этот человек лжец, неверно толкует Коран, он лазутчик. Муфтий обещал просить в Оренбурге, чтобы общину не трогали, не сгоняли с земли.
Муфтий за свою жизнь много передумал о судьбе мусульманства в России. Сам он верил в Бога, полагал, что Бог един, но что различные веры сложились в результате различных исторических условий и что вражда между ними – дело прошлого и это в будущем все поймут. Он бывал в Мекке, в Константинополе, знал, какая нищета в арабских странах, что там масса разбойников, опасно ходить паломникам в святые места, часто их грабят. Он отчетливо понимал, что именем мусульманской религии пытаются втянуть целые народы во вражду с Россией, заставить магометан воевать как будто за веру, а на самом деле совсем за иное. Муфтий не желал несчастий башкирам.
День клонился к вечеру, но жара не спадала. Степь, опаленная засухой, желтела на холмах и по склонам гор.
Меж скалистых холмов, на которых не видно было ни единого куста, ни деревца, тропа проскользнула на берег просторного озера.
Могусюмка с товарищами шел в набег. После жаркого, истомляющего дня вид воды, голубевшей меж голых кряжей, манил к себе. Здесь, вдали от большой дороги, всадники остановились на привал.
Легкий ветер колебал поверхность озера. Волны набегали на пологие берега. На середине озера виднелся маленький скалистый островок. На его белых камнях выросло несколько очень высоких голенастых берез с обильной зеленью в вершинах. В жаркий день они походили на те пальмы, которые ткут на восточных коврах. Но пальмы далеко-далеко… А тут камень, сосны, березы.
Башкиры, поджав ноги, расселись на берегу и молча наблюдали бег волн.
Ждали, когда стемнеет. Поговорили о событиях. Уже знали о поимке Рахима. Тот по дороге сбежал. Видно, Султан подослал своих людей. Сопровождавшему Рахима уфимскому мулле из свиты муфтия в схватке разрубили топором плечо.
Ночь наступила быстро. Все еще стояла жара. Выехали на большую дорогу и поскакали друг за другом в сплошном облаке пыли.
Налет на Юнусово произошел в полночь. Переправившись через реку, Могусюмка с четырьмя джигитами примчался в село. Осадили коней напротив мечети у высоких ворот дома Султана Темирбулатова.
Хурмат перескочил с седла на ограду и открыл запоры. Во дворе ночевали караванные погонщики с верблюдами и лошадьми. Они готовились к отправке грузов на постройку нового медеплавильного завода.
Могусюмка выстрелил из ружья и крикнул, чтобы все ложились.
– Разбойник, разбойник! – завопили караванные работники.
Снова раздался выстрел.
– Ложись! – грозно прокричал Хурмат, и все, кто был во дворе, повалились на траву.
Ревели верблюды, и ржали лошади. Хибет и Могусюм ломились в дом.
Гюльнара не пускала их.
– Ты не войдешь сюда, разбойник, ты не посмеешь грабить!.. Тебя накажет Аллах…
Сильным ударом Могусюм вырвал дверь.
Зажгли огонь. Султана нигде не было. Схватили Гильмана и Гулякбая и потащили их во двор. Они клялись, что еще вчера русские увезли Султан-бая в город. Могусюм желал мести, но он не хотел тратить зря свою злобу и не стал избивать родичей Султана: не они отобрали его невесту.
Могусюм открыл ту самую дверь, через которую его выпустила Зейнап.
– Зейнап!.. – кинулся Могусюмка.
Ее освободили от веревок и бережно отнесли в домик. Ей принесли платье, шаль, сапоги, красный суконный кафтан и серебряные украшения.
– Где Султан? Он бежал? – спрашивал Могусюмка.
– Нет… – слабо отвечала она.
– Идем со мной… Идем домой, на волю, в леса…
– Исправник увез мужа в город…
– Он не муж тебе.
– Меня проклянут… Могусюм, я погибла! Султана русские схватили. Что мне делать? Я боюсь закона… А муж меня загубит…
– Идем в леса, там у нас будет свой закон. Прочь закон лжи!
Могусюм спросил Гильмана и Гулякбая, что случилось, почему их хозяин у властей в немилости.
– Исправник винит во всем Султан-бая, что ты бежал, – рассказывал Гулякбай. – Сказал, что больше ему не верит. Увез с собой в Оренбург.
«Пусть бы его в тюрьме сгноили!» – подумал башлык. Он втолкнул обоих родичей бая в погреб.
Джигиты забрали ружья, пять фунтов рассыпного и самородного золота, целый мешок серебряных монет, видимо, собранных Рахимом. Мешок этот стоял в спальне бая. Забрали халаты, кафтаны, шубы.
Захватив всех лошадей, джигиты двинулись в обратный путь.
На небе ярко горела Большая Медведица. Рядом с Могусюмом на верховом аргамаке скакала красавица Зейнап.
С востока дул жаркий ветер.
Дом оренбургского генерал-губернатора с огромным садом выходил на главную улицу. Стояла жара. Откуда-то с юго-востока, из пустынь дул горячий ветер.
В приемной у губернатора множество живых цветов, пальмы, картины, в кабинете четыре огромных полукруглых окна, портреты, массивный стол.
Сам губернатор – невысокий, очень полный, с багровым лицом. Узнав о событиях, происшедших в Юнусове, он решил показать, что не придает им большого значения. Были события поважней.
В Оренбурге шла большая подготовка к походу на Хиву. Съехалось множество интендантов. Подходили войска. Прибыли офицеры Генерального штаба. Ждали, что, быть может, приедет известный художник Верещагин, который был в Бухарском походе. Должны были явиться несколько газетных корреспондентов.
Генерал-губернатор обсуждал дело о пойманных шпионах со своими ближайшими людьми. Гражданский губернатор, худой, седеющий человек с поблекшими от старости голубыми глазами, прямым носом и худыми, жесткими руками, надушенный и модный, стоял за строгие меры.
– Что вы, господа, волнения желаете вызвать? – возражал ему генерал-губернатор.
– Исправник, мне кажется, совершенно прав. Нужна осторожность…
– Да он сам взятки брал у этого Султана!
– Об этом я еще буду говорить с ним.
Губернатор подумал о том, что пятнадцать лет тому назад, при императоре Николае, когда здесь был генерал-губернатором Василий Алексеевич Перовский, за такой случай ухватились бы обеими руками. Немедленно пошла бы карательная экспедиция, в ход пустили бы шпицрутены. Этих мулл и кулаков, у которых скрывались шпионы, рекомендовавшие себя проповедниками, забили бы в колоду. Теперь другой подход. Зачем бессмысленно озлоблять? Башкирские крестьяне неповинны в том, что шпион так далеко забрался. Другое дело Темирбулатов.
Губернатор потребовал исправника, который в этот день только что вернулся в Оренбург и привез с собой Султана.
Иван Иваныч, волнуясь, вошел в кабинет. Еще по дороге в степи много думал он о происшедших событиях. Стояла жара, он часто пил коньяк, но это не мешало ему смотреть на дело трезво.
– Я осмелюсь сказать, ваше высокопревосходительство, что дело здесь довольно серьезное, и на этот раз необходимо проект Зверева и Хэнтера провалить. А Султана Темирбулатова, несмотря на то что он моим приятелем считается и я всегда был с ним в свойских отношениях, простите за выражение, надо взять в оборот.
Иван Иваныч сказал, что давно подозревал Султана и следил за ним и за всей той волостью, бывал там часто.
Губернатор выслушал исправника внимательно и согласился.
– Ни в коем случае деревню не сгонять, – сказал он. – Не допускайте брожения. Мы не можем всегда плясать под дудку заводчиков.
– Мне кажется, Зверев – авантюрист, подставное лицо, а фактический хозяин Хэнтер, – сказал генерал гражданскому губернатору, когда исправник ушел.
Он вызвал адъютанта.
– Темирбулатова ко мне!
Султан был уже допрошен прокурором и жандармским полковником. Султан и генерал-губернатору ответил то же. Он твердо стоял на своем, что бежать разбойнику помогла жена.
Во время этого разговора на улице послышалась солдатская песня.
Губернатор молча прошелся по кабинету, подошел к одному из окон и распахнул сначала одну, потом другую раму.
Э-эх, зачем я тебя провожала,
Жар безумный в груди затая! —
хлынуло в комнату.
Под окнами двигался сплошной поток блестящих штыков. В длинных белых рубахах, перепоясанных широкими ремнями, и в белых фуражках с большими козырьками от солнца шагали устало, но браво усатые солдаты. Они возвращались с учений, из степи. Их приучали ходить в зной, чтобы на будущий год отправить на Арал и дальше через море в пустыню, в поход на Хиву. Эти белые рубахи и белые фуражки должны спасти их от смертельной жары.
Вы не вейтеся, русые кудри,
Над моею больной головой, —
гремело внизу.
Рота за ротой ползли, как огромные стальные щетки с косой щетиной. Вся улица превратилась в сплошную белую реку. Губернатор взял Темирбулатова за плечо и подвел к окну. Тот невольно зажмурился.
Меж отрядов пехоты иногда проезжал на коне старший офицер, младшие офицеры шагали пешком.
Пи-ишет, пи-ишет
Царь турецкий,
Пи-ишет ру-у-усскому царю, —
подходила под окна новая песня, и с ней новый широкий и дружный строй белых рубах.
Эх, всю Рас-с-с-ею завою-ю-ю,
Сам в Расею жить пойду!
Когда смолкала вдруг песня, слышно было, как под окнами по песку тысячи сапог глухо, но устрашающе грозно держали дружный шаг. И в этом ритмичном звуке, который подобен был ходу часов, силы и согласия было больше, чем в громкой песне.
Двое молодых высоких офицеров в белом шли рядом, впереди белого прямоугольника, кажется, наслаждаясь, что шагают в ногу с этакой громадиной.
Солдатушки, бравы ребятушки, —
запевал в рядах тенорок.
А где ва-а-аши же-ены?
Наши же-е-ены – ружья заряже-ены, —
хором подхватывала вся улица.
Вот где на-а-аши же-е-ны!
– Ты чувствуешь, чем это пахнет, Султан Мухамедьяныч? – спросил губернатор.
Потом прикрыл окно и невесело вздохнул, как бы неохотно возвращаясь к допросу, не сулившему ничего хорошего Султану.
– Что же ты хочешь, чтобы я отдал приказ посадить тебя в тюрьму? – Губернатор знал Султана прежде, жал ему когда-то руку, благодарил за помощь, оказанную голодающим. – Ты не до конца откровенен, и поэтому разговор будет прост. Я тебе не верю! Пеняй на себя. Именем императора, последний раз…
– Жена, ваше высокопревосходительство! – низко кланяясь, твердил Султан.
Губернатор приказал позвать есаула Медведева.
– Вот, Темирбулатов пойдет с вами проводником на ловлю Могусюмки, – сказал он, показывая на Султана. – Я тебя, подлец!.. – вдруг крикнул генерал. – Ты что, думаешь, если самый богатый человек в губернии, так мы будем с тобой церемониться? Ты же шпиона приютил. Его башкиры схватили, возмущенные его словами. Ты не надейся, что он сбежал. Мы поймали его снова, на этот раз он сознался, что ты помог ему бежать. Нет, голубчик, я тебя так просто из своих рук не выпущу!.. Ты забудь, как шутки шутить со мной! Надвое, подлец, играешь! Знай: это у меня уж не первый случай! – сказал губернатор.
В этом году выловили несколько лазутчиков в оренбургской степи. Они пытались поднять восстание киргизов[55]55
Киргизы – так называли тогда казахов.
[Закрыть].
Губернатор и генералы были извещены из Петербурга о происках Хивы, о позиции афганского шаха и о кознях англичан. У губернатора свои лазутчики в Хиве. Он знал через них, например, что туркмены ненавидят хивинского хана.
Русские готовились к походу на Хиву с трех сторон. С берегов Каспийского моря, где в составе отряда – терские казаки, апшеронцы и дагестанские мусульманские сотни, а проводниками – туркмены.
Из Оренбурга должна пойти пехота, а также уральские казаки и башкирская конница.
А с востока, как знал губернатор, в новый поход подымались участники недавнего марша на Бухару.
В тот же день пришло известие, что в деревне Юнусово на дом Султана Темирбулатова совершен был налет и жена его бежала с разбойником Могусюмкой.
Губернатор озаботился искренне, тем более что новость была не из приятных. «Возможно, что в самом деле она помогла бежать Могусюмке… Тогда, может быть, Султан не виновен?» – подумал он, узнав об этом вечером за ломберным столом, и сказал любезно:
– В таком случае жаль ее. Исправник говорит, что она молода и очень мила.
– Да, говорят, прехорошенькая, – подтвердил гражданский губернатор. – И убила своей рукой… Безумие, конечно! Преступная страсть!..
– Какой скандал в нашем магометанском обществе! Значит, был мезальянс… Темирбулатов, старый дурак, высоко оценил себя…
– Да, ваше высокопревосходительство…
Помянули, что на днях приезжает из Петербурга на службу старший сын Темирбулатова, выпущенный из корпуса офицером.
– Надо сознаться, что в магометанстве многое нравится мне, – шутливо говорил губернатор.
Все заулыбались почтительно.
– Позвольте королем… Отлично понимаю магометанство! Серьезно, господа! Но вот явился ко мне, тоже из Петербурга, получивший там образование башкирин Ахметзянов и толкует о желательности открытия светской школы для башкир.
– Что значит – светские школы у башкир? – спросил стриженный ежом, с острыми огромными усами поляк-генерал, недавно приехавший в Оренбург.
– У них все школы при мечетях и учителя – муллы. Грамоты своей нет. Учатся писать по-арабски, по-татарски, по-турецки, – стал объяснять гражданский губернатор. – Так предполагают, чтобы Коран преподавали муллы, а остальные предметы – учителя недуховные. Но тогда пришлось бы башкирам свою письменность изобретать. Пока они желают открытия новых русских школ для своих детей. А знаете ли, разбойник Могусюмка, говорят, не хочет писать по-арабски, так пишет башкирские слова русскими буквами. Ахметзянов тоже что-то в этом духе проповедует.
– Вон чего захотели! – шутливо молвил генерал-губернатор. – Нет уж, пусть молятся Аллаху и в наше общество не лезут! Своих разночинцев достаточно!
Появился лакей с мороженым на подносе.
– Жаль, жаль эту молодую башкирскую даму!.. – продолжал генерал-губернатор, тасуя колоду пухлыми руками. – На что она теперь может рассчитывать? Ведь скоро мы поймаем и повесим ее любовника. Впрочем, хоть миг, да мой!..
Часть третья. Зимняя буря
Глава 29. Лесной курень[56]56
Курень – жилище, дом, шалаш, барак.
[Закрыть]
По лесной дороге к куреню, где в ямах топили древесный уголь, заваливая его землей и дерном, вышли двое мужиков. Один, высокий и плечистый, с темно-русой бородой, был постарше, другой, веснушчатый и рыжий, – помоложе.
Из-за поленницы дров появилась женщина в мужских брюках, лоснившихся от сажи, и в такой блестящей от грязи рубахе, что казалось, она сшита была из листового железа. Лицо ее перемазано сажей. На плече – лом. Она приостановилась и стала вглядываться в обоих путников, отходивших от черной стены елок по вырубленной поляне, на которой видны были торчавшие из-под земли две слабо курившиеся деревянные трубы.
«Никак, бродяги», – подумала она.
На курене оставалось совсем мало людей. Лес для выжигания заготовлен, громадные поленницы стоят, как полуразрушенные крепостные деревянные стены. Лесорубы ушли, до самой зимы у них не будет работы, выйдут снова, когда установится санный путь. Дедушка Филат, да сама куренная хозяйка Варвара, вдова старого углежога, знавшая выжигание не хуже покойника, да девчонка ее Танюшка составляли все население куреня. Они сами укладывали в ямы огромные поленья, заваливали их землей, томили, потом разгребали кучи и студили уголь, потом вытаскивали, складывали его.
Варвара бродяг не особенно боялась. Бывало, что на курень забредали разные люди. Приходилось приютить, дать ночлег, угостить, чем богаты. Все же всякое появление незнакомых людей всегда сильно тревожило «куренную мать», как прозвали рабочие тетку Варвару.
Житель тайги всегда безошибочно узнает бродягу. По походке и по тому, как человек смотрит вокруг, ведь сразу заметно, кто таков пришел и что хочет. А тут оба брели не торопясь, видно, что у них нет никакого дела, хотя оба молоды и, кажется, здоровы, особенно тот, что порослей.
«Озорные люди, – подумала Варвара. – Да, никак, Степка…» – всмотревшись хорошенько, признала она.
Степка был женат на родной племяннице Варвары, на дочери ее брата. Брат Варвары, старик, строит барки, плотник, а Степку выгнали с завода, будто бы крал шинное железо, и нынешний «верховой» Запевкин грозился посадить его в тюрьму, но Степка сбежал. Как еще слыхала Варвара, он собирался идти в город на заработки. Запевкин ему будто бы говорил: «Уйди с завода, или я тебя сгною. Видеть тебя не могу!»
Варвара обрадовалась, что идет свой человек, но и тревога не исчезла.
«Боже ты мой, да с кем это? Неужто он где-то Гурьяна Сиволобова сыскал?» Вот уж года три пропадал он после того, как порешил Оголихина. «Это он! Тут нельзя ошибиться. Ей-богу, он!»
Бродяги подошли ближе и сняли шапки. Теперь видно стало, что они пришли покорные, как с повинной, что грядущая зима, видно, припугнула их и выгнала из лесу.
Взгляд Варвары остановился на богатырской фигуре Гурьяна. Ей даже приятно стало, что будут у нее мужики жить. Работа найдется. Ведь Гурьян был первый труженик. Неужто разучился? «Пусть-ка стены эти разворотит», – подумала она про поленницы, обступившие курень чуть ли не с трех сторон. И пришло Варваре в голову, что зря люди несли, будто Гурьян стал главарем шайки, убивал людей и брал золото мешками, принял магометанство. А он вот пришел и кланяется ей, бабе. Видно, ему несладко. И стало Варваре жаль этою огромного, но, как ей казалось, нескладного и несчастного мужика.
– Здравствуй, тетя Варвара! – ласково и глупо улыбаясь, молвил Степка.
– Здравствуй, племянничек! – постаралась ответить Варвара с видом кислым и неприветливым. – Что это, каким ветром?
– Соскучился по тебе, тетечка…
– Ах ты! – ответила тронутая Варвара.
Степка врал, но ей приятно было слышать. Давно уж о ней никто не скучал, и, кажется, никто в ее жизни вообще не говорил ей ничего подобного.
Она пригласила гостей в землянку. Наскоро затопив большую русскую печь, ушла на «кучи». Потом вернулась, быстро приготовила обед. А Гурьян со Степкой сходили в лес и привели трех лошадей. Оказалось, не так уж они бедны.
К вечеру тетка Варвара отправила мужиков в баню, потом пошел мыться дедушка Филат, а после всех сама с девчонкой. Баня тоже в землянке, такой же, как и жилье у углежогов.
Варвара пришла к ужину в чистом платье, вымытых сапогах, и Гурьян заметил, что она еще хороша. Там, где была сплошная сажа, выступил на светлой коже густой румянец, губы были пунцовы, сережки блестели в ушах; казалось, и глаза стали светлее, словно промылись, и полны живости. Чистые волосы закручены под платок, а полная, свежая шея открыта.
На другой день с утра Гурьян и Степка вышли на углесидные ямы. Лучших помощников Варваре и не надо было. Убедившись, что мужики жгут уголь не хуже ее, она через несколько дней положилась на них и занялась хозяйством. Каждый день у землянки сушилась полная веревка белья. Варвара привела в порядок дом и коровник, готовила пищу. У Гурьяна было ружье, он убил лося, и теперь на курене стало куда сытнее прежнего.
В пятницу Варвара запрягла коней, повезла уголь. Гурьян дал ей денег купить муки, еще рубль – девчонке на обнову да рубль на водку. Варвара не спрашивала, откуда у него такие деньжищи.
Вернулась она с Марфутой, Степановой женой. Женщины привезли новости, что в заводе будто бы нового управляющего хотели убить, кто-то вчера стрелял на улице у господского дома. Марфута рассказала, что хотят ломать кричную, переделывать огненное заведение, будут ставить машины.
До завода было почти двадцать верст, и Степанова жена домой не поехала, прогостила на курене целую неделю.
Весной, простившись с Могусюмкой, отправился Гурьян на завод.
Въехал он в поселок в воскресенье, под вечер. После башкирских деревень хороша показалась ему широкая улица с сосновыми избами, что почернели от смолы, вытопленной солнцем из бревен. У второго дома – шатровые ворота. Под окнами в палисаднике зацветала черемуха. Вышли две девицы – обе беловолосые, розовощекие. Одна глянула бойко на Гурьяна и, оправив светлый сарафан, переглянулась с подружкой. Обе побежали туда, где среди улицы собралась на лужайке целая толпа парней и девиц.
Гурьян придержал коня. Тут все, как прежде.
Девицы все как на подбор – русы и белы, румяны, бойки, с быстрыми озорными взглядами. Простая самодельная белая одежда их – передники и сарафаны – сияла чистотой.
И девицам приметился Гурьян. Молодой еще мужчина, удало сидит на коне, сам статен, взор орлиный. Кто он таков, они не знали, но с живостью посматривали на него. Это все были молодые девицы, подросшие после ухода Гурьяна.
Одна из белокурых девиц, обогнавших Гурьяна у палисадника, подошла к парню в картузе.
За вчерашнюю насмешку за твою, —
запела она, избоченившись, —
Что не ходишь на постельку на мою…
Вдруг вмиг сбилась толпа девушек.
Без тебя моя постелька холодна,
Одеяльце заиндевело, —
продолжала просмешница.
Все захохотали. Парень снял ремень.
Подушечка потонула во слезах…
Гурьян разгладил усы от удовольствия. Парень с ремнем сорвался с места, кинулся к девице, но тут подъехал Гурьян.
– Ну и храбер!
– Здорово, лохматый! – окликнул его чей-то голос.
В калитке ближайшего дома появился Кузьма Залавин, босой, с мокрой головой. Видно, только из бани.
– Здоров будешь, Гурьяныч!
– Гурьяныч! – с удивлением молвила одна из девиц, глядя восторженно-изумленными глазами на всадника.
Девицы хором ахнули.
Залавин подошел. Гурьян слез с коня и обнял старого горнового. Девушки кинулись врассыпную. Парень с ремнем стал гоняться за обидчицей, но она убегала, пряталась за подруг и смеялась.
Потолковавши с Кузьмой, поехал Гурьян к сестре. Кузьма ни словом не помянул про старое.
Девицы запели где-то сзади хором, дружно и бойко, как бы напоминая о себе удалому красавцу, проехавшему мимо.
Гурьян подумал, что славную жизнь он покинул, с хорошего места ушел.
Он явился к двоюродной сестре. Семья была староверская, соблюдавшая обычаи. Дом врос в землю, уперся окнами на траву в палисаднике.
Муж сестры – старый горновой – сначала на все вопросы о жизни и работе на заводе отвечал, что все хорошо, на все воля Божья. Но понемногу разговорился.
О переменах на заводе слыхал Гурьян еще в степи. Завод продан старым владельцем, теперь принадлежит русско-бельгийской компании Moray.
– Но марка на железе старая, пашковская! – толковал Залавин, пришедший к соседям. – Морейское железо никто не берет. Никому такого не надо. Требуют: «Подай нам пашковское!» Вот, сказывают, Moray будут платить Пашкову за марку пятьдесят тысяч в год, и на заводе как была, так и висит вывеска: «Железоделательный и чугунолитейный завод господ Пашковых».
Кузьма и свояк рассказали, что новый управляющий хочет заводить машины и все переустроить, притесняет их с землей, требует соблюдать уставную грамоту.
Историю с уставной грамотой Гурьян помнил. Грамоту эту составляли, когда вышло «освобождение». По ней полагалось за пользование заводской землей платить или выкупить землю навечно. Платить не соглашались. Выкупать никто не хотел – землю считали своей: деды отняли ее у тайги. Дело чуть не дошло до бунта. Много было споров. Приехали в то время чиновники: уговаривали, доказывали, грозили. Наконец хозяева завода дали льготу, разрешили пользоваться землей несколько лет бесплатно, но уставную грамоту пришлось принимать. Мазали безграмотные мужики свои пальцы чернилами и вместо подписей ставили на ней оттиски. Потом этот льготный срок еще продлили.
Кузьма Залавин и свояк рассказали Гурьяну, что, когда новый срок прошел, с рабочих снова стали требовать плату. Но до сих пор кое-как «обходилось». Выставляли угощение новому «верховому». Вместе с управляющим, у которого была любовницей заводская девка, писал он в Питер, что недород, голод, народ погибнет, разбежится, если еще не продлить льготу. Завод был глухой, далекий. «Верховой» и управляющий оттого и ухитрялись не менять старых порядков. Идя навстречу заводским с землей, обирали их, платя гроши за труд на заводе. Так завод давал доход, достаточный для его прежнего хозяина. Управляющий и «верховой» тоже были не в убытке.
– А нонешний управляющий грамотку-то поднял, – толковал Кузьма, – требует платить! Да нынче пашню обмерить грозится. Пользуйтесь, мол, покосами, а хлеба не сейте, по малости дает земельки. Главное, говорит, завод.
Пришли Иван Волков и Колька Загребин – кричные мастера, старые приятели Гурьяна, с которыми вместе коротал он долгие годы под задымленными навесами.
Гурьян схитрил: сказал им, что хочет «объявиться», выйти с повинной, поэтому и прибыл.
– Нет, брат, – закричал Загребин, могучий русый мужик с крупным носом, – обожди! Еще будут перемены!.. Скоро выйдет всем прощение, а сейчас тебя упекут. Не время еще!
Седоусый, приземистый Волков рассказал, что хотят ломать кричную, поставят паровые машины, устроят прокатку. Новый управляющий желает, чтобы крестьяне поменьше работали на пашнях, заявил: это, мол, можно было при крепостном, когда денег не получали и надо было все добывать в своем хозяйстве, а теперь, мол, платим денежки, и, будьте любезны, трудитесь как полагается… Требовать теперь, чтобы рабочий не отлучался на поле, куда до сих пор, по старому обычаю, всех отпускали на несколько недель весной и осенью. До сих пор в сенокос завод останавливали, а теперь этого не будет больше: подменяй друг друга как хочешь.
– От машин – голод. Где машины, там народу гибель! – кричал, колотя кулаком по столу, Загребин. – Гурьяновского сорта уж давно нет! Никто, кроме тяти твоего да тебя, гурьяновских полосок не ковал. Разве машина может «гурьяновку» сковать?
Представлялось Гурьяну, когда он въезжал на завод, что жизнь тут хороша, а оказалось, и здесь беды немало.
Когда все разошлись, Гурьян улегся на сеновале. Он вспомнил, как обступили его сегодня девки на улице, их взгляды, а потом былое, как сам любил бойкую русую красавицу и как долго не мог забыть… И сейчас еще было обидно и больно, как вспомнишь.
Утром Гурьян пошел по улице, желая глянуть на завод. Выйдя к плотине, услыхал он громкие возгласы. В стороне заиграла гармонь, запели хором, с выкриками. Сестра сказала вчера, что на окраине Верхнего поселка свадьба, у Фортуниных; они женили сына своего на девушке с соседнего Авзянского завода[57]57
Авзяно-Петровские заводы (Верхнеавзянопетровский чугуноплавильный и железоделательный и Нижнеавзянопетровский железоделательный)? – металлургические заводы на притоках реки Белой – реках Большой Авзян и Кухтур.
[Закрыть].
С пригорка к пруду шла с песнями толпа ряженых. Впереди какие-то толстозадые, коротконогие парни с наведенными сажей усами, с приплясом, бойко орудуя метлами и лопатами, расчищали дорогу, скидывая с нее камни, щепки. На подносах несли стаканы, в жбанах и бутылках – водку, мед, брагу.
По тебе, широка улица,
Последний раз иду, —
горланили они девичьими голосами. Им басом отвечали девки огромного роста, носастые, в платках, в мужских штанах и в сарафанах, с грязными, небрежно надетыми лентами, с лицами, полузакрытыми цветным тряпьем.
На тебя, моя хорошая,
Последний раз гляжу.
И снова общим хором запели:
Эх, по тебе, широка улица,
Последний раз иду!..
А среди толпы с пустыми ведрами на коромысле шла плечистая, в расшитой белоснежной рубашке, в сарафане и простых сапогах белокурая молодая. Брови у нее темные, густые, соболиные.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































