Текст книги "Могусюмка и Гурьяныч"
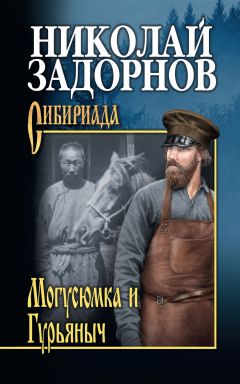
Автор книги: Николай Задорнов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Сам Захар немного побаивался и за себя, и особенно за Пастухова. Купцы на базаре говорили, что это они подучили рабочих, надо бы обоих в тюрьму.
Поэтому Булавин задавал такой обед и приглашал офицеров, поил шампанским и обещал идти на берлогу. Дружба с ними отводила подозрения.
Приехал жандармский офицер Дрозд – высокий сухой блондин с тонко выкрученными усами и голубыми глазами. Он извинился, что опоздал.
– А мы решили, что вы не будете, и я просил за вас прощения у Настасьи Федоровны, – сказал Верхоленцев. – Выпили без вас преотличное вино, – шепнул он.
– Я не в претензии! – отозвался Дрозд, усаживаясь к столу и мельком приглядываясь к блюдам.
Керженцев однажды обидел его. Ехали вместе на рысаке к управляющему, и Алексей Николаевич сказал Дрозду, что тот присматривается к дороге с профессиональной пристальностью. Дрозд оскорбился.
Жандарм сегодня ездил на рудник, искал Гурьяныча, потом опять допрашивал Загребина, вызывал других зачинщиков, был у Верба.
За столом он молча закусывал.
Отец Никодим шутил, рассказывал про медведей, но сам боялся наказания за свой молебен о ниспослании возмездия бельгийской компании.
А рабочие им тоже недовольны, и не только потому, что церковь на заводской, а не на общественной земле.
Когда-то, несколько лет тому назад, пускали вторую, долго стоявшую домну, и поп держал на плотине речь.
«Вот она, наша коровушка, – говорил он. – Будем мы ее доить!»
А теперь все рабочие его упрекали, кричали на сходе: «Много надоили! Все голодны, немец гонит народ с завода! Вот так коровушка!..»
Жандарм подвыпил и быстрей заворочал глазами.
– Ну, что нового? – спросил Верхоленцев его по-дружески.
– Стойко держатся, подлецы! – ответил Дрозд. – И никто не выдает никого. Боятся, видимо, Гурьяна. Вот-вот он будет пойман, и тогда все откроется!
Настасья услышала, как сердце ее зашумело.
Дрозд заметил, что, возможно, дело гораздо серьезней и ниточки от него потянутся далеко. Но что за нити – молчал. Сегодня он долго беседовал с Вербом и Посошковым. Тирлянский управляющий всегда давал дельные советы. Он уверял Дрозда и Верба, что дело здесь не так просто. Верб смотрел на него с изумлением, но молчал.
Тирлянский управляющий Посошков – лысый, коренастый человек с большим брюхом и с бородкой клинышком. У него были маленькие, красные, пухлые руки с кожей, наплывшей мешками на короткие пальцы, от этого похожие на лапы аллигатора. Он действовал осторожно, без криков и брани. У себя в Тирляне он давно согнул всех рабочих в бараний рог. Здесь он объявил, что кричная будет сохранена. Люди, знавшие его, уверяли, что скоро он поставит весь завод на колени. Общество все время разбирало разные дела по наущению этого человека На днях беспощадно отхлестали в волостном бабку Акулину. Мысли, высказанные им, очень понравились Дрозду, который склонен был к крайним подозрениям. Действительно, полагал он, надо так представить дело. Да, очень возможно, что тут происки западных держав. В степи – бунты… Он желал бы представить Гурьяна английским шпионом и это доказать.
От Булавиных подвыпивший Дрозд поехал в кошевке с Верхоленцевым.
– Стачка по всем правилам, – говорил он. – Их требования: увеличить плату, сохранить выпуск стали, бесплатное пользование землей по две десятины на хозяйство. Никто на работу не идет без понуждения.
– Где же причина?
– Подстрекательство! Где? Конечно, не Булавин причиной, как думают. Учителя я не подозреваю, – поспешил успокоить Дрозд своего собеседника, хотя он уже написал о Пастухове в Оренбург, что тип подозрительный.
– Безграмотные рабочие сами не придумают этого! Во всем виноват нарочно подосланный бунтовщик, подкупленный, возможно, какой-то шайкой. Его надо поймать во что бы то ни стало, и все откроется! Говорят, он был на других заводах и там мутил.
Дрозд уверял, что дело очень серьезно.
– Может быть, какое-то общество по возбуждению смут подослало его. Революционеры! Подлость, предательство или еще хуже! Верб говорит, что он старался действовать постепенно, не сразу, что тут все запутано. И рабочие должны заводу, и им завод должен. Платят рабочим деньгами и пользоваться дают землей в счет платы. Налог до сих пор не платили, и тут совпало взыскание недоимок и требование платы за землю. Льгота дана была на три года, но эти тайные «аблакаты» сумели дело так повернуть, что шесть лет пользовались льготой. Вот что делают! – говорил Дрозд.
– Так при чем же здесь Гурьяныч?
– Потом пошли ссылки на неурожаи, – не отвечая капитану, продолжал свое Дрозд.
– Мужику в рот не клади палец, – подтвердил капитан. – Очень смышленый и ловкий здесь заводской мужичок. На заводской земле пахали; оказывается, тут земельные участки не замерены. Об урожае давались ложные отчеты. Толкуют, что от машин будет голод.
Верхоленцев и Дрозд согласились, что поймать Гурьяна необходимо и наказать его примерно.
Дрозд сказал, что завтра будут у волостного пороть двух смутьянов.
– Долг русских образованных людей видеть будущее башкир, татар, всех наших инородцев, – говорил Пастухов, шагая по улице с Алексеем Николаевичем и с Булавиным, который пошел прогуляться и проводить гостей, – и трудиться для них. Нам надо сделать бесконечно много. Вот вам пример преданности башкир – поняли, что от хивинского проповедника не дождешься избавления. От него отвернулись. Последние события – свидетельство того, что почва благодатна. Рухнула попытка сыграть на религиозных чувствах башкир, вызвать ненависть к русским. Революция спасет башкир, а не турецкие святые.
– Говорят, что какой-то грамотный по-русски башкир, бывший солдат, участник Севастопольской кампании, испортил турецкому там или этому хивинскому святому все дело, – заметил Керженцев. – Присягу, сказал, принимали!
– Не в присяге здесь дело, а глубже. В самой жизни народов. Вот вам примеры: Могусюмка и Гурьяныч. А в прошлом – Пугачев и Салаватка.
– Молчи, пожалуйста, – одернула мужа Евгения Дмитриевна, видя, что идут мимо дома, в котором остановился Дрозд.
– Говорят, и муллы были против заговора. Они теперь всюду разослали проповедников объяснить, что этот Рахимбай – обманщик, – продолжал Пастухов.
– Но, между прочим, киргизская степь волнуется, – отозвался Керженцев.
– Магометане верят крепко! – заметил Булавин, как бы предваряя собеседников особенно не обольщаться. – Среди башкир есть люди очень грамотные. По-арабски. А есть по-русски образованные. А вот Могусюмка сокрушался, что у них грамоты своей нет. В школах по-башкирски не учат. Одно слово, что башкирские школы, а читают и пишут по-арабски и по-турецки. А Могусюм придумал писать башкирские слова русскими буквами. Если бы обучить его с детства, был бы первый грамотей.
Захар проводил гостей до плотины.
– Население тут поголовно в дружбе с башкирами, – сказал Пастухов, оставшись с Керженцевым.
Черная фигура Захара еще виднелась далеко на снегу.
– Как вам этот купец нравится? Что он нам сегодня за столом выложил! Капитан, знаете, уж сказал мне потихоньку: мол, угощает, а сам такое говорит, что хоть хватай его вместе с Могусюмом.
– И у башкир, конечно, есть доверие к заводским. Он прав. Он тут все знает. И это при разнице вероисповеданий и всех предрассудках…
– Альянс?
– Да, нечто вроде интернационала.
– У башкир по-арабски, у русских по-французски, а своей грамоте тоже не бог весть как обучены, – рассуждал Керженцев.
Утром Керженцев стал говорить, как хороша Булавина.
– Да вы уж не влюбились ли в нее? – спросил его Маневич.
– Может быть…
Жандармскому офицеру Дрозду давно не нравились высказывания Керженцева, и он тут решил дать бой.
– Как же это вы, семеновец, гвардеец, аристократ, – сказал он с насмешкой, – плюнули на привычки среды и влюбились в купчиху. Вы исключение!
Керженцев вспыхнул. Он давно заметил, что жандарм мнит себя большим знатоком светских обычаев и, кажется, из кожи лезет вон, желая казаться аристократом, и берется судить о том, чего не знает. Обычно деликатный, Алексей на этот раз решил поставить его на место.
– Во-первых, для меня она не «купчиха», а женщина! – ответил он. – Она жена купца, но прежде всего женщина! Мы не жалеем и не бережем своих русских женщин. В народе у нас хамское к ним отношение, а в «обществе», особенно в «аристократическом», – подчеркнул Керженцев, – так и подавно… Об этом ужасном положении русской женщины не я один говорю. Но сейчас не об этом. Так вот, если бы я был выскочкой, который желает в аристократы, я бы, конечно, отвернул нос… Но, поверьте, я люблю ее как человека из народа, она заслуживает любви… Мы мало любим наших русских женщин.
– Ха-ха-ха!.. – отозвался Дрозд.
– Кажется, у вас игривые мысли, – снисходительно улыбнулся Керженцев и прекратил разговор.
Он обидел Дрозда этой снисходительной улыбкой сильней, чем мог бы это сделать самым ужасным оскорблением.
– Увлекающийся человек, – сказал жандарму капитан Верхоленцев про Керженцева, когда тот, надев шинель и перчатки, уехал в горы на прогулку. – Ему ведь только кажется все, а он славнецкий малый! Безумец!..
– Да, он легкомысленный… Порхает себе от мысли к мысли… – приложив руку к виску и слегка перебрав пальцами, сказал худой и рослый Дрозд.
– Он увлекающийся, но из него выйдет толк, поверьте мне, – сказал поляк.
В понятиях Дрозда не умещалось, как это человек может пренебрегать своим аристократизмом. Вообще он не считал Керженцева реальным человеком. Это насмешка какая-то, а не личность. К тому же он не мог простить ему упрека в «профессиональной тщательности» и решил за ним понаблюдать. Он знал, что «понаблюдать» – это больше, чем оскорбить, припугнуть, наказать. «Очень опасно, милый аристократ, ссориться с жандармом!..»
А Керженцев возвратился из поездки веселый; видел там какую-то редкую птицу и рассказывал, захлебываясь от восторга. Про размолвку с Дроздом он сказал капитану:
– Что он толкует! Да мало ли писателей-народовольцев дало русское дворянство. Кто создал нашу музыку? Кто создал народное искусство? Этот парвеню, дрянь, воротит нос от народа. Вот болван! Знал ли он о той любви, что питал к народу Пушкин – аристократ по рождению…
Офицеры стали почти ежедневно бывать у Булавиных. Захар научился играть в преферанс. Он послал Санку на кордон к Трофиму, чтобы тот искал берлогу. Приехали Трофим и Санка, оба в снегу, с ружьями, собаками, озабоченные. Берлога была найдена.
Глава 41. Поездка жены
Угасла лампадка у иконы. На широкой деревянной кровати Захар и Настасья лежат под легким одеяльцем. Изба жарко натоплена. Захар вернулся с охоты – спит крепко. Настасья лежит на боку и все думает. Как ни любит она мужа, но всего не откроет ему ни за что. И мощи мужа ей не надо, не хочется обращаться к нему; крутая, жесткая и плотная спина его сейчас чужда ей. Сегодня Керженцев сказал, что Гурьян найден и ему конец, что он на Варварином курене, Захар ничего не знает.
Керженцев говорил, что утром в горы поскачут казаки и схватят Гурьяна.
Видимо, он в душе сочувствовал Гурьяну и не хотел, чтобы тот попался. Конечно, он доверял Настасье и надеялся, что она даст знать Гурьяну, ведь кругом у нее свои люди.
После ужина Настасья, полная тревоги, улучила миг и по огородам пробралась к Волковым, хотела повидать Ивана Ивановича, передать ему новость, чтобы скакал скорей на Варварин курень, предупредил бы Гурьяна. Иван Иванович приходится Насте родней через тетку. Настя знала, что дядя Волков дружит с Гурьяном и тайно сносится с ним.
– Иван Иваныча нету, – сказала Волчиха, баба носастая, рыжая, крепкая, как солдат. Посмотрела она на позднюю гостью с недоумением, не догадавшись, в чем тут дело, зачем Насте понадобился ее муж, да еще явилась задами. Волчиха недолюбливала Настю.
– Где же он?
– В отъезде.
– Да где?
– На рудник поехал. Да тебе зачем?
– Может, он не на руднике, а на курене?
– Ах боже! На какой это еще курень! Ты чего несешь?.. Говорю, на руднике. Да зачем это он на курень поедет? Кто это тебе сказал?.. – Волчиха рассердилась не на шутку.
Пыталась Настя объяснить ей, что надо бы как-то дать знать дяде Ивану, если он на курене, но Волчиха и слушать не хотела.
– Где его на руднике найдешь! Кто поедет? Ночь на дворе.
Настя вернулась домой. Гости еще сидели. Муж и офицеры вернулись с охоты, все веселые, измерзшиеся, пили, громко разговаривали. Керженцев оставался во время их отсутствия на заводе за Верхоленцева. Он расспрашивал про охоту. Захар рассказывал, какие башкиры отличные медвежатники, называл многих по именам, объяснял, как и кто охотится, кто порет зверя ножом, кто рубит топором, кто стреляет…
А Настя думала: «Как быть?» Керженцев иногда поглядывал на нее, словно знал, что у Насти на душе, в чем ее тревога.
…Все щели в ставнях вдруг ярко покраснели.
«Опять вспышка на домне, – подумала Настасья, – уж который раз сегодня».
– Что это? – встрепенулся Захар, проснувшись.
Другие чем старше, тем жирней и спокойней, а Захар все чуток, как охотничий пес.
– Вспышка, – ответила жена.
Красные полоски в ставнях стали медленно гаснуть. Слышно было, как что-то стукнуло по железной крыше: видно, прилетела с печей головешка. А красные просветы снова заалели.
– Опять вспышка, – заметил Булавин.
Булавин встал, зажег лампу, оделся и вышел. Пожары в те времена были часты на заводе. При вспышке угли летели с домны вверх и, не угасая, сыпались в разные стороны на поселок, на море сухого дерева. Поэтому после вспышек люди просыпались, выходили, осматривали свой дом, крыши построек. В сухую погоду, при ветре, загоралось быстро. Сбегались соседи, а за ними и все, кто мог, и помогали тому, кто горел. Захар, как и все заводские, в самом крепком сне чуял вспышку и привычен был подниматься ночью.
Он вскоре вернулся и опять уснул.
Настасья думала с вечера, не сбегать ли к Чеканникову. Но тот человек крутой, спросит: кто, мол, тебя подослал? Посмеется еще: откуда, мол, ты это знаешь, купчиха? Какое тебе до этого дело, что ты лезешь, у тебя, мол, кусок хлеба есть… Решит еще, что ловушка. «Как быть? – думает Настасья. – Возьмут утром Гурьяна, и на этот раз не вырвется, закуют крепко».
«Самой? – подумала она, и сердце ее шелохнулось. – Взять коня?» Захару она не хочет говорить. Не потому, что Захар был сильно встревожен, когда толковала она ему о Гурьяне. Не потому, что он, кажется, чуть не зол на него. Дело это не его… У Настасьи есть свой конь. Выросла она в степи, носилась с ранних лет; скакать умеет не хуже киргиза. Но непривычно бабе спасать. Чувствует, что смогла бы сделать это не хуже, а лучше любого мужика, но дело не женское, не смеет приступить к нему. А разве надо дать погибнуть человеку? Захар и не поедет, он как-то со злом отозвался о Гурьяне.
Но кто? Кто?.. Ведь конь под рукой, можно вот одеться, выйти, накинуть узду, вывести и хоть без седла вскочить. И жизнь людская спасена. А ночь проходит быстро, уж скоро петухи запоют.
И вдруг представилось ей, что опять скачет она на коне, вольная, как птица, одна, в лес, как давно с девичьих лет не скакала.
Настя тихо поднялась и стала одеваться. Надела теплые унты, опоясалась, как мужик. Захар спал крепко.
Настя вышла, взяла в санях узду. На дворе стоял мороз.
Ночь была звездная и теплая. Воздух мягкий, чуть влажный.
Забор и амбары в снегу. Небо чистое, чуть бледнеет вдали, там, в небольшом светлом пятне вырисовывались вершины знакомых сопочек. Пахло дымом: видно, прилетевшая головешка где-то еще тлела.
Настасья открыла конюшню, нашла сопящую теплую морду коня, погладила ее, надела узду, ляскнули зубы об удила, зажевали железо. Настя вывела коня во двор. Снова вспыхнула домна. Огненное зарево осветило полнеба. «Захар проснется!» – подумала она без страха, чувствуя в себе решимость.
Опять все погасло. Стало темней прежнего.
Налетел ветерок.
При чистом небе и звездах что-то падало. Это, видно, иней, кружа. Где-то в вершинах гор, может быть, начинается буран и вот сыплет на завод поднятую снежную пыль. Погода могла перемениться. Захар с вечера говорил, что быть бурану и что мороз крепчает.
Настя повела коня к калитке. Вдруг дверь хлопнула и с крыльца быстро сошел Захар.
– Ты куда? – спросил он ее прерывающимся от волнения голосом.
Налетел сильный порыв ветра и обдал двор, дом и мужа с женой целым облаком снежной пыли. Ветер сразу улегся, и вдруг при тишине над крышей снег пронесся как облако.
– Что с тобой?.. Настасья! Куда?..
– Как же ты ясене своей не веришь! – ответила Настя с укоризной.
– Стой! Я не пущу тебя, Настя!
– Пусти руки! – грозно сверкнув глазами, ответила Настасья.
Она распахнула калитку, взялась руками за седло, залезла неловко: стала, видно, тяжелей, – но удало, как прежде, припала к гриве, чтобы не хватиться лбом о перекладину, и пустила коня в калитку. А там, на улице, приударила его и все так же – лицом к гриве, как казак на джигитовке, помчалась.
Захар стоял, как пьяный. «Что случилось? Куда?..»
Вокруг в полутьме белели трехсаженные каменные стены, которыми отделил он свой дом от всего простого, темного, постоянно горевшего народа. А в калитке алела заря, светало. Утро ясное, морозное, чистое, если бы не этот зловещий ветерок. Опять в воздухе тишина, но это только кажется.
«Ну, Захар, – подумал Булавин, – пришла беда – отворяй ворота. Неужто она не любит меня? Неужто она права? Не шутила! А я думал… Неужели она не моей женой быть должна, не я на ней женился, а деньги мои? Тетки ее за мои деньги склонили и привели ее под венец. А душа ее не со мной и была всегда чужая?»
Он вспомнил, как встревожилась Настя, встретив Гурьяна. Тогда Захар смеялся, уверял, что быть этого не может, что, проживши столько лет в дружбе и согласии, не может человек перемениться от взгляда человека, встреченного на базаре. Другой бы взял такую жену за волосы да палкой бы ее…
И шевельнулось зло у Захара. «Она поехала к Гурьяну, – решил он, – и что-то она знает… А офицеры не доверяют мне. Но кто ей сказал? Почему? Какая у нее дружба с чужими людьми заведена! Что тут без меня было?»
Схватить бы ее за волосы, кинуть на камни, бить головой о крыльцо, о стену, топтать, ударить сапогом в лицо, как другие мужья, с ревности и злобы, крикнуть: «Нишкни, стерва! Убью, заразу!»
Но уже чувствовал Захар, что не посмеет. Он стал иным. Книги и поездки выучили его. Он всю жизнь старался учиться у книг и не мог в один миг перемениться, вернуться в былое, стать, как его покойный тятенька, или Прокоп, или соседи по улице.
Но было горько. Он до сих пор верил ей. Ее жизнь была растворена в его делах, в магазинных, в торговых или в книжных суждениях. А оказывалось, что у нее была своя жизнь, тайная.
И Захар подумал: «Надо стерпеть, ждать, Настя не может сделать ничего плохого». Захотелось поскакать за ней. Хотелось и зло на ней сорвать и ударить. И жаль ее было… Он чувствовал, что любит ее сильней, чем когда-либо.
Ему пришло в голову, что если деньги всему виной, то надо их бросить, бросить все прочь, отказаться от денег, от стен от этих.
«Разве я побоюсь? Зачем мне богатство, этот дом, амбар, трехсаженные стены, через которые никакой пожар не перемахнет?»
Захар все боялся пожара с тех пор, как в избушке у лесника видел сон, будто дом его загорелся. Поэтому построил такой каменный забор. Если бы даже загорелся весь завод, его дому ничего бы не сделалось. И заводил дружбу с офицерами ради богатства, дела, семьи.
«И все же подпалили меня!» Захар еще не хотел верить, что в этом богатом – полная чаша – доме может явиться горе, что все созданное его руками разваливается, что он осрамлен, поруган. «Не помогли замки и стены!»
Опять вспомнил он бурю в лесу, свой сон в избушке лесника. С тех пор всегда ему казалось, что ждет его в жизни буря такая же, как гремела тогда. Он ждал ее суеверно, страшился…
Настя поднялась на сопку, и завод на мгновение виден был внизу. Стало совсем светло.
В лесу тихо. Ветер все не разойдется, но порывы его становятся сильней, зашумит по вершинам деревьев и пронесется вдаль. В ветвях огромных сосен целые сугробы, снег льется из них белым, рассеивающимся в воздухе потоком, как водопад с высокой отвесной скалы.
Гнедой конь подымается на крутую гору. Снова открылся внизу завод. Он виден над вершинами деревьев, что тянутся снизу из-под скалы к дороге, на которой от удара встречного ветра приостановилась лошадь всадницы.
Там за белым полем – пруд, черные домны и сараи. Нижний поселок уткнулся своими крышами в обступившие его снежные сопки, как в тяжелые пуховые подушки.
Вот и перевал. Настя толкнула коня ногами в бока и понеслась.
Порывы ветра становятся чаще. Зашумит лес, шум пронесется вдаль, не успеет стихнуть, как уж несется новый порыв. И все реже и короче промежутки тишины, лес все шумней, все сильней и сильней прокатываются по его вершинам невидимые шумы, все тревожней деревья. Вот уже застонали сосны. Звуки начинают сливаться в сплошной грозный, рокочущий гул. Из ветвей деревьев текут не слабые ручейки, а хлещут сплошные потоки снега, ветер подхватывает их, наносит пока еще низкими волнами на дорогу, набивает снежную пыль в конскую шерсть, засыпает Насте лицо, бьет в глаза и слепит.
Несколько раз Настя ошибалась, принимала выворотни за Варварин курень. Дорогу, как казалось ей, знала она хорошо, с мужем не раз ездила в горы. В этой стороне года три подряд у башкир поляну косили. И косили, и собирали ягоду.
Курень все же явился. Дым валил, метался на ветру, поленницы замело. Теперь уж уголь не жгут.
Настя подъехала, спрыгнула с коня, вошла в дверь. В избенке все спали.
– Варвара! – позвала Настя.
– Кто это? – раздался женский голос.
– Встань.
– Что надо? – сипло и испуганно спросила Варвара.
Она поднялась с кровати и увидела Настю Булавину. Варвара не могла опомниться и вся дрожала от страха. Смутно вспомнила она какие-то разговоры, что Настя Булавина была не то невестой, не то любовницей Гурьяна.
– Что тебе? – спросила она.
– Гурьян у тебя?
– Зачем?
– Гурьяна надо.
– Нету его у нас.
– Его ищут, сейчас казаки нагрянут, донос сделан, что он у тебя… Я ночью хотела ехать, да опоздала.
– Гурьян! Гурьян! – тревожно заговорила Варвара, кидаясь в угол, за печь.
Гурьян проснулся и вышел босой, огромный. Настя посмотрела в его глаза впервые за много лет.
– Что тебе?
– Уходи, тебя ищут. Выдали…
– Чего же бояться! – усмехнулся Гурьян.
– Чего бояться! Какой смелый! Вон Кольку Загребина – в кандалы… Дай-ка воды! – обернулась Настя к хозяйке.
Варвара подала ковшик.
Обе женщины стали собирать Гурьяна. Настя обвязала его кушаком, как, бывало, мужа. Он оделся потеплей, но полегче.
– Кто выдал? – спросил он.
– Посошков и Запевкин узнали. Офицеры у нас вечером были, сказали – тебе конец… Кто выдал, не знаю.
Дед Филат проснулся, сбегал за конем. Гурьян и Настя вышли вместе. Оба вскочили на лошадей.
– Я с тобой поеду, – сказала Настя. – Мне этой дорогой нельзя на завод ворочаться, на казаков напорюсь. Я круговой тропой вернусь.
Они поехали рядом. Варвара молча смотрела вслед им, стоя на ветру босая, в одном платьишке.
Въехали в лес. Гурьян расспрашивал про завод, потом приостановил коня. Настя рассказывала, что Пастухова высылают, что пороли рабочих.
Кажется, один миг прошел, а уж тропа расходилась. Опять остановили коней.
– Ну, я сюда, – сказала Настя. – Прощай!..
– Прощай!..
– Не забывай!..
Гурьян взглянул тревожно, словно она тронула больное место.
– Варвару не забывай! – сказала Настя бойко, сильно толкнула ногами коня и рывком дернула узду.
Гурьян глядел вслед ей.
Она поехала быстро, но вдали осадила коня, завернула, махнула рукой и крикнула:
– Гурьян!
Точь-в-точь как тогда, девкой на огороде, когда он ее поцеловал единственный раз в жизни.
– Прощай!.. – крикнула она и понеслась под гору, как черный ком в белой снежной пыли.
Настя скакала обратно на завод, не замечая, что разыгрался буран; он уже не пугал ее так, как с утра, когда въезжала она в лес. Теперь и лес стал родней и ближе; она не страшилась его, зная, что сделала доброе дело.
Никто не ехал в это утро ни в лес, ни из лесу, никто не видал ее.
На въезде в завод в волнах снега проехала стороной от нее группа всадников. Это казаки отправились ловить Гурьяна. Все закутаны башлыками. «Им еще только ехать в этот лес придется, там невесело и ждет неудача», – подумала Настя, и на миг стало жаль, что в такую погоду едут люди зря, мучаются.
Она подъехала к дому, открыла калитку, ввела коня, бросила поводья, кинулась в дом.
– Я была в лесу! – сказала она Захару, который вскочил из-за стола. – Еле доскакала обратно. Честное дело, Захарушка, я сделала: может, человека спасла. Да ты что всполошился-то? Вернулась ведь. Да и дорогой все о тебе думала.
– А ты не обманываешь меня?
– Бог с тобой! А не веришь – убей… Струсила в лесу, ехала обратно, так к тебе хотелось, домой… По дому соскучилась…
Ей хотелось сказать, что она любит Захара, привыкла к заводу, жизнь свою не променяет ни на что.
Захар и верил и не верил. Он вспомнил о гибели Темирбулатова.
Случая не бывало, чтобы башкиры, какие бы лихие казаки ни были, напали на войско. Никто не ожидал. Султан еще накануне клялся, что поймает и задушит Могусюмку. И вдруг пальба сверху – и ему смерть.
На глазах у Захара прикончили пулей этого богача. А шли с войском, под охраной. Захар знал, из-за чего убит Султан. И убит на хребте, где когда-то в молодости ехал Захар после грозы, после ночевки в избушке у лесника, где видел сон, казавшийся ему вещим, где сам боялся Могусюмки, был тогда без охраны, с большими деньгами. Но тогда его никто не тронул, а Могусюмка даже прислал долг.
А теперь, когда, казалось, все было так надежно, рядом с Султаном чуть не положили насмерть и его, пули свистели…
«Неужели и я – как Султан? Неужели и на мою голову позор и беда? Его не спасли войска и богатство. И мне горе, дошла и до меня гроза. И меня не спасло-то ничего…»
Он проклинал свое богатство. Он понял, счастье не в богатстве и его не огородишь каменным забором.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































