Текст книги "Могусюмка и Гурьяныч"
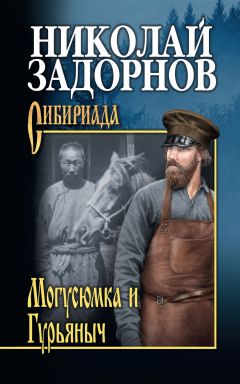
Автор книги: Николай Задорнов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Глава 13. Базар на заводе
В пятницу на заводской базар наехало множество народу. Во всю площадь вытянулось несколько рядов телег с торчащими вверх оглоблями, полных всякой всячины.
Башкиры навезли дикий мед в берестяных туесах, масло, баранов и баранье сало, дичь, ягоду, пригнали на продажу коней. Ягоду продают сундуками, бочатами и даже телегами, насыпанную прямо на рогожи.
Низовские мужики, из тех, что победнее, торгуют разными изделиями: попонами, ковшиками из липки, плетеными рыболовными снастями, деревянной посудой, корзинами, щепным товаром, лесовщиной, сапогами. Пара сапог стоит рубль. Любой сапог надевай на любую ногу. Есть и разные сапоги – для правой и для левой ноги, те на рубль дороже.
Богачи же деревенские торгуют коней, продают зерно, скот, шкуры, воск, сало, шерсть. Скупкой занимаются приезжие торговцы.
У лавок-шатров зазывают покупателей.
– Эй, бабай, гуляй сюда, товар дешевый! – орет, обращаясь к башкирину-старику по-русски, купец-татарин в халате. – Кумач, ситцу, сукна дешевый.
Под рогожным навесом у бревенчатой булавинской лавки примостился продавец каслинского литья. Большие чугунные котлы, тонкие и легкие кумганы, сковородки, рукомойники, чугунки.
– Эх ты, вот это товар, звенит… Звенит, язви его! – щелкнул пальцем по чугуну мужик.
– Касли! – с восхищением подтвердил башкирин.
– Якши, бик якши, – уговаривала мужа башкирская старуха, выбирая котел.
У высокого крыльца магазина толпятся дочери и жены башкирских богачей. Они ждут мужей и отцов с обновками. Лица женщин полуприкрыты шалями по-татарски. Яркие коралловые нагрудники с крупными опалами в ажурном серебре пестреют из-под распахнутых камзолов, отороченных галунами. Смуглые полные шеи обвиты янтарными ожерельями, бусами.
Женщины терпеливо ждут. По обычаю им не полагается входить в лавку.
В магазине полки ломятся от товаров.
Захар и Санка отпускают покупателей. Грубые, простые сукна, синие, темно-красные, белые, работы московских сукновален, разложены на прилавках. Ситец, сарпинку, азиатскую выбойку[39]39
Выбойка – бумажная или льняная ткань с отпечатанными на ней узорами в одну краску.
[Закрыть], парчу – богатым невестам на сарафаны, китайку, связки дешевых кораллов, сахар, сушеные сласти, посуду продает сегодня Захар Андреич.
Башкиры толпились подле Санки. Один покупает, остальные сосредоточенно наблюдают. А сам хозяин отпускает товар своим знакомым из околозаводской деревни Низовки. Сегодня приехал оттуда с женой Акинфий, деревенский богач. Сорокалетняя Васса и сам Акинфий красны лицами и очень довольны, что покупают в таком хорошем магазине.
– Ну-ка, другую штуку покажи, – тем временем просит Санку покупатель-башкирин.
Приказчик кидает на прилавок кусок бухарской выбойки. Покупатель потрогал ее, но, видно, остался недоволен и стал опять смотреть на полку.
– Еще выше товар бери, – просит он.
Торговцы втолковывали башкирской бедноте, что лучший товар лежит на верхних полках. А когда приметили, что башкиры верят этому, стали заранее складывать дешевые материи повыше. То же делал и Санка.
И сейчас он снял с самого верха штуку дешевой ярославской сарпинки.
– Вот да, уж хороший товар. – Башкирин даже прищелкнул языком от восторга.
– Какой же, товар – высший сорт! Сколько тебе?
– Кто же знает! Тебя спросить хотим, уж, пожалуйста, скажи нам, бабе-то сарафан шить надо.
– Если шить по-вашему, то пятнадцать аршин взять надо. Ну, мерить, что ль?
– Деньги-то много ли платить?
– За аршин по гривеннику, – накинул по две копейки Санка.
В магазин вошли две покупательницы в салопах.
– Здравствуй, Захар Андреевич, здравствуй, Александр Иваныч.
– Милости просим…
– Чайку бы нам…
– Чайку, сказывают, привез Захар Андреич?
Пока приказчик ходил за чаем, Захар показал покупательницам разные товары. Санка возвратился со стофунтовым цибиком[40]40
Цибик (устар.) – ящик с чаем весом до 2 пудов, а также вообще упаковка, пачка чая определенного веса.
[Закрыть] на плече.
Распаковывание цибика с чаем было целым событием. Такое зрелище устраивалось только для жен лучших заводских мастеров или для главных служащих конторы, для богатых крестьян, купцов.
Санка разрезал на прилавке кожу и камышовое сплетение. Сверху в цибике на тончайшей китайской бумаге насыпан цветочный белый чай для запаха. Санка захватил его в горсть и поднес покупательницам.
– Кому такого чайку, пожалуйте…
– Ох и пахучий! – воскликнула дебелая молодица. – Отродясь не нюхивала. Почем же такой, Захар Андреич?
– Два с полтиной фунт, Матрена Федоровна.
– Ах, дорогой!
– Прямо из Китая бухарцы привезли. Чаю такого у нас в заводе еще не пивали.
– Да уж отвесь полфунтика, Александра Иваныч, – сказала покупательница постарше и поджала губы.
В это время на улице раздался крик, и мимо лавки побежал народ. Вскоре покупатели кинулись наружу, оставляя на прилавках покупки. Следом за ними вышел на крыльцо Захар вместе с Акинфием и его женой. Санку оставили в магазине. Народ сбегался к перекрестку. Из-за изб выезжали казаки.
– Разбойников везут!
На первой телеге ехали связанные веревками Могусюм и Хибет.
– Могусюмку схватили!
– Скажи, пожалуйста! В самом деле Могусюмка попался, – удивился Булавин. – Что за чудо!.. Как же это его словили?
– Вот когда он попался, тварь! – злорадно проговорил Акинфий, скаля свой щербатый рот.
– Разве у тебя с ним счеты? – спросил Захар. – Ведь Могусюмка около вашей деревни никого не трогал?
– Мало что не трогал. Всех их надо в куль да в омут!
– Тебя слушать, так ты сам бы рад, кажись, придавить его.
– А что же смотреть! Надо будет, так и придавлю, – весело сказал Акинфий, сжимая кулак. Кулак у него был увесистый, и сам Акинфий, несмотря на годы и невысокий рост, крепок, как медведь.
Казаки отгоняли толпу.
– Не напирай! – размахивал плетью Востриков.
Акинфий схватил камень с земли и запустил в телегу.
– Разбойная морда! – заорал он.
Медведев приказал проезжать базар поскорее. Возницы захлестали кнутами, телеги покатили быстрее, казаки конвоя зарысили.
Захар отошел. Он заметил двух башкир, которые о чем-то шептались, показывая друг другу глазами на вороного коня, на котором ехал есаул.
– Хороший конь, хороший конь, – разобрал Захар их слова.
Он понимал по-башкирски.
– Это Могусюмкин конь, – тихо сказал, подходя к ним, третий башкирин, рослый и плечистый, державший под уздцы горбоносого гнедого жеребца.
Башкиры еще о чем-то с любопытством расспрашивали высокого, называя его Хурматом.
Захар вспомнил, что у Могусюмки есть товарищ – татарин Черный Хурмат. Не он ли это?
Конвой с пленниками проехал. Толпа постепенно отставала от него.
Потом проехала телега с какими-то вещами.
Когда народ отхлынул, Захар увидел, что башкирин, признавший Могусюмкиного коня, вскочил в седло и куда-то помчался во весь опор.
«Это еще полдела – поймать Могусюмку, – подумал Захар и пошел в лавку. – До города его везти четыреста верст, а дорога-то все лесом…»
Вскоре вернулся Акинфий и стал говорить, что нужно башкир почаще вот этак хватать, что нечего церемониться с ними. И заводских надо бы построже держать.
– Уж так ли плохи башкиры? – спросил Захар.
– Конечно, не все. Вон у меня есть друг, Султан Темирбулатов, знаменитый человек. Построил, брат, школу, мечеть, какие караваны в степь гоняет! А разве Могусюмка со своей гольтепой в сравнение идет!..
В этот день на базаре было много толков. Люди передавали подробности, как поймали Могусюмку и что будто он продал жизнь свою недаром: сам убил предателя.
Захар любил походить по толпе, послушать. Одевался он просто, и не всегда люди признавали в нем богатого купца. Между прочим услыхал он, как ругали его соседа Прокопа Собакина, называли его кровососом, говорили, что Собакин бесстыдно обманывает людей, торгует гнилью, дает в рост деньги, вводит и башкир и русских в такие долги, что люди потом не могут откупиться. Захар знал, что это правда, и ему приятно было слышать, как ругают Собакина.
Но тут же услышал Захар толки и про самого себя, что и Булавин подлюга, такой же кровосос, как Собакин, и что он богатеет с голи и рвани.
– Ты видал, какой он дом отстроил, какой у него амбар каменный стоит? Ни у кого, брат, таких амбаров нет. Как тюрьму построил. Что он в этом сарае держит?
Эти речи сильно задели Захара.
«Правда, – думал он, – разве я не знаю, что Санка обманывает покупателей. Вот хотя бы сегодня: опять он наверх плохой товар положил, а продавал за хороший. Ведь это я видел…»
Захар решил сказать Санке, чтобы этого больше не было. Казалось ему, что можно так торговать, что станешь полезным человеком, а не обиралой.
С тех пор как Захар пристрастился к чтению, он замечал, что в книгах торговцы изображены нехорошо, хуже других людей, и в то же время похожими: действительно, такие они и бывают. Книги эти и людские толки заботили его.
Глава 14. Кричный молот
Много передумал за эти дни Могусюмка. Он вспомнил, как лежал связанный неподалеку от избы Шамсутдина, у столбов с конскими хвостами на куль-тамакском холме, и как желал лишь одного – чтобы спаслась Зейнап. Он искал ее вокруг глазами. Он видел, как убили Ирназара, как Зейнап кинулась к отцу, когда его били, как упала она без чувств. Могусюмка пытался грызть веревки, но получил такого тумака, что чуть не потерял сознание.
Видел он, как Зейнап бежала, как офицер запретил стрелять казаку, уже было нацелившемуся в нее. Ночью пел о ней и плакал о своей судьбе и снова пел о любимой и о погибшем урмане. На другой день пленников повезли, а куль-тамакские избы – их было всего три – запылали, подожженные казаками. Осталась там старуха Гильминиса да где-то в лесу Зейнап, чей призывный голос услышал башлык ночью. Что с ними будет, неизвестно. Могусюмка не терял надежды вырваться рано или поздно из вражеских рук. Но убежать трудно: казаки хитры. Они умели крепко держать пленников. Вечная борьба со степняками на пограничной линии, которую вели они из поколения в поколение, воспитала в этих людях необычайную наблюдательность, хитрость и осторожность. Трудно от них уйти…
Могусюм оживился, когда стали подъезжать к заводу. Когда свернули не на перевал, а к углесидным кучам[41]41
Углесидная куча – место выжигания древесного угля для железоделательных заводов на Урале.
[Закрыть] – «кабанам», он понял, что попадет в заводской поселок, увидит, может быть, старых своих друзей.
И вот без шапки сидит он у крыльца заводской конторы, а бок о бок с ним Хибетка и дедушка Шамсутдин. Огромная толпа рабочих обступила их и смотрит. На этот раз тут много людей, незнакомых Могусюму, и смотрят они со злом.
– Ошибка, может быть, произошла, обознались… – говорят мастеровые.
– Что ты, да я знаю Могусюмку-то. Вот он, носатый, у которого рожа-то посмышленей. Он у Махмутова-старика коней пас. Богатый, брат, башкирин был. Могусюмка его и прикончил. Ты ему поди-ка в лесу попадись.
– А ты слыхал, как на Шкериных нападали, на лесорубов, чуть не убили. Этот вот Могусюмка.
Потолкавшись у конторы, пока на заводе полдничали, рабочие возвращались на свои места, уже более спокойно обсуждали случившееся.
– Надо их понять, – говорил молодой рабочий Степан Рыжий. – Им обидно. Заводы теснят. Много ли у них земли осталось? Им полосу отведут, и начальство объявит: мол, пользуйтесь, охотничайте, мед собирайте… А кто-нибудь из них, который побойчее из богатых сыщется, этот лес опять да и продаст. Огребет себе капитал.
– Это верно, – подтвердил беззубый Порфишка. – Богатые же башкиры все леса свои растрясли. Спроси-ка нашего деда.
В заводе рабочие расходились по сараям. Степка Рыжий и Порфишка подошли к кричному молоту, на котором Гурьяныч собирался начинать работу. Он не ходил к конторе.
– Что там случилось? – спросил он, бросая кричонка под молот.
– Конокрадов изловили, – отвечал Степка, – в завод привезли. Казаки их у конторы караулят.
Гурьяныч сразу не обратил внимания на эти слова и пустил молот. Балда ударила по железу.
Вдруг он бросил клещи на чугунный пол и, не отцепляя передачи колеса, повернулся к Степке:
– Кого изловили, ты сказал?
Молот продолжал бить по железу, плющил крицу.
– Могусюмку поймали, он там у конторы сидит, на телеге его привезли. С ним другой тоже… И третий…
У Гурьяна сердце замерло. «Он ведь мне брат, – подумал мужик. – Ближе братьев, я рос с ним… Отец мой был друг его отца…»
А Степан вдруг побледнел и спрятался за колесо. В тот же миг Гурьяныч почувствовал, что кто-то пнул его сзади. Он обернулся. Перед ним стоял Оголихин.
– Твое, что ль, мастерство? – прищурившись, кивнул «верховой» на разбитую крицу.
Колесо вертелось. Молот пробил ком железа, края его растрескались и стыли.
– С завода выгоню мерзавца! – заорал Оголихин. – Железо тратишь… Останови молот! Ты что, собачий сын, тут тебе не купеческая жена Настасья. – И он добавил грязную брань.
– Ты зачем так сказал? – спросил Гурьян.
В кричной наступила тишина. Оголихин нагло усмехнулся и подбоченился. Казалось, Гурьян стерпел обиду и потянулся было рукой, чтобы остановить колесо. Но вдруг он обернулся и шагнул к «верховому».
– Ах ты, пропасть! – заревел тот и толкнул Гурьяныча к молоту.
Рабочий удержался на ногах, но рассвирепел и кинулся на Оголихина. Он схватил Максима Карпыча за горло. «Верховой» побагровел, дико взмахнул руками, хотел что-то сказать, но хватка была так крепка, что из посиневших его губ вырвался лишь отчаянный крик.
Гурьян вдруг со всей силы швырнул «верхового» прямо к крице. Все это произошло так быстро, что никто не успел помочь Оголихину. Тот старался ухватиться за людей, но все в ужасе отпрянули, никто не пособил ему, и «верховой» упал на пылающий ком, чугунная балда тут же рухнула Оголихину на плечо. Молот снова поднялся, раздался второй удар.
– Человека убили! – пронеслось по кричной.
Рабочие сбегались к вододействуемым колесам. Отвели воду, остановили вал.
– Оголихина под молот закинули!
Толпа обступила Гурьяна. Явились стражники. Все понимали, что следует убийцу вязать, но Оголихина ненавидели и в Гурьяне готовы были сейчас видеть освободителя. Однако закон был законом, и взять надо, хотя и не хотелось.
– Ребята, – появился десятник Запевкин, – а ну-ка, хватайте его!
– Бери его!
– У-у, злодейская душа!..
Тут некоторые зашевелились, желая выслужиться перед начальством. Все рассчитывали, что Гурьян после такого дела сам дастся в руки. Но тот, оттолкнув ближайших рабочих, кинулся в сторону, поднял с пола чугунные клещи и угрожающе взмахнул ими над головой.
– Да вяжи, чего бояться! – кричал сзади Запевкин.
– Поди-ка сам попробуй свяжи! Ловко тебе за чужими спинами вязать, – отозвался старый горновой Кузьма Залавин.
Гурьян обвел взглядом молоты, вододействуемые колеса, плотину, лица товарищей, навесы, словно навсегда прощался со всем этим, и вдруг, еще шире взмахнув клещами, двинулся прямо на толпу.
– Расступись, эй, расступись, зашибет! – пятились передние, пугаясь его дикого вида.
Гурьяныч прошел через толпу и направился к воротам. Огромная толпа горнорабочих тихо двинулась за ним. Кто-то еще пытался подбежать и схватить его, но тогда Гурьяныч поворачивался, кидался с клещами на толпу, и она шарахалась в сторону. Так отбегали несколько раз, а мастер продолжал свой путь.
У заводских ворот, выходивших к пруду, дорогу ему смело заступил старикашка-сторож. Гурьян, положив клещи, поднял его, взяв за бока, как игрушку, и отставил в сторону. Тут он обождал, когда толпа приблизится, и, наконец, сняв шапку, низко поклонился.
– Прости, народ православный! – сказал он.
Он пошел по берегу пруда к лесу. Толпа остановилась у ворот.
– Хватайте его, чего смотрите! – заорал, вырываясь вперед, кривоносый Запевкин.
Видно было, как Гурьяныч полез в гору. Несколько стражников пошли за ним. Ружей у них не было. Гурьяныч сел на обрыв на камень, повыше их сажен на двадцать. Стражники внизу тоже остановились. Потом он слез с камня, выворотил его из земли и пустил под обрыв. Стражники побежали обратно, а в толпе невесело и вразнобой засмеялись.
Запевкин побежал донести управляющему об убийстве. Того в конторе не оказалось, пришлось идти к нему на дом в Верхнее селение, за плотину.
В просторных комнатах старого барского дома управляющий давал обед есаулу Медведеву. Управляющий человек был немолодой, ленивый и болезненный, находившийся, как говорили, под каблуком у своей любовницы, заводской девки. До него дошел слух, что заводы переходят в собственность какой-то иностранной компании. Он понимал, что немцы его держать на службе не будут. Поэтому он мысленно уже простился с заводом и собирался в скором времени уехать в Петербург.
Узнав о смерти Оголихина, он перепугался не на шутку и стал просить помощи у Медведева. Полицейский офицер принял в этом горячее участие и немедленно отправился производить расследование, а хорунжий во главе казачьего взвода отправился сам на ловлю Гурьяныча.
Отряд возвратился на завод поздно вечером, обшарив по окрестностям все балаганы, башкирские кочевки и углесидные кучи. Беглеца не нашли. Решено было на другой день взять с завода более опытных проводников да хороших охотничьих собак и разослать отряды в разных направлениях.
На рассвете есаула разбудили. Прибежал бородатый урядник и доложил, что у заводской каталажки, где сидел Могусюмка, разбит замок. Башлык и один из его товарищей исчезли, часовой связан веревками и посажен в каталажку, и, по его словам, вязал его русский – человек рослый и лохматый, с большой бородой, и будто ему пособляли какие-то башкиры, одного из них звали Кара-Хурмат – Черный Хурмат.
В руках у Медведева остался дедушка Шамсутдин и трое парней из Могусюмкиного отряда.
Есаул пришел в бешенство. Беда не в том, полагал Медведев, что Могусюмка будет грабить. Если бы он был только конокрад и грабитель, его бы давно поймали. Но имя его окружено ореолом героизма. Этого удальца, которому скорее надо было бы жить где-нибудь на Кавказе и разбойничать в горах, как Казбичу или Азамату, любили, уважали и башкиры, и даже, как заметил есаул, русские. Свои же казаки, истоптавшие старика Ирназара насмерть, к Могусюмке относились с непонятным уважением.
«Какая мерзость! Такого случая еще не было! – думал Медведев. – Заводские помогли сбежать… Сиволобов оказался его старым дружком. Неужели Могусюм в самом деле неуловим?»
Эта мысль задела казачьего офицера за живое. Он решил добиться в городе принятия мер и во что бы то ни стало изловить Могусюма.
Часть вторая. В степи
Глава 15. Вечерняя песня
Могусюмка хорошо выучился на дудке играть. Настоящий курайсы! Славно играет Могусюм! За долгие скитания с башкирами стал Гурьян привыкать к их напевам.
То плавно льется звук курая, то задрожит, затрепещет, как соловей.
Гурьян сидит у чугунного котла. Неподалеку одинокая бревенчатая юрта, а за ней широкая степь – черная от травы, сожженной еще в прошлом году солнцем, поваленной ветром и сгнившей от дождей. Кое-где сквозь эти завалы ветоши пробивается свежая трава, и вдали, местами, степь зеленеет.
Далеко-далеко за степью низкие хребты. Там заводы, рудники, углесидные печи. Мал отсюда хребет, темен, ниже древней юрты, слабой полоской тянется он за степью. Стреноженный конь бродит по степи – под брюхом виден весь Урал.
Гурьян смотрит на горы. Далеки они… Далек стал теперь весь горный заводской мир для Гурьяна. Уже несколько лет, как рыщет он по степи с башкирами. Сначала скрывались в сухой Голодной степи, потом перешли за Семиколенную гору, на западную сторону Урала. Оренбургским трактом, меж столетних берез, скакали на Стерлитамак, ходили под Чишмы, по красным глинам Приуралья, там, где на косогорах и холмах ютятся татарские деревушки с каменными оградами из слабого серого известняка.
Гурьян, выросший в глуши, в лесной стороне, повидал настоящие яблоневые сады, имения богатых русских помещиков, липовые и дубовые рощи, чистые, как сады. Под Белебеем, проезжая с сельского базара, встретил однажды легкие экипажи с помещичьей семьей. Потом бывал в Уфе, видал дворян, купцов, чиновников. Насмотрелся Гурьян на такое, про что и не ведал он, живя на своем глухом горном заводе.
По виду он обашкирился, летом носит стеганую шапку, халат, сарыки, на коне скачет, как степняк, по-татарски и по-башкирски толкует, как природный магометанин.
Бывало, играют в степи сабантуй, весенний праздник плуга, гуляют пахари и кочевники, съедутся русские, татары и башкиры. Степь горит от серебряных нагрудников на женщинах, тысячи распряженных коней стоят у телег или скачут стреноженные, тысячи оглобель щетиной поднялись по степи к небу. По весенней зеленеющей траве бредет, шумит, голосит, сверкает огромная толпа. Бьют ли горшок с завязанными глазами, борются ли, скачут ли наперегонки под дикий вой возбужденного народа – Гурьян повсюду с башкирами.
– Какой башкирин русый да бородатый! – заметят, бывало, русские.
– Кто башкирин? – поднеся лицо к сказавшему, спросит Гурьян, расстегнет рубаху и покажет нательный крест.
«Бродяга!» – со страхом подумает сказавший и пойдет прочь, и никто более не выказывает удивления, что у башкирина выросла такая русая борода.
И товарищи по скитаниям, и люди, у которых приходится останавливаться и скрываться, любят Гурьяна. Хотя он молчаливый, никого не веселит, шуткой не радует, но зато все умеет. Гурьян полезный человек. Он может починить ружье, подковать лошадь. Он даром делает то, за что обычно проезжим мастерам-лихоимцам, или купчишкам, или кузнецам-живодерам приходится платить втридорога. Гурьян умеет разобраться и в пружинах, и в разных винтах, он самую трудную работу с удовольствием исполнит. И говорит, что не заработать хочет, а просто для собственного удовольствия: сильно соскучился по делу.
Прошлым летом из-под Уфы Могусюмка и Гурьян южным степным, холмистым Уралом перешли опять на азиатскую сторону, в киргизские степи, бродили по ярмаркам, по кочевкам, сами завели табунок лошадей. Весной пришли сюда, где близки казачьи станицы, к пастбищам горных башкир, выгонявших скот на степь, на откорм. Башкиры с реки Демы из-под Белебея, ходившие с ними на западной стороне, теперь отстали. Но зато вернулся бежавший из Сибири Муса. А Усман и Шамсутдин погибли. Снова пристали к Могусюмке Мурсалим и Гильман. Так бывало: джигиты то приходили, то отставали.
Верные и не покидавшие Могусюма друзья: Черный Хурмат и Гурьян. Хурмат вместе с Гурьяном помог бежать Могусюмке, когда привезли его пойманного, в кандалах, на завод.
Сегодня опять стал виден Урал – горный, лесной, как раз та часть его, где было много заводов. Защемило сердце у Гурьяна, словно после разлуки встретил он дорогого и близкого человека.
Поглядит туда Гурьян, вспомнит родной завод, и захочется побывать ему на старом месте, повидать друзей.
Чуть видны белые пятна снегов. В эту пору снег еще лежит и в вершинах, и по долинам. Где-нибудь, накрытый слоем гнилья и листьев, лед висит козырьком над вздувшейся, бурно бегущей речкой.
Гурьян знает: если на высокую сопку заберешься, глянешь вниз с гребня – белые снега, как пряди, вплетены в голые леса, хотя всюду весна, уж лопаются почки, скоро зацветет черемуха, уж жаворонок днем поет над пашней, стоя в высоте, кукушка кукует, сегодня-завтра соловей запоет.
– Эй, Могусюм! Хватит плакать, давай плясовую! Нам ли горевать, – скажет Гурьян.
А место тут опасное: близки казачьи заимки. Правда, многие казаки знают Гурьяна, и почти все слыхали про Могусюмку, что удалец известный, заступается за обиженных башкир, трясет своих баев.
Бывает, казаки встретят его и поздороваются сами. Да еще спросят: «Не попался еще? Смотри, брат, скоро тебе секим-башка!..»
Но есть среди казаков смертельные враги Могусюмки. Да к тому же казаки сами удалой народ, многим хочется помолодцевать, изловить Могусюма.
Башлык перевел дух, поднялся, испил воды и снова стал играть. Зажурчала бойкая плясовая.
Нелегко Могусюму! Тоскливо и ему смотреть на эти горы. Тоскует башлык. Тоскует – на дудке играет. После того как он убежал из заводской каталажки, ходил он на Куль-Тамак, но на пепелище ничьих следов не нашел, и нигде, и никто не мог сказать ему, куда исчезли из сожженного поселья Зейнап и старуха Гильминиса, оставшаяся там.
А в горных речках вода сейчас не прозрачная, а белая, как с молоком, цветом похожа на тот известняк, что повсюду скалами стоит по Уралу. Кажется, вода растворяет в эту пору белые скалы. Речки ревут и грохочут, набухшие, быстрые, сильные.
Ольхи, ветлы, черемухи и тополя стоят уж не на берегу, а прямо среди потока. Устоять, конечно, трудно, только самые крепкие выдерживают, а гнилые и слабые валятся в воду.
…Могусюмка все жалеет, что лысеет Урал, обнажаются горы, что там, где был вековой урман, пеньки остаются, мелеют реки. Но еще велики леса по Уралу, еще местами стоит лес, от века не рубленный, – «старый лес», как называют его башкиры, где не стучал никогда топор промышленника.
Нынче Ураза – мусульманский пост – пришелся на весеннюю пору. Уж скоро праздник – конец поста, начнется гулянка в селах. Могусюмка пост плохо соблюдает. В эту пору можно есть только ночью, а он нет-нет да поест днем, на дудке поиграет. Веселится, когда весело, грустит, когда грустно. В мечеть не идет – молится дома. У Гурьяна Пасха прошла, но и он не постился и на Страстной неделе не ходил в церковь, хотя помнил про пост и праздник. И Могусюмка, конечно, помнит.
…А курай все играет. Гаснет заря над голыми степными горбами. Костер горит.
– Что, Могусюм, грустно?
– Грустно, – с печалью отзывается тот.
– Поедем в горы.
– Куда?
– Вон туда! В родные места…
– Это не наши места. Наши дальше… – Могусюм махнул рукой на север.
Горы напоминают Могусюмке о Зейнап. Кто ее увез? Кто украл? Где она? Бродила Зейнап по пожарищу и, может, сложила там свои кости, задрали ее по осени голодные волки. Или, быть может, ушла, нанялась в батрачки к богатым русским или башкирам? Но ведь верно говорит у русских пословица: «Бедной девушке краса – смертная коса». Бедная она сирота, и каждый сделает с ней все, что захочет.
Власти искали Могусюмку и Гурьяна. По Уфимской и Оренбургской губерниям казаки и полиция гонялись за ними. Да все пока благополучно сходило.
– Поедем к дяде Шакирьяну, – говорит Могусюм. – У него юрта в пятнадцати верстах от Магнитной.
Стемнело. Вокруг костра ходит старик Бегим. Это тоже старый спутник Могусюмки. Он в теплых сарыках и черном кафтане. У него маленькое желтое лицо, седая борода лопаткой и острые скулы.
– Ну, неверный, – обращается он к Гурьяну, – трава пойдет скоро, будем кумыс пить.
– Будем!
Бегим постится, вчера ездил в мечеть. Он принес кумган[42]42
Кумган – кувшин для воды с носиком, ручкой и крышкой.
[Закрыть], стал мыть руки.
– Ты не такой, как другие русские, – продолжает Бегим. – Переходи в нашу веру!
– Нет, я от своей не отступлюсь. Ведь я крещеный и Богу молюсь правильно, двумя перстами, – шутя отвечал Гурьян.
– Наш закон хороший, а ваш плохой. Из-за вашего закона все гибнет… И люди, и урман, и скот.
Обычно Бегим очень осторожен, никогда не скажет никому из русских плохого слова про неверных. Но с Гурьяном он не стесняется.
А Гурьян знает: плохо живут башкиры. Десятый богат – со скотом, с баранами, а девять – голы. Теперь, когда влез Гурьян в башкирскую шкуру, понял он, что есть от чего тосковать башкирам.
Вот они, печальные, в оборванной одежде, в круглых мохнатых шапках, сидят у костра.
– А в завод пойдем работать? – говорит Гурьян, обращаясь к старику Бегиму.
Хибетка, приятель Могусюмки, слыша эти слова, поднимает голову, и широкая, добрая улыбка оживляет его лицо.
Старик не на шутку рассердился.
– Тьфу, тьфу на твой завод! Ай, ай, Могусюмка! Зачем у тебя приятель такой!..
– Завод жизнь земле дает.
– Грех! Какая жизнь? Дым, огонь, болезни….
У Гурьяна с Бегимом старая перебранка. Когда старик начинает уговаривать Гурьяна менять веру, тот заводит речь про заводы.
Могусюмка и Хибетка посмеиваются и молчат.
Могусюмка иногда как будто сам не знает, за кого в этом споре, который длится не первый день. Если метко человек скажет, Могусюмка смеется, как бы соглашается. Потом другой напротив говорит – тоже смеется и тоже соглашается. Но это только кажется. Башлык знает, что хочет, да трудно узнать – не говорит никому.
Многие башкиры работают на заводы, возят руду, рубят лес, жгут уголь. Но редко-редко встретишь башкирина, который жил бы на заводе, работал у домны или у горнов. А Хибетка давно уж хочет к огню. Начнет Гурьян делать винт или перековывать железо, закалять сталь или ковать лошадь – Хибетка тут как тут, и жадно наблюдают острые глаза его за черными руками бывшего мастера, и быстро перенимает он от Гурьяна умение обращаться с железом и вырезать из него инструментом все, что нужно. И не боится Хибет огня, искр, не сторонится, когда окалина летит из-под ударов молота.
– На хорошем заводе саблю скуют, ходок для телеги, на подковы железо наварят, сделают плуг. Завод не виноват, если люди, как собаки, – уже без шуток, серьезно продолжал беседу Гурьян.
– Смеешься! Так скажешь – все хорошо! И тюрьма хороша. Решетки для тюрьмы тоже из железа.
– Не сама тюрьма страшна, а люди, которые к ней приставлены. А тюрьма – изба.
Бегим, бранясь, отошел к юрте.
– Хорошему заводу можно дать место. Кроме пользы, ничего не будет. А ты что приутих, Могусюм, играй, брат, играй, товарищ!
Но Могусюмка молчит, слушает.
– Мне кажется, в перелеске жаворонок поет вечернюю песню, – говорит он.
Но ничего не слышно.
Темнеет.
– А кто теперь нашего урмана хозяин? – спрашивает Могусюм. – Говорят, новый теперь хозяин.
– Хозяин, брат, далеко. Он в урман шагу не ступит. Урманом распоряжается тот, кто пером чешет и чешет, приказ по конторам дает. У кого сила в кляузе, в бумаге.
Опять зажурчал курай. На простой дудке, на полом стебле играет Могусюм, перебегает пальцами по пяти дыркам. Потом отложил курай.
Урман, мой урман,
Вечный и прекрасный, —
запел башлык.
Могусюмка складно сочиняет. Часто люди не скажут, что они думают, что хотят, – только по песне узнаешь, прислушавшись. Редко кто умеет песни сочинять. Малый был Гурьян, всегда спрашивал у матери: «Кто песню сложил?»
Мать, бывало, рассердится, что с глупостями пристает, а потом скажет, когда досуг: мол, бедные люди складывают, бабы больше, бывает, и мужики, разбойники тоже…
Урал, Урал, гребни твои седые, —
поет Могусюмка.
Скоро лыса будет старая голова твоя,
Как у старого глупца. Вытравятся на ней кудри, вытрутся.
Поседеют и помертвеют последние, засохнут березы,
Урал, Урал, гребни твои сивые и лысые.
В городе чиновник бумагу большую пишет,
И в конторе тоже бумаги пишут и сидят
На высоких стульях…
Не тот, кто с сайдаком бьет зверя и
Скачет на коне, а тот, кто бумагу пишет
И носит очки, как старик,
Тот урмана хозяин…
Кто на лыжах не бегает, кто железа
Не варит, кто только бумаги пишет
И закон знает…
Опять Могусюмка взял курай, стала дудка шутить, подшучивать, подыгрывать веселый напев для горькой-горькой думы, потом опять отложил курай и запел грустно:
Будет у тебя сын, моя любимая,
Не расти его смелым, не расти его умным,
А научи писать на бумаге, пусть закон толкует…
– Был бы ты по-городскому грамотен, – говорит Гурьян, – с твоей головой далеко пошел.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































