Текст книги "Могусюмка и Гурьяныч"
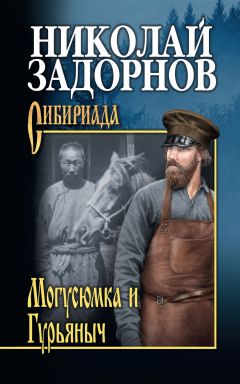
Автор книги: Николай Задорнов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Глава 36. Сход
– Сколько воронья налетело, – проходя, громко сказал Колька Загребин, с высоты своего роста осматривая поверх толпы крыльцо волостного правителя, на котором установили стол с зеленым сукном и стулья.
День теплый, осенний. В такой день можно поговорить…
На крыльце те, кого Загребин назвал «вороньем»: становой, управляющий, горный инспектор, мировой посредник – мундиры с пуговицами, форменные фуражки. Пришел батюшка – отец Никодим. Там же старосты, старшины, на нижних ступенях – полицейские.
Поднялся мировой посредник, гладкий, розовый, невысокий блондин с благодушной улыбкой, и объяснил, кто он, что за должность мирового посредника. Сказал, что его обязанность – защищать народ и отстаивать права и что благодаря этому справедливость будет соблюдена, что отец наш государь-батюшка Александр Николаевич, защищая народ от произвола и безобразия, повелел входить мировым посредникам во все споры между работодателями и обществом. Он долго разъяснял суть разногласий между заводоуправлением и миром и под конец сказал, что за землю придется платить. Потом он упомянул о земском сборе, потом о налоге государственном и недоимках.
– Это закон, и тут нет никакого подвоха! Какой же может быть подвох, когда это закон государственный? Понятно?
– Не пойму, батюшка, – отозвался бородатый Чеканников.
– Что же ты не понимаешь, голубчик Тит Алексеевич? Так, кажется? – оборачиваясь к старосте, тихо и немного смущаясь и краснея, спросил посредник.
– Да за что платить? – продолжал Чеканников. – Что ты нам даешь, батюшка, каков твой товар, за который мы должны платить?
– Земля! – ответил Верб, подымаясь, и снова сел.
– Почем же ты нам ее продаешь? – обратился Чеканников к управляющему.
– Это уж известно, – чуть приподнимаясь, сказал Верб.
– Что же ты шутишь, Тит Алексеевич! – сказал мировой. – Негоже так!
– Какие же шутки! Я спрашиваю при всем мире, вот люди вокруг стоят, за что же платить? Когда товар покупают, так надо посмотреть его.
– За землю, которой вы пользуетесь. Вот если ты возьмешь у соседа коня или телегу, плуг – ты же потом отблагодаришь…
Сход загудел.
– Видишь, они за благодарностью!
– Благодарность!..
– Как же я могу за землю платить? – сняв шапку, закричал низкорослый Волков. – Ведь я ее произвел, отец и дед отняли у леса. Моя она. А ежели не моя, так мне ее не надо.
– Ну, так нельзя! – сказал мировой посредник и стал терпеливо и обстоятельно рассказывать, как по закону взимаются налоги с земли и что такое арендная плата.
– Земля принадлежит помещику, вы на ней живете, ею пользуетесь, ошибочно с вас не удерживали эти годы. Поэтому надо взыскать.
– За землю согласны платить государю, а не помещику, – сказал Загребин. – За господскую платить не будем!
– Почему же? – добродушно и с укоризной спросил мировой посредник.
– Работаем, да еще за землю платить! Если у меня не будет земли, я не прокормлюсь! – живо закричал Загребин. – Как же можно!
– Вот вы говорите, за усадьбу платить, – вышел Порфишка. – Жить-то мне где-то надо? Это несправедливо!
– Чего же ты хочешь?
– Земли не хочу, барин!
– Вот ты нам толковал, теперь дозволь, я объясню, – снова заговорил Чеканников. – Как было при крепостном? Мы сеяли хлеба, а сами с землей были помещичьи. Теперь законом предусмотрено, что человек волен. Но человек и волен, а есть хочет. Воля, а за землю плати!
– Да где эти деньги взять? – закричали в толпе.
– Не заробишь! Накиньте платы!
– Это другой вопрос, – сказал посредник. – С вас после манифеста следовало… – Он стал считать и объяснять, сколько следовало бы взыскать за десятину да за усадьбу. Сказал, что дана была льгота, за это время надо было подумать.
– Время прошло. Вам опять дали льготу. Пора взыскивать. Поймите: это закон велит. Перед законом все равны, все обязаны исполнять, нравится нам или нет. Кто не исполняет, того законом же привлекают к ответственности. За это тюрьма и ссылка. Я не думаю, чтобы у нас дошло дело до этого. Вы православные, должны понять, что это справедливо – платить арендную плату. Отработку на заводе произведете!
– Царю согласны, а помещику нет, – стоял на своем Чеканников.
– У помещиков и так много доходов! Государю – согласны, – подхватил Волков.
– Все согласны!
– А барину не заплатим!
– Так это же бунт, братцы!
– Уж как хочешь!
– Земли нам не надо, – яростно закричал Загребин, обращаясь к толпе. – Сымем землю с притолок, вот будет наша земля!
– Зачем же вы так упорствуете? Если будет бунт, пришлют команду, будут искать зачинщиков, заводить розыск. Скажите им, Иван Кузьмич, они вас послушают, – обратился посредник к Пастухову.
Вышел учитель.
– Закон есть закон, – заговорил он. – Обойти закон не удастся.
– Закон один – дите малое это поймет, – перебил учителя Волков. – Человек где-то должен жить, кормиться. Мы эту землю расчистили, запахали, тут окоренились. Наши деды и прадеды эту землю произвели. А теперь за это же мы должны платить. Кому, подумай, Иван Кузьмич? Хозяину! Эти же деньги ему отдай! – показывая обеими руками на Верба, выкрикнул Волков. – Вот скажи, как закон понимать? Земля-то нами добыта, она была пустая. На ней башкиры даже не жили. Может, где народ согласится. А мы такого закона понять не можем.
– Позвольте, я все же скажу, – отозвался учитель.
– Милости просим, батюшка, – раздались голоса. – Послушаем тебя охотно.
– Ведь ныне земля у помещиков. Говорят, что помещики останутся без средств, если отнять у них землю. У нас в России нет такого закона, чтобы подачей голосов от народа можно было закон переменить. У нас царю с землей не приходится советоваться. А помещиков много. Все, что вы тут толкуете, верно: без земли и вам жить нельзя. Вот в Лысьве, говорят, выбрали ходоков к государю с просьбой изменить закон, дать землю горным рабочим.
Все замерли.
– Пошли ходоки. Но казаки догнали их и выпороли… Поэтому все надо делать с умом, чтобы дошло действительно до самого государя, нашего заступника. Вот я и обращаюсь к мировому посреднику, помогите миру. Суть дела ясна. Обратитесь к государю. Может быть, государь найдет нужным изменить закон.
– Видишь ты, куда он гнет, – сказал Прокоп Собакин своему старому другу Галимову. – Он уж не против ли царя? А сам, верно, помещичий сынок! Вот до чего помещики доходят, что подстрекают народ бунтовать против государя.
– Вот и я говорю, – спокойно продолжал учитель, – если не согласны, надо искать законного решения, чтобы не исполнять закон.
– Как это, барин? Закон не исполнять, говоришь? – закричал Прокоп.
– Мы не плательщики! – крикнул Загребин. – Закон не верен! Я землю поливаю потом и платить за нее не буду. Вот смотри, барин, вот сколько нас здесь есть – все мы неплательщики. На том наша вера перед Богом. Так ты, батюшка Иван Кузьмич, говоришь, что надо менять закон? Так ты говоришь?
Пастухов, как и десятки тысяч русских интеллигентов, пытался заронить в народ семена осознанной свободы, побудить в самой его гуще потребность понимать устройство государства, вызвать в самих людях желание думать о своей судьбе и о судьбе государства. Он и сегодня впервые старался подать мысль рабочим, что государственный строй в России несовершенный и что царь не заступник народа.
Он отлично понимал, что говорить все это – дело рисковое.
Посредник сильно смутился и краснел во время его речи. Верб не шелохнулся. Иванов и становой переговаривались.
Сход продолжался весь день. Волков устал и уснул под березой, когда пространно говорил Верб. Управляющий закончил. Волков проснулся и стал ему отвечать так, словно слыхал всю речь.
– Законы издает государь, – говорил Пастухов, идя со схода в толпе знакомых рабочих. – У него советчики – ваши хозяева. А надо, чтобы царь советовался с народом.
– А ты знаешь, барин, что я тебя сейчас положу здесь, на этом месте, и мне за это ничего не будет, – сказал Собакин, шедший вместе с рабочими.
– Нет, ты меня не положишь, напрасно думаешь! – ответил учитель, но покраснел.
– Ведь ты как будто говоришь за господ и за закон, а на самом деле говоришь против. Мутишь?
– Он правду говорит, – сказал шедший тут же Булавин. Прокоп и Захар стали спорить, а рабочие разошлись. Утром с завода уехали мировой посредник со становым, так и не добившись ничего от общества.
Глава 37. Бунт
Еще ранним утром на почерневшем от дождей сливном мосту, там, где между намерзших за ночь заберегов грохотали падуны, ходила невысокая старуха. Она одета в темное, просто, сама маленькая, коренастая, со сморщенным лицом, с крупным прямым носом и горящим взглядом темных, глубоко сидящих глаз.
– В Евангелии сказано, – говорила она идущим в завод рабочим, останавливая их, – читайте и поймете… машин не надо.
– Здоров, бабка Акулина, – молвил ей кто-то из молодых.
– Молчи! – грозно ответила старуха. – Есть слабые, несчастные, они сами не ведают, что творят. Вот они сидят в гордыне, – показала старуха на контору. – Как вам не совестно, – оборачиваясь туда, кричала она, – я всех вас люблю и всем вам желаю добра, и мне жаль вас!.. Вам гибель идет, несчастье, а вы незрящие.
Как все понимали, бабка толковала про нового управляющего. Старуху знали все. Она человек прямой, набожный и зря говорить не станет. Толкуя про Евангелие, проклиная машины и пророча неизбежную беду, старуха весь день ходила по мосту у конторы и у заводских ворот, время от времени собирая вокруг себя толпу людей.
Инженер Верб с утра заметил старуху, с фанатичным видом провозглашавшую что-то, и поначалу решил, что это пустяки, что старуха полусумасшедшая, покричит и устанет.
Верб обошел работы, побывал на доменных печах и вернулся в контору, а старуха все не умолкала. Вскоре, сбив целую толпу под самыми окнами, она доказывала, что в Евангелии сказано, будто привезут на завод машины и добра от этого не произойдет, что где машины, там у народа не будет хлеба, кто даст машины, тот все и заберет. Ее речи сильно волновали народ. Суеверным людям казалось, что ее устами говорит сама справедливость.
– Земля – божья, – объясняла она. – Люди кормятся с нее. Как же этой землей дразнят нас, как голодную собаку!
Верб удивился, как у нее хватает терпения и энергии. Ни один парламентский оратор не выдержал бы такого напряжения. Складно и красноречиво, не ослабляя тона, с неподдельной яростью, старуха говорила и говорила… Верб понимал, что лучше бы прогнать ее, но ее, видно, знают, да и всякое насилие над ней возмутит народ, а положение и так напряженное. Он велел подать шарабан и, чтобы не слушать, поехал в свой дом за реку. Его возмущал становой, уехавший из завода. Видимо, струсил. Проезжая по плотине, он услышал, как старуха кричала, показывая на него: «Он тоже несчастный, сам не знает, что творит!» – и еще что-то – он не разобрал.
«Откуда такая страсть и энергия?» – думал Верб.
Ему пришло в голову, что, может быть, в этих темных на вид, покорных и невзрачных людях действительно скрыты какие-то неразбуженные силы. Пришло ему и другое в голову, что старуха не столь глупа, как хитра. И с умыслом так толкует Евангелие, применяя его к теперешней обстановке.
Через некоторое время к управляющему приехал «верховой» Запевкин.
– Беспорядки, Иван Иваныч, – входя в большую комнату с паркетным полом, сказал он.
Верб велел отремонтировать дом управляющего и переехал временно в другой, каменный, низкий, старинный, с паркетом, с мебелью красного дерева и хрустальными люстрами.
Дом этот, как белая стена, залег в саду, что над Белой, на скалах, среди столетних берез и лиственниц. С террасы вид на реку, на завод, пруд и горы. Кусты сирени и черемухи скрывают его окна. Строен он сто лет тому назад первыми Пашковыми. Это дом хозяина завода. Обычно он пустовал. Пашковы останавливались тут, изредка приезжая на завод.
– Вокруг старухи сбилась толпа, – кидая на окна взоры, говорил Запевкин. – Рудобойцы бросили работу. Я послал стражника, чтобы вернул их, а они не послушались.
– Говорил становому, что следует задержаться, – сказал Верб.
Управляющий надел куртку, взял пистолет, велел подать к крыльцу оседланную лошадь.
Вскоре он подъехал к плотине.
– Нет больше работы! – кричал Никита Башкирцев, сверкая своими большими острыми глазами. – Баста!
Разговоры о забастовке шли между рабочими еще после схода.
Завидя толпу на плотине и услыхав, что рабочие объявляют забастовку, Верб подъехал к ним.
– Что такое? – спросил он, пуская лошадь прямо на людей, в самую середину толпы.
Рабочие почтительно расступились и стали снимать шапки.
Казалось, все присмирели и порядок был восстановлен.
– Ты кто такой и что ты хочешь? – спросил управляющий у одного из почтенных, седых рабочих.
– Кричный мастер Иван Рябов.
– Так это ты подавал жалобу? Ведь тебе отказали. Смотри, теперь ты ответишь! Как ты смеешь возмущать народ своими глупыми речами?
– Чем же он глуп, барин? Зачем ты обижаешь хорошего человека? – спросил Загребин, стараясь быть спокойным. Но голова его затряслась и руки задергались.
– А ну, мужики, именем государя нашего Александра Николаевича… расходитесь! – Верб, желая обратиться ко всем, поднял руку с висевшей нагайкой.
– Постой! – закричал Загребин, хватая поводья его лошади.
Все расступились, не смея поддерживать ни того, ни другого.
– Прочь руки! – властно сказал Верб.
Загребин усмехнулся.
– Барин, не мучай народ! Не мучай!.. Зачем ты нас теснишь? Земли много. Клок на брата жалеешь.
Верб взял рабочего за руку своей сильной рукой и потянул ее прочь, но тот не выпускал поводьев.
– Позволь, барин, поговорить. Послушай, что просит мир. – Дрожащая рука Загребина угрожающе ползла по поводьям. Он смертельно побледнел.
И тут Верб полоснул мужика нагайкой по руке.
Загребин в бешенстве кинулся на управляющего, вмиг стащил с коня и бросил в толпу. Рабочие пытались остановить Загребина. Несколько стражников выбежали из заводских ворот. Верба подняли, а Загребина схватили.
– Бей их, ребята! – сразу же закричали в толпе два-три голоса.
В полицейских полетели камни. Раздался выстрел, потом другой. Толпа отхлынула.
В этот день рабочие на работу не вышли, не вышли они и на другой день. Только домны дымили по-прежнему. Горновой Кузьма Залавин с подручными не позволял печке «козлить». Если бы домна встала – это бы уж был конец всему.
Глава 38. Поездка мужа
Захар Булавин был в толпе на плотине. Ему сильно не нравились все эти Вербы и Хэнтеры. Он был оскорблен тем, что на его родном заводе хозяйничают люди чужие, которые показывают все время, что тут живут ничего не понимающие дураки, которых надо школить. «Разве нет русских, способных управлять заводом? – не раз думал он. – Неужели все без толку и все русские – пьяницы?»
За последнее время все здешнее, заводское, считалось плохим, отсталым. Захар от души сочувствовал заводскому люду. Немцы под тем предлогом, что на заводе не было хороших машин, бесцеремонно унижали все здешнее и самих рабочих считали чем-то вроде устаревшего оборудования. Когда Верб полетел с лошади, Захар понял, что дело зашло далеко, хотя в душе, как и многие, готов был оправдать Загребина тем, что тот решился показать, как народу тяжело, что мера людского терпения кончилась. Сделал Загребин это так же порывисто и неровно, как все и всегда. Булавин понимал, что во всяком бунте есть смысл и причина. Если бы у него была сила и власть, он желал бы действовать иными способами. А то беспокойный Загребин кинулся… Прав был, ведь его ударили нагайкой. Тут мог бы возмутиться народ, но один-два поддержали, а народ стоял молча, а потом хлынул в сторону.
В тяжелом раздумье пришел Захар домой. «Действовать нужно было бы дружно», – полагал он. Виденное на плотине как бы придавило его. Он рассказал жене о происшедшем, прекрасно понимая, что теперь заварится каша. Прятаться за свои шатровые ворота и запоры не желал и не скрывал своего сочувствия бунтарям.
– Ты рубишь сук, на котором сидишь, – сказал Булавину утром на базаре Прокоп Собакин. – Как смеешь идти против купечества? Разорим! Со смутьянами?
– Зачем своя вера забываешь? – согнувшись и указывая пальцем на Булавина, говорил Галимов. – Ай, ай, как не стыдно!
Старые друзья шли против Захара, упрекали его. Угрюмый Собакин винил, что зря водится с учителем, напрасно пристрастился к чтению, открыл школу, выписал газеты. Тут все зачли.
А леса на сопках посерели. Обнажилось чернолесье и березняк. Опали пурпурно-золотые одежды дубняков и кленов. Осыпались пожелтевшие иглы с исполинских, раскидистых лиственниц. Только пихтач да ельник по-прежнему зеленели на склонах гор и по долинам. Временами шел снежок. Леденели берега и пороги, застывали непроходимые болота, торфяники и топи. По реке шла шуга, шурша об шиханы. Кони губили копыта на застывших комьях грязи.
Птицы разлетались с Урала. Остались зимовать в трущобах горбоклювый глухарь, пестроперый тетерев и куропатка
В эту пору волк уж оброс пушистой зимней шерстью. Ночами ближе подходит к людскому «жилу» и к конским косякам. Медведь сгреб мох с утесов и россыпей, заранее устроил логово, чтобы не оставить следов на зиму. Наваливал себе охапки сухой травы, листьев, делал берлогу помягче, потеплей, поуютней. На белке давно уже мех пушистый. Стелет белка хвост по стволу и скользит в высокую глубь.
Охотники на пушного зверя готовились к промыслу. Лили пули, рубили свинец, налаживали старые ружья, заказывали Булавину привезти с осенней ярмарки новых английских, тульских и немецких.
Солнце бледнело, дни укоротились.
Однажды ночью подожгли лавку Булавиных. Санка уверял, что петуха подпустили молодцы Собакина. Пожар заметили вовремя. Захар сам тушил, люди съехались, навезли воды в бочках. Часть товара растащили. В толпе кто-то кинул в Захара горящей головней.
Чувствовал Булавин: зло кипит вокруг и чем дальше, тем труднее ему будет, что сам он рушит свой же достаток и торговлю, гонясь за справедливостью. А люди о других не думают, только о себе.
Обгоревшую лавку закрыли, наняли сторожа.
– Самосуды чинят, – говорил Захар жене. – Собакин сказал мне, что, мол, теперь сочтемся с рванью. Они, мол, сами руку подняли – так бей, наводи порядок. Будто бы сами, мол, провинились, шею подставили, бунтари. Вот видишь, по случаю вымещают на людях!
Захар обращался к попу; тот обещал усовестить Прокопа.
Санка затемно ходил проверять, как лавка и сторож, а заодно потолкаться, где люди. Он возвращался домой поздно.
Ночь была беззвездная. Выпал снег. По избам, несмотря на позднее время, горели огоньки.
Санка вспомнил свое детство. Вот так же идет, бывало, снежок, а он, маленький мальчонка, катит с пригорка на салазках. Далеко это было отсюда… В Расее… И звали его тогда не Санкой, а Санькой – по-российски; помягче выходило. Мать, бывало, выйдет за ворота да этак широко заговорит: «Санька, Санька, пострел, опять весь завалялся. Ступай-ка в избу, солнце в обед». Эх, давно это было!.. Санка смутно представлял себе и материнское лицо, и родную деревню. Помнил только, что за последней избой к речке косогор, а внизу прорубь. Когда на салазках катаешься, того и гляди попадешь.
– Александре Иванычу почтеньице… Откедова гуляете? – заслонил дорогу долговязый детина в высокой шапке. От парней несло водкой и луком.
– Что же ты не здороваешься? А? – появился знаменитый драчун Митька Зудин и стал наседать на Санку то правым плечом, то левым.
Слух прошел по заводу, что Захару теперь несдобровать, что он, грамотей, подстрекал Загребина. Поэтому Зудин не испытывал больше уважения к булавинскому приказчику.
– Вон энто видал? – поднес парень к его носу кулак.
– А невеста у тебя с Нижнего? – спокойно спросил Санка.
– Ко-ово? – недоверчиво протянул парень.
– Бают, заветная-то у тебя с Нижнего селения.
– Не… – оторопел тот.
– Мотри-ка, молодец, махеру[59]59
Махера – зазноба, от фр. mа chere.
[Закрыть] твою там прижали, а ты на горе озорничаешь.
– Нету у него заветной. Девки пужаются его, – посмеялись парни.
– Что это баишь-то? – строго спросил у Санки долговязый, что заступил ему путь.
– Башкиры заводскую девку обижают, – соврал Санка, – в Нижнем на Зеленой поймали… Красивая девка… – расписывал он. – Да васейка она будто с вами хороводилась.
– Стой, стой!.. А какая она? Не в дубленом ли полушубке? – встрепенулся Митька.
– Во, во… в дубленом полушубке.
– И в полушалке? Румяная, родинка на щеке?
– Вот, вот!.. Красивая девка!..
– Не Дашка ли, а? Ребята?
– Как ее тащили улицей, так баба голосила: вот, дескать, Дашеньку разбойники увели…
– Абтрак[60]60
Абтрак – дело плохо (русско-башк. жарг.).
[Закрыть], ребята, – развел руками Митька.
– Абтрак, – согласился долговязый.
– Александра Иваныч, – умоляюще заговорил Зудин, – да куда он ее?
– Куда?
– Да, куда?
– Да вон ту-уда… вон туда… знаешь…
– На запань? – в отчаянии воскликнул парень. – Да не тяни ты!..
– Ага… Будто что туда.
– Эх ты, незадача! И за коим чертом Дашка в Нижнее селение попала? К тетке, может, ходила?
– Ясное дело, к тетке… Тетка у нее такая… тощая?
– Не приведи бог! Щека щеку ест.
– Надо выручать… Васька, не сробеешь?
– По мне, все одно… Чово бояться?
– Ну, пошли-ка, чего канителиться…
– Побегли, прощай покуда, Лександр Иваныч! Спасибо тебе!
– Не на чем. Беги, беги, выручай махеру.
Парни побежали.
– Пусть по запани побродят. Все занятие им, – облегченно вздохнул Санка. – Слава тебе, Боже! Так же один раз ночью, помню, остановили на мосту пьяные и обижают. Вижу, ребята молодые, глупые. «Дай, – говорю, – покажу диковинку». – «Ну, – говорят, – покажи, только соврешь – побьем». «Нет, – говорю, – чистая правда. Только жалко, палки нет». «На что, – говорят, – тебе палка? Вот возьми дубину мою». Я взял ее да изо всей силы хвать его по башке – и ходу…
Он дошел до ворот булавинского дома.
Дома Санка отряхнул суконный полукафтан от снега, обтер сапоги об половик.
– Ну как дела?
– Неважно, Захар Андреич.
В избе тепло. Настасья грелась у вытопленной печи, заложив руки за спину. Она была взволнована, и ее щеки горели. Одета Настя по-праздничному – в яркий сарафан, рукава на груди расшиты, будто вся кофта в землянике.
– Снежок падает, Александр Иваныч?
– Полный снегопад, Настасья Федоровна.
– Ну, Санка, рассказывай!
– Плохо, Захар Андреич… Сказать страшно. Собакин послать хочет молодцов нашу лавку в Низовке разбить. И заодно хотят тебя подкараулить, ежели ты поедешь.
Санка рассказал, как, где и от кого он это услышал.
– Ну так и не езди, – сказала Настя. – Бог с ней, с лавкой, и со всем!
Захар подошел к сундуку, поднял крышку, достал старый полушубок, бросил его посреди кухни.
– Не езди, Захар, не езди! Мое сердце в тревоге…
– Ну что за бредни? Дело есть дело. Там ведь товар.
– Захарушка!..
– Дело, жена, прежде всего! Хватит нам глупостями-то заниматься! Какие могут быть воображения! О себе надо подумать. Своя рубашка ближе к телу. Я за свое еще постою. Собакин и Галимов хотят меня задавить. Ведь вся наша жизнь прахом может пойти.
– О чем это ты, Захарушка?
– О том, Настасья, что сейчас и ехать.
– Куда, зачем ты поедешь?
– Сначала поеду в Низовку и посмотрю, как они там мою лавку сожгут. А с Собакиным я еще померяюсь силой. А из Низовки, может статься, через низовский перевал, за хребет – в город. Суди сама, что же это такое – в заводе все перевернули, толку нет, находятся бунтари, поджигают… Теперь мало что завод нарушили, торговать не дают. И народ злобится, тоже хорошего ждать нечего.
Настасья знала если что мужу запало в голову, он от своего не отступится.
– Санка, ступай на конюшню, заложи Буланого, – сказал Захар.
Приказчик вышел.
– Из Низовки поеду защиты себе и народу искать. Ждать, покуда в городе сами узнают, – долгая песня. Я приду туда и спрошу их, что они думают. Ведь они и народ изведут, и торговлю погубят. На заводе меня никто слушать не хочет – ни тот ни другой, а без дела сидеть не могу. Деньги знаешь где?
– Ах, знаю, Захарушка!
У Насти такой вид, словно она хотела сказать мужу о чем-то гораздо более важном, чем лавка и поджоги, но чувствовала, что не может и он не поймет, и поэтому смущалась.
– Если что – ты хозяйка им.
Настасья печально усмехнулась, но Захар не заметил.
Вошел Санка. Булавин встал, поднял полушубок, надел его поверх поддевки, опоясался кушаком. Настасья сидела на сундуке, опустив руки. Вот он снял со стены охотничий нож в чехле, заткнул его за пояс, надел сумку с огневым припасом, тщательно застегнул ремешки.
– Подавай чепан.
Настя засуетилась.
– Да как же ты один в Низовке с собакинскими справишься?
– Да уж, Бог даст, управлюсь. Мне только им в глаза взглянуть. Поди, не медведи…
– Да что это, Господи, вдруг сразу не евши, не пивши – и в дальний путь!
Захар был смел и удал. Его задели за живое.
Настя подала чепан. Захар сунул руки в широкие рукава. Жена натянула ему одежду на плечи.
– Тепло будет, – улыбнулся Булавин. – Ты смотри тут, не плошай.
Он взял из рук жены шапку, повернулся в передний угол и стал молиться на темные лики святых.
Настя стояла сзади и тоже перекрестилась несколько раз. Но молитва не шла на ум. Дрожь охватила Настасьино тело. Она растерянно смотрела на широкую спину мужа и судорожно теребила пальцами передник.
Захар обернулся. Надел ружье, сунул правую руку в петлю ременной нагайки. Достал из печурок нагретые варежки.
– Ну, жена, покуда до свидания!
– Захарушка, милый!.. – Настасья разрыдалась. Она охватила его за широкий ворот чепана и прижалась к его груди.
– Чего это с тобой, Настя? Да будет, будет! Жив вернусь, не печалься. Ну, прощай, – поцеловал он ее. – Господь поможет, уйму всю шайку своих соседей любезных, не реви, Настя… Дело важное… Товар… лавка. Подковы смотрел? – спросил он Санку.
– Исправны.
– Ну, пошли.
Вышли во двор. Снег валил пуще прежнего. У крыльца стоял Буланый. Охотничий пес Захара шмыгнул из потемок, скулил, ластился о сапоги.
– Зверюга… – потрепал его по волчьей шерсти Захар. – Кормила, Настя, Серого?
– С вечера еще накормлен.
– Ну, Санка, смотри. Что тут с Настей случится, ты в ответе будешь.
– Бог милостив… Не беспокойся, Захар Андреич, не впервые.
– Захарушка, да шапку-то ладом надень, дай я тебе поправлю, вон какой снег, набьется за ворот.
Санка открыл ворота, поднял подворотню.
Захар сел в розвальни, хлестнул Буланого. Настя вышла за ворота и долго смотрела вслед. Пес помчался следом. Настя пошла во двор. Санка сразу же захлопнул ворота, щелкнул замком.
– Послать тебе Феклушу? – спросил он Настасью.
– Нет уж, Александр Иваныч, куда ты ее от младенца, пусть с ребятишками возится. Меня и так никто не тронет.
– Ну так покуда…
– Спи спокойно, Александр Иваныч.
Санка ушел в калитку на свой двор.
Настасья вошла в избу. В кухне жарко, чисто. Думы ее смешались, а тревога все росла.
Булавин нагнал собакинских молодцов верстах в пяти от завода. Светила луна, и они сразу узнали его.
– Стой! Куда скакал? – подступили двое, хватая коня за уздцы.
Захар пригляделся, чтобы не ошибиться.
– Не шевелись, – сказал ему долговязый мужик с дубиной.
Это и был новый собакинский помощник и главный громила.
– Ты кто такой? – спросил он у Булавина.
– А ты сам-то кто?
– Мы у дела, а ты вылезай.
– Вылезай, вылезай…
– Смотри у меня!.. – пригрозил мужик.
– Ой ли? – усмехнулся Захар.
– Верно говорю.
– Серый, бери! – Пес залаял, завизжал, прыгнул мужику на спину, схватил его за ворот.
– Братцы, помогите! – кричал тот, отбиваясь от собаки, и упал в сугроб.
Захар дернул вожжи.
– Стой! – закричал другой мужик, но тут Булавин хлестнул его кнутом и погнал коня.
От моста кричали. Слышен был собачий лай.
Захар придержал вожжи, вслушался. Крупно прыгая по снегу, примчался Серый. Он тяжело дышал и метался вокруг розвальней.
Снег запушил широкие ветвистые ели, завалил глухой проселок. В эту зиму Захар первый прокладывал тут дорогу.
Булавин имел надежду на низовских мужиков. Не первый год он знал низовцев и вел с ними дела. Они не пойдут на грабеж лавки в своей деревне.
Низовка и Николаевка – русские села вблизи завода. Но низовцы живут подостаточней. Низовцы славились тем, что у них каждый мог найти работу – так много арендовали они земли для засева. Богачи давали помощь под залог вещей, одежды, серебра, полозьев от санок.
Не выкупит хозяин залога к осени – сиди без саней. На новые санные полозья железа купить дорого, на старых – без полозьев не поедешь. Закладами низовцы пользовались и норовили износить, изработать заклад, даже пословицу сложили: «Заклад – носи до заплат». А от низовцев научились и башкирские богачи, тоже брали в залог полозки от санок.
Захар Булавин в молодости, как и все заводские, дрался с низовцами, но когда стал хозяином – рискнул на торговлю у них в деревне. Брал в Низовке тройки, нанимал подводы для перевозки товаров. Низовцы присмотрелись к купцу и убедились, что мужик он дельный. Год за годом знакомились ближе, и стали они для Захара надежными друзьями. Сначала Булавин привозил товар на телеге, как на базар, а потом открыл лавку в Низовке и стал там совсем своим человеком.
Настало время ему низовцам поклониться.
У Черной горы, в липняке, Буланый захрипел, заводил ушами: повстречалась волчья стая. Звери выбежали на опушку и остановились, сверкая во тьме зелеными глазами.
Захар придержал коня, поехал шагом. Сыты ль были звери или побоялись человека, только с места не тронулись. Захар так и ехал шагом с полверсты, не желая выказывать зверям страха.
Потом погнал рысью. У ручья кончился липняк. За увалом пошел красный лес, потом две каменистые горбовины, обросшие кустарником, и снова хвойный лес, а за лесом – река. На берегу ее – деревня.
Захар еле достучался в свою лавку. Мальчик-сирота, чувашонок, живший с приказчиком, боялся пускать. Наконец проснулся Петр, узнал хозяина по голосу и порядком перепугался, полагая, что сейчас ему будет какой-нибудь нагоняй.
Войдя в избу, Булавин успокоил приказчика, объяснив цель приезда. Оказалось, по словам Петра, что в Низовке стоят казаки.
Из лавки Захар направился к старому своему кучеру Ивану Ломовцеву. Когда-то старик ездил с ним по делам, а еще раньше батрачил на отца Булавина. Нынче Иван женился еще раз. У него было несколько лошадей. Дом у него с бойницами на все четыре стороны, так что, закрыв ставни, можно было отстреляться от любых разбойников.
Захар застал у него в избе спавших казаков и чернобородого, широколицего, но тщедушного на вид башкирина, который поднялся с кровати, едва Булавин вошел. Захар узнал его – это богач из Шигаевой.
– Здорово, брат Исхак.
– Здорово.
Иван уж слыхал про все заводские новости и про то, что лавку у Булавина подожгли.
Захар рассказал о своих намерениях.
– Зачем тебе в город ездить, – молвил хозяин, – когда по тракту уже идут на завод войска? У нас еще не замело перевал, и ты езжай им навстречу, вернешься с ними. Собакин увидит, что ты войско привел, – ухмыльнулся низовец.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































