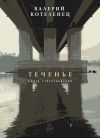Текст книги "Небесный лыжник"

Автор книги: Нина Савушкина
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Глубина
Осень затянет на глубину.
Напоследок вдохну
неповторимый курортный бриз,
взгляд опуская вниз —
на водяные знаки судьбы.
Берег встал на дыбы,
И накренились домов борта.
Глубина. Глухота…
Волны сомкнулись. К горлу приник
вспененный воротник.
Сердце растает на глубине,
словно льдинка в вине.
Рыбы рябин на подводном ветру
красную мечут икру.
Солнце плывет погребальным венком,
Памятью – ни о ком…
Осенний сад
Не возвращайтесь к былым возлюбленным…
А. Вознесенский
Забудь дорогу в Эдем, в оазис,
к растерзанным в хлам цветам.
Старуха-осень, безбожно красясь,
тебя поджидает там.
Весна упущенная, былая,
рок отсроченный твой,
шурша, сухим румянцем пылая,
отхаркиваясь листвой,
шепнёт: «Останься!» Обломок речи
в мозгу прорастёт плющом.
Да будет разум твой человечий
в биоценоз вовлечён!
Люпин в пыльце, ноготки в маникюре,
в закатном глянце камыш.
И ты де факто уже, де юре
пейзажу принадлежишь.
Ты никуда не сбежишь отсюда,
от сада неотличим.
Чело подёрнется, как запруда,
волнистой сетью морщин.
Кровь заржавеет, как будто к вене
был привит гепатит.
Неостановленные мгновенья
садовница не простит.
За то что приторней и притворней
цветение с каждым днём,
и увядают бесплодно корни,
запаяны в глинозём.
За то, что некогда ей наскучил,
не сделав навстречу шаг,
украсят плечи истлевших чучел
жакет её, твой пиджак.
Так извивайтесь в древесном вальсе
под ветром – в стужу и в зной.
Ты был её шансом, но не сбывался —
Не оставался весной…
* * *
Водопады оранжевых ягод,
воспалённые гроздья рябин
оторвутся от веток и лягут,
упадут, будто гемоглобин,
потому что над кромкой залива
ветер перемесил облака,
и таращится сверху плаксиво
некрасивый портрет старика,
прокутившего время идиллий,
одинокого – так же, как я.
Не припомнить, когда приходили
в парадиз мой фанерный друзья.
Опасаясь разрыва, развала,
я бы вас удержала в былом
и на память замариновала
на веранде, за мокрым стеклом,
и под крышкой, в растворе весёлом
поэтический дух берегла…
Дружба треснула банкой с рассолом.
Подметаю осколки стекла.
Пляж
Не следует нырять в заплесневелый пруд.
Он вечен, как судьба. Следов не ототрут
все те, кто в эту жизнь, как в эту жидкость, вхожи.
Но ты нашла здесь рай. С тех пор всё время ты
таскаешь за собой убогие мечты,
как запах нищеты, впечатавшийся в кожу.
Ты, каждодневный свой закончив променад,
лежишь на берегу и воспаряешь над
расплавленной водой навстречу потным кущам.
Ты видишь на холме забитые дома.
В них, словно в сундуках, складируется тьма.
Ты сочинишь судьбу здесь некогда живущим.
Ты слепишь им тела из бликов и теней,
затеплишь в окнах свет и станешь им родней,
чем все, с кем до сих пор тебя объединяли
минутный интерес, случайные слова…
Вдруг некое лицо, забытое едва,
всплывёт, и вздрогнешь ты на пляжном одеяле.
Что за внезапный страх висок тебе прожёг?
Отхлынула жара. Звенит в ушах рожок.
Но то не ангел был и вовсе не тебе пел.
А тот, кто промелькнул, давно погас, исчез —
он стал игрой воды, гримаскою небес,
остывшим под тобой песком, седым, как пепел.
Беседка
Ты накрываешь стол – в беседке, не в гостиной.
Там воздух оплетён осенней паутиной.
Холодный луч порой сквозь кокон просквозит,
озноб в тебя вонзит, но не сорвёт визит.
Съезжаются друзья к обеду, что обещан.
Под скатертью льняной не видно сетки трещин
в столешнице гнилой. Но каждый за столом
под локтем ощутил зияющий разлом.
Витает тень пчелы над расчленённой дыней.
Шампанского глоток, колючий, словно иней,
тебя не веселит – кристаллами обид
царапает гортань, под языком свербит.
Здесь некому шепнуть на брудершафт: «Останься!»
Здесь не с кого сдоить романсы или стансы.
Никто не изумил, оваций не снискал,
не взбудоражил ил на дне глазных зеркал.
В заржавленных кустах горчат соски малины —
скукожены, как жизнь, как страсть, неутолимы.
Не влиться им в компот, наливкою не стать.
Никто не обретет в беседке благодать.
Хромает разговор, бессмысленностью ранен.
Ментоловым дымком ползёт туман с окраин,
сгущается во мрак и тряпкой половой
стирает лунный нимб над каждой головой.
Библиотека
Вечером в библиотеке района
имени Пушкина или Толстого
дам два десятка и два кавалера —
пенсионера, сухих, как фанера, —
встретились, чтобы заняться любовью
к литературе. На улице клёны
в окна скребут. На часах – полшестого.
Льётся беседа, как дождь, постепенно.
«Веточки вербы, согласно фэн-шую,
если поставить букет к изголовью,
вам обещают удачу большую…» —
«Вера Петровна, сыграйте Шопена!» —
«Будьте любезны, две ложечки кофе» —
«Музыка лечит…» – «Еще рафинада?» —
«Помилосердствуйте, больше не надо.
Сахар губителен при диабете!» —
«Я сочинила вчера два сонета
о посещенье дворца в Петергофе». —
«Ждём с нетерпением!» – «Будем как дети,
чтобы действительность в нас не растёрла
неугасимую искорку божью…»
Дама читает. Над бронзовой брошью
прошелестело слоёное горло:
«Взвейтесь, хрустальные струи фонтана!
Вновь я брожу под ажурною сенью…» —
«Дивные строки! Спасибо за это!» —
«Главное – оригинальная тема!» —
«Образ пленительный не поясните ль?» —
«Будем искусству служить неустанно!» —
«Надо шарлотку испечь к воскресенью» —
«Нет упоения словом дороже!» —
«Наговорились. Одухотворились».
На пианино цветет амариллис.
«Скоро замкнутся ворота Эдема,
Вот и явился наш ангел-хранитель!»
Мнётся на лестнице сторож Серёжа —
редкобородый приветливый даун.
Дам по домам провожает всегда он.
ДК
Неужто дежавю? На переломе века
ты вновь даёшь концерт в обшарпанном ДК.
Под лескою струны раздолбанная дека
отчаянно дрожит обломком плавника.
Пусть каждый нотный знак знаком, как заусенец,
но всё ещё болит, цепляет и свербит.
Выплёскиваешь в зал – немолодой младенец —
звенящую струю хронических обид.
Скрежещут каблуки твоих ретроботинок,
и оседает пыль на ноздреватый пол.
С действительностью ты вступаешь в поединок
за всё, что потерял и что не приобрёл.
А в кинозале всё так сумрачно, так тихо,
и занавес разверз два бархатных крыла
над сценою, где бард, и залом, где бомжиха,
которая сюда погреться забрела.
Ей снится фильм цветной с чернявым Чакраборти[1]1
Индийский актёр, исполнитель главной роли в фильме «Танцор диско».
[Закрыть],
«Над тамбуром горит полночная звезда»,
сентиментальный спирт струится по аорте,
и «синий иней лёг на струны-провода».
В судьбе, как в макраме, переплетенье линий —
ДК, ВЛКСМ, районный фестиваль.
Ты – пухлый вундеркинд, она – богиня в мини…
Друг друга вы с тех пор узнаете едва ль.
Вы повстречались вновь, и нет бы – всё былое,
как классик завещал… Увы, не ожило.
Лишь в призрачном фойе засохшее алоэ,
как ржавое стило, царапает стекло.
Пантеон
В круглом чайнике-храме
все мы – люди-чаинки,
Непричастные к драме:
свадьбы или поминки
происходят не с нами.
Здесь мы – просто туристы.
Над свечой запятая
вспыхнет. Взглядом упрись ты,
любопытство питая,
в образ Девы Пречистой,
в стены, в сцены Геенны.
Тут тебя и нащупал,
просочившись мгновенно
сквозь разверзнутый купол,
острый лучик рентгена.
В небе незастеклённом —
сумрак цвета какао
с жёлтой долькой лимона.
Плещутся облака о
Пантеона колонны.
Луч блестит у подножья
в пёстрой гальке мозаик.
Сквозь подводную дрожь я
вижу, как ускользает
в небо удочка Божья…
Лаборатория
Псевдозамок, ныне – корпус
института. Напоследок
предстаёт он, кровлей горбясь,
взору местных краеведок —
Особняк в английском стиле
цвета высохшей горчицы.
Балки ржавые застыли
угловато, как ключицы
притаившегося зверя,
потревоженного псарней…
Облаков осенних перья
засверкали лучезарней,
блеск даря лабораторным
инструментам на камине
и сухим гибридным зёрнам,
не проросшим и поныне.
Луч взбирается по жезлам
экзотических растений
и на зеркале облезлом
перемешивает тени.
Вспоминает пожилая
дева в бежевом берете:
«В прошлом веке здесь жила я,
перед тем как умереть и
быть насильственно вонзённой
черенком заморской туи
в эту жизнь, как в сквер казённый,
в эту почву холостую,
где за прутьями ограды,
незаметны ниоткуда,
вянут плети винограда
сеткой лопнувших сосудов.
И звенят в чертополохе
ледяными семенами
сквозняки другой эпохи,
не срастающейся с нами».
* * *
Воспоминаньями отнесён
лет на десять назад,
под Рождество вселись в пансион,
чей занесён фасад
сплошь алебастровой скорлупой —
затвердевшей пургой.
Двери открой и живи с любой,
словно тогда – с другой.
Память о ней – что снежная взвесь,
облетела с ветвей.
Но оттого, что она не здесь,
воздух не стал мертвей…
Пенную жижу в бокал разлив,
скажешь: «Год удался!»
Дамы напротив шёлковый лиф
розов, как колбаса.
Хрен она к студню тебе подаст,
следом – к месту сострит.
В горле твоём вместо смеха – наст,
а в желудке – гастрит.
Хлопни петарду «Made in Китай»,
выдохни залп амбре,
и, выбегая прочь, заплутай
тапочками в ковре.
В холле – евроремонт, хай-тек,
каллы в кашпо цветут.
Стёрты с зеркал отраженья тех,
с кем ты однажды тут
рюмки сдвигал, уходящий век
весело отпевал…
В небе ночном померк фейерверк.
Кончился карнавал…
Приморский город
Лиман мелковат, население хамовато,
фольклор небогат – едва ли пяток историй.
И к вечеру тянет лечь простыня заката
с заплатами туч над вечным матрасом моря.
Вообразив себя Афродитой в пене,
простив себе недалёкий полёт фантазий,
на берег вползи, о камни содрав колени,
замыленным взором местный пейзаж облазай.
За водной стеною, пеленою степною,
меж сумерками и светом падёт запруда,
и вспыхнет Луна, как будто глазок в иное
пространство недосягаемое, откуда
приходят такие ветры, что сносит разум,
такие картины, от коих давно отвыкли:
то крейсер в порту щетинится дикобразом,
то байкер летит на сумрачном мотоцикле.
Электрокардиограмма огней портовых
пульсирует вдалеке, не видны разрывы.
Не думай о затонувших судах, о вдовах —
на грани волны и мглы все условно живы.
Сбиваемся в небесах, будто тени – в стаи,
из-под воды мерцаем – бледны, как блики
в том городе, что разлёгся, волны листая,
над морем, над миром, на сломе – точней, на стыке.
Выхино
Мерцание ларьков, мелькание маршруток,
втекание толпы в окраинный район,
скопление домов, чей вид довольно жуток, —
здесь следует ходить как минимум втроём.
Пятнадцать лет назад, когда на фестивале
мы рифмовали вслух различные слова,
по вечерам мы там порою гостевали
у бабушки одной (она ещё жива).
Мы покупали ей тушёнку по талонам.
Она варила нам лиловый самогон.
Сушились небеса, подобно панталонам,
на мёрзлых проводах, как было испокон.
Тёк за окном бульон осеннего застоя,
чей безмятежный дух теперь неповторим.
И меркли чувства в нас, особенно шестое.
И был неясен путь, который проторим
сквозь тесный текст судьбы, обламывая рифмы,
как ногти, об углы, толкаясь, мглу кляня,
как будто с давних пор, от солнца прикурив, мы
не ведаем других источников огня.
Теперь другой состав летит в Москву средь ночи
на новый фестиваль. Там новый стихоплёт
стихи без запятых, тире и многоточий,
как водопад значков, в притихший зал сольёт.
И девушка с лицом совиным и невинным
глядит. Так смотрят те, кто прожил только треть.
А мы, кто жизнь свою догрыз до сердцевины,
уже ни на кого не сможем так смотреть.
Венеция
Закрою глаза и откуда-то сверху увижу
цветных берегов ожерелье, упавшее в жижу
лимонно-зелёную, цвета сухого мартини.
Рассыпались бусы – их не удержать, не найти, не
вернуть их Венеции – неуловимой сеньоре,
скользящей по кромке стихии, роняющей в море
и туфлю гондолы, и пояс из мраморных кружев,
небрежным движеньем границы природы нарушив.
Блестит её влажная грудь сквозь корсетные доски.
Каналы свиваются косами в тёмной причёске
над маской застывшей. Солёные мухи тумана
щекочут фарфоровый лоб, шелестя иностранно
о том, что порой для красавиц губительно утро —
по лицам палаццо сползает размокшая пудра,
и в язвы кирпичные, что нанесла непогода,
фонарный вонзается свет наподобие йода.
Чугунные веки с трудом поднимают мосты, и
светлеет вода, заливая глазницы пустые.
И прочь отплывает из сна, перспективы сужая,
Венеция, словно фантазия чья-то чужая.
* * *
В Адриатическом море ночной заплыв
лучше всего вспоминать порою осенней,
все закоулки памяти перерыв
в поисках ускользающих потрясений.
Воздух касался лба, а вода – коленей.
Словно прилив, к губам подплывал мотив,
что раздавался вечером из одной
сумрачной лавки в зарослях винограда —
жалобный блюз журчал из уст заводной
рыбы резиновой пятые сутки кряду…
Там, обретая радужный цвет распада,
сизые ягоды падали в перегной.
Если уплыть совсем далеко отсель,
пенье почти не кажется иностранным.
Скоро совсем умолкнет. Дальний отель,
Залитый светом, привидится вдруг стаканом.
Словно чаинки, в цилиндре его стеклянном
чёрных фигурок вертится карусель.
Мир исчезает, как виноград в грязи.
Чавкает океан, берега сжирая.
Если от горизонта смотреть, вблизи
нет ни земли, ни воды, ни ада, ни рая.
Лишь розоватый свет подмигнёт, сгорая,
и темнота сомкнётся, как жалюзи.
Лидо ди Езоло
Издали смотрится Лидо ди Езоло
как натюрморт, будто солнце нарезало
брынзу отелей на ломти лучами,
и разложило на хлебе песчаном,
словно тартинки на завтрак мещанам
или туристам, чей быт беспечален.
В супнице бухты, приливом облизанной,
плещет медуза прозрачною лысиной,
в зеленоватом растворе всплывая
клёцкой морской из солёного теста.
И нескончаемо, словно сиеста,
тянется линия береговая.
Там вдалеке обрывается пьяцца, и,
скованы прутьями ржавой акации,
фермы пустые стоят без хозяев —
стены рябые поклёваны ветром.
И год за годом, и метр за метром
воды уходят, отсель отползая
в дальнюю заводь. Сквозь влажные заросли
окна глядят – не виднеется парус ли,
что там белеет в застывшей лагуне?
Плещется лебедь – невзрачен и мелок.
И жестяным циферблатом без стрелок
на горизонте встаёт полнолунье.
Межсезонье
В Коктебеле – разгар межсезонья,
обрушенья седых виноградин,
ощущенья похмелья спросонья,
сожаленья, что праздник украден.
Здесь давно не звучит караоке,
все уткнулись в свои ноутбуки.
И диджей – пожилой, одинокий —
фонограмму врубает со скуки.
О курганах поёт опалённых,
о любви, что бывает слепою,
и на шее кадык, как цыплёнок,
оживающий под скорлупою.
Завершает гастроли в шалмане
трясогузка – тире – одалиска.
Море стонет и щупальца тянет
к шароварам её слишком близко.
Не желают туристы сниматься
на причале с плешивой шиншиллой.
Доморощенные папарацци
вслед прохожим косятся уныло.
Истекает закат «Изабеллой»
(здесь её – изобилье, излишек).
Веет туей слегка перепрелой
из ущелий – из горных подмышек.
Остаётся из края идиллий
нам отчаливать минимум на год.
Искушения перебродили
в едкий уксус раздавленных ягод.
Пассажирка
Автовокзал. Рассвет. Парапет канала.
Солнце с трудом вставало, вода воняла,
город качая, собранный из кусков…
Ты ожидала свой автобус на Псков,
сидя на лавке с клетчатым саквояжем.
Флигель напротив казался сердцем говяжьим
из морозилки. Лопнули волдыри
радужных окон… Лучше в них не смотри.
Между тобой и домом пустым моста нет.
Взгляд твой застынет, никого не застанет.
Каменный гриф наставит чугунный клюв,
слева под грудь прицельно тебя кольнув.
Вакуум изнутри растворится аркой.
Всё, что доселе жизнью казалось яркой,
как тополиный пух, засосёт в провал,
будто бы этот город тебя сжевал.
Лучше залезть в автобус. Во мгле салона
можно укрыться пледом и бредом сонным,
духом, что источают соседи все —
хмурые мужики в жестяной джинсе.
Чтобы пейзаж, мелькающий на сетчатке,
не оставлял дрожащие отпечатки,
можно закрыть глаза, но, сквозь сон скользя,
помнить, что возвращаться тебе нельзя.
И, выходя вдогонку за остальными,
город забудешь утренний, только имя
между зубов зажёвано, как беляш.
Сплюнешь мираж и больше не воссоздашь.
С той стороны
С той стороны вокзала нет ни колонн,
нет ни аркад, ни фризов, ни капителей.
Это – культурный слой, что в пыль истолчён,
это – подмышки фрака, что пропотели.
Не менуэт, наполнивший павильон, —
неистребимый шансон из ларька «Хычины».
Мир на изнанке звучен и заселён —
стая собак, торговки, макет мужчины
кверху лицом, воспалённым, словно нарыв,
лишь отдалённо схожим с сухим пионом,
что обронили наземь, не подарив
здесь никому – ни мёртвым и ни влюблённым.
Ярмарка, секонд-хенд, гламур нищеты,
липкой синтетики – блузы, чулки, лосины.
Вечные тётки, крепкие, как щиты,
тащат свой скорбный скарб непереносимый.
Есть и невеста – в ней под тугой джинсой
спереди утолщение типа капа.
И, зачарован таинством, чуть косой,
смотрит в грядущее потенциальный папа.
Жизнь в полусне отлёжана, как щека
на заскорузлой наволочке традиций.
Кажется, что отложена смерть, пока
некто неведомый им завещал плодиться.
Железнодорожное
Тётка жуёт в купе, яйцо колупая, —
чаю стакан, салфеточка голубая,
хлебные крошки в складках юбки плиссе,
вечное напряжение на лице.
Поза статична, выработана годами —
руки на сумке, ноги на чемодане.
Бархат купе, потёртый, как кошелёк,
тёмен, поскольку свет за стеклом поблёк.
Сзади за стенкой струнные переборы.
Песни поют там барды, а может, воры.
Голос, срываясь, словно листва с куста,
шепчет: «Конечная станция – Пустота».
Площадь в ларьках – гниющая, как грибница.
Вырвана жизнь отсюда, а запах длится —
выстуженный, грибной, печной, дровяной,
пепельно-горький и никакой иной.
Тётка лежит в купе, как ручка в пенале.
Снится ей, будто рельсы все поменяли.
Очередная станция проплыла.
Не угадаешь – Мга или Луга… Мгла.
Ждёт её муж на станции столь же дикой
с ржавой тележкой и пожилой гвоздикой,
в потных очках и вылинявшем плаще.
Вдруг не пересекутся они вообще?
Утренний выход грезится ей иначе —
мрамор ступеней, пляж, кипарисы, мачо,
будто бы поезд вдруг повернул на юг…
Падает с полки глянцевый покетбук.
Памяти лиговки
Переезжаем. Офис наш разорён.
Ветхие бланки, жёлтые, как тоска,
мнутся в углу, вбирая со всех сторон
запахи пыли, кофе и табака.
Новый хозяин, всё здесь переиграй,
перелицуй, но дух этих мест тайком
память царапнет, будто бы губы – край
чашки казённой с треснувшим васильком.
Ты оглянись тогда, в окно посмотри.
Город красив, как торт, в канун Рождества.
Мы сметены из центра на пустыри,
чтобы понять – краюшка его черства.
Масло реклам вот-вот потечёт на лёд,
вспыхнет снежинок радужная икра.
Кто-то с небес искусственный свет нальёт,
словно коньяк, в глубокий бокал двора.
Город – банкет, где проданы все места.
Лиговской плоти непостижим размах.
Новые зубы жаждут урвать мясца
каменного в доходных её домах.
Жирный кусок не даётся тем, кто ослаб.
Вычислив их, Фортуна лягнёт бедром
и усмехнётся, за нами вослед послав
к чёрту – за Комендантский аэродром.
Путешествие
Нам показалось, что с изнанки вокзала
жизнь исчезала, словно бы ускользала.
Рельсы сливались в Стикс, в стальной водосток.
Время сгущалось. Поезд тёк на восток
меж берегов-перронов, где на развале,
пели сирены торговые, зазывали
жареной курой, стопками из стекла…
В окнах всплывали странные чучела —
сумрачные трофеи таксидермиста:
заяц, сова – желтоглаза, мертва, плечиста.
Парочка белок, как символ вечной любви,
влипли в фанерку – попробуй их разорви!
Думали, расставаясь с театром чучел,
кто бы нас после жизни переозвучил,
участь улучшил и от распада спас…
В этот момент я вдруг пожалела вас.
И пожелала, чтоб путь оказался долог.
Избы в платках деревянных, в сосульках чёлок
кончатся там, где рельсы сплелись узлом.
Всех ожидает выход, разрыв, разлом.
Пусть нас друг с другом склеят, как этих чучел…
Снилось – союз наш вечен, но он наскучил.
Скоро ли остановка, конец пути,
клейстер избытых связей с душ отскрести?
Радиоточка, кашляя в ритме вальса,
нас разбудила. За шторой рассвет взорвался.
Серого утра треснула скорлупа,
хлынула в окна снежная степь, слепа.
Фонтан
Меж деревянной дачей и тощей чащей
есть закуток пугающий, но манящий.
Там средь кирпичной пыли, люпина, дрока,
стынут руины фонтана в стиле барокко.
Не различить скульптуру в потёках бурых —
что там – стрела амура, штырь арматуры?..
Здесь зависала компания над поляной.
Каждая длань, подобно клешне стеклянной,
в свете костра то булькала, то блестела,
выхлопы смеха так и рвались из тела.
Жирно смердел шашлык над газоном смятым,
сдобренный «Русским шансоном» и смачным матом.
Пеной пивною дым стоял над долиной.
День не кончался длинный. Пух тополиный
весело догорал, как зёрна попкорна.
В трубах фонтана стонали кларнет, валторна.
В огненном танце кружились кустов плюмажи,
кланялись, осыпаясь клочьями сажи.
Руки вздымала мраморная наяда,
словно хотела вынырнуть прочь из сада,
но замирала, соскользнув обречённо
в пекло по опалённым хвостам тритонов…
Кончился бал, лишь только дождь по осинам
прогромыхал раздолбанным клавесином.
Бездна сомкнулась, как раздвижное кресло.
Треснул костёр, погаснув, и всё исчезло.
Смылась компания в полночь в стальных гондолах,
тьма засосала пьяных и полуголых,
стёрла, как с хлеба плесень, с листа – помарки.
Больше никто их песен не слышал в парке…
Только Нептун, ошпаренный рот ощерив,
чует, как в бородатой его пещере
влага искрится, ворочаются мокрицы
каплями ртути, в тень норовя укрыться,
будто, дробясь по каплям на чёт и нечет,
в чреве фонтана вечность течёт, щебечет…
Съёмная квартира
Чиркнув спичкой в тёмной прихожей,
на пороге замри. Смотри,
как жилище меняет кожу,
мимикрирует изнутри,
подчиняется квартирантам,
словно крепость, сданная в плен.
Скрипнет шкаф или всхлипнет кран там,
и вспорхнёт с порыжелых стен
эхо прошлого – звон фарфора,
морды бархатных оленят
на ковре. Где тот год, в котором
краски детства начнут линять?
Быт, казавшийся нам весёлым,
сменит старческий неуют,
и, пропахшие корвалолом,
на балконе цветы сгниют.
И потянется вереница
пришлых, ушлых, чужих жильцов.
Дух теснится ли, свет лоснится,
что нам снится, в конце концов?
Смуглый сумрак в углы забрался.
Тени прошлого – ни при чём.
И пришелец неясной расы
дефлорирует дверь ключом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.