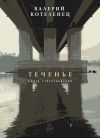Текст книги "Небесный лыжник"

Автор книги: Нина Савушкина
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Старая золушка
Золушка в старости сделалась экспрессивней,
разум её вскипел и борьбы взалкал,
и засверкал во рту фарфоровых бивней
бескомпромиссный, беспощадный оскал.
Тащит на вечный бой пожилого принца,
дёргая поводок проворной рукой.
Тот забывает бриться, ему не снится
более ничего, в том числе покой.
Неистребима прихоть Золушек старых —
в полночь, достав перо, нацепив очки,
зёрнышки букв просеивать в мемуарах
сентиментальных… Попробуй их не прочти!
Грезит она, воскрешая в образах зыбких
пахнущий самогоном отчий очаг:
«Всем отомщу за тощие руки в цыпках,
ноги в топорных сабо, щёки в прыщах!»
Золушка бредит, в пальцах перебирая,
ветхую карту мира, точно канву:
«Где-нибудь здесь я вышью картину рая,
заново воплощая сон наяву.
Перелицую мир по своим законам,
пусть перезрелой тыквой треснет земля,
и засквозит свободой в мире, пронзённом
острыми каблуками из хрусталя!»
Решётка
Мы с тобой внутри тире, мы внутри…
Т. Алфёрова
Жизнь движется, хотя сломалась шестерёнка,
прокручивая дни на холостом ходу.
Но снова я с тупой покорностью телёнка
на чтение стихов, как на убой, иду.
Что обрести хочу в литературных спорах,
в столпотворенье пчёл над облаком пыльцы,
когда внутри себя я слышу только шорох,
как в доме, что давно покинули жильцы.
Здесь слишком ярок свет, здесь воздух слишком громок,
здесь, в сущности, никто мне толком не знаком,
и хочется домой сбежать среди потёмок,
глотая их настой, как кофе с коньяком.
А дома поскорей забыться, словно с целью —
увидеть сон, где я – средь близких, не одна…
И вдруг, утратив вес, зависнуть над постелью
и медленно поплыть на белый крест окна,
легко пронзить стекло, скользнуть промеж домами,
как между двух миров, ужавшись до тире,
туда, где помогу живой, как прежде, маме
выгуливать собак на лунном пустыре.
Мы подзовём собак, погладим их по шерсти…
Но электрички визг распорет сна покров.
И мой полночный взгляд увязнет средь отверстий
темнеющей в окне решётки от воров.
Её не проломить, поскольку кости хрупки.
Но если из себя я выйду навсегда,
меж прутьями стальной решётки-мясорубки
свободно просочусь – как воздух, как вода…
Инцидент
Это не киносъёмка боевика,
не мизансцена «Смерть в метрополитене»:
чёрная плёнка, скрюченная рука,
серая униформа, статистов тени.
За полосатой лентой – ничейный торс,
как безголовый бройлер, в платформу вмёрз.
Люди идут по стеночке вдоль крови —
несколько бутафорской, как соус «Чили»,
Тело безмолвно, как его ни зови…
Голову, словно лампочку, отключили.
С миром наружным порваны провода.
Не уловить последний сигнал, когда
в клетке для мозга чувствуя тесноту,
невмоготу таскать её над плечами,
как, прорастая в горле, свербит во рту
и засыхает речь, становясь молчаньем.
Следует лишних мыслей два-три кило
скинуть, чтоб окончательно отлегло!
Чтобы весь мир – громоздок и бестолков —
хлынул навстречу поездом из тоннеля,
свет раскололся тысячей мотыльков,
искры на рельсы сыпались и звенели.
Прошлая биография – ни при чём.
Это – стоп-кадр, надорванный за плечом.
Интерьер
Командировка. Через Москву транзит.
Вечер в чужой квартире, где луч скользит
по фотоснимку бывшей геологини —
то есть хозяйки, месяц тому назад
жизнь, словно дом, покинувшей… Лишь фасад
весь в слюдяных прожилках инея стынет.
В парке напротив чёртово колесо
встроено в небо, как циферблат часов.
Ветка в окне мелькает секундной стрелкой.
Время струится вспять, словно я вползла
старой хозяйке в быт, надломила пласт,
расшифровала трещины под побелкой.
И приоткрыло передо мной жильё
пенсионерки облик, досуг её —
как наливает рюмку, за стол садится.
Блещут в углу пирит, опал, турмалин
возле икон, поскольку неодолим
ужас перед последней из экспедиций.
Яшма, слюда, нефрит, портрет под стеклом,
и в чёрно-белом взгляде – не то что злом,
опустошённом, скорее прицельно-трезвом —
некая тайна, будто бы вы нашли
главный трофей и с той стороны земли
недра явили свой драгоценный срез вам.
Подмастерье
Ты полагаешь, мастер, шедевр творя,
мир поразить собою? Вот это зря!
Думаешь – уникален вплоть до молекул?
Вот из угла за тобой следит неофит —
вечный отличник, – скромен, но плодовит.
Он про тебя всё понял, давно скумекал.
Ты не заметил, творчеством увлечён,
как он врастал в тебя, обвивал плющом,
выждал момент, когда ты обронишь посох
там, где ловил внезапный приход зари.
Зри, как в твою палитру вросли угри
в амбициозных юношеских расчёсах.
Как он тайком мечтал, что, отбросив гнёт,
он тебя переварит и отрыгнёт
в виде мазка на свежих своих полотнах,
чтобы кумир, пропущен сквозь решето
интерпретаций, понял, что он – никто.
Вот и блуждай в неверных огнях болотных,
опознавай пейзаж, вертя головой.
Этот сюжет знакомый – уже не твой.
Здесь подмастерье всё скопировал чинно.
Он возлюбил тебя и возвёл в квадрат.
Так и живи, себе самому не рад,
будучи отражённою мертвечиной.
* * *
В детский садик строгого режима
оказались мы помещены.
Там лежим – безмолвны, недвижимы
в свете электрической луны.
Смотрят надзиратели уныло,
не способны отсортировать —
кто из нас терпилы, кто – дебилы,
как стелить Прокрустову кровать?
В мире заоконном, незаконном
листья, как страницы, шелестят.
Тянет самосадом, самогоном,
кое-кто читает самиздат.
И у нас здесь выделена зона
творчества. Кто чтит её уют,
тем в библиотеке порционно
книжки разрешённые дают.
Под обложкой нет ответа – где мы,
чья мечта в один котёл слила
бледных небожителей богемы
и пейзан, румяных от бухла.
Гражданин начальник, выйдя в массы,
чётко сформулировал вопрос:
чтобы из общественного мяса
эффективный эмбрион пророс.
Он уже созрел для скотобойни,
сон его бессмысленно глубок.
Оттого и дышит всё спокойней,
солнцем поцелованный в пупок.
Бунт Дауншифтера[3]3
Дауншифтер – человек, сознательно выбирающий меньшее количество работы и меньшие доходы ради большей свободы, жизни в собственное удовольствие или самоусовершенствования, каких-либо видов неофициальной духовной жизни, творчества, путешествий и т. п.
[Закрыть]
Вы – мой начальник, надо глядеть вам в рот —
в грот, из которого тянет запахом шпрот,
корпоративно выпитым коньяком.
Что вы там говорите – о чём, о ком?
Голос звучит монотонно, трещит картонно…
В ваш бизнес-ланч из офисного планктона
я не гожусь как закусь. Я ни при чём.
Взгляд мой застрял в стекле за вашим плечом.
там – небеса над шершавым торцом стены,
чьи кирпичи красны и воспалены,
в измороси слюны, словно ваши дёсны…
Следует нам расстаться, пока не поздно!
Или остаться… Выслужить новый чин,
расшифровать стенограмму своих морщин,
вдоль по щекам сползающих вниз – к нулю
бледного рта… Но как же я не люблю
мертвенный свет, струящийся в коридорах,
шорох бумаг, их однообразный ворох!
Всё, решено! Зеркальную полынью,
потусторонним взглядом я разобью
и ускользну, как рыба, на глубину,
лишь уловлю, выплёвывая блесну,
как за стеной в зеркальном калейдоскопе
крошатся ксерокс, факс, автомат для кофе…
Связи канал давно обмелел, зарос.
Все позабыли меня, кроме вас, мой босс.
Может, вернуться вспять, ступая след в след?
Премию получить за выслугу лет,
бонус-блокнот в дизайнерском переплёте…
Вы улыбнётесь, плотоядно сглотнёте.
* * *
Маленький век играет похоронами —
ловит нас, пряча, словно жуков в панаме.
Бойкий ребенок! Мы и не угадали,
кто угодит под подошвы его сандалий.
Хочется ускользнуть отсюда, да не с кем.
Кладбище представляется садом детским,
где средь просторных комнат, безлюдных летом,
койки надгробий тесно стоят валетом.
Так утекает время по водостокам.
Это – поток, но в блеске его жестоком
видится шанс – замкнув дыханье на вдохе,
броситься вниз, пронзая собой эпохи.
В парке версальском вынырнуть за Латоной —
рыбкой фонтанной – бронзовой, золоченой
и, присосавшись к вечной экосистеме,
снова глотать и вспять отрыгивать время.
Ужин
Зачем так поздно ждёшь на площади трамвая?
В тот низменный район не ходит ничего.
Останься здесь, пока ты тёплая, живая.
Туда стекает всё, что стыло и мертво.
Там снег – и тот в пыли. Там в горле у канала
застряли, как слова, куски лежалых льдин.
Что за нужда опять сюда тебя пригнала?
Какой давнишний друг скучает здесь один?
Ты оживишь в уме несвежий образ, ибо
фантазия твоя не сделалась бедней.
Плывёт твоё лицо, мерцая, словно рыба, —
то вынырнет из тьмы, то растворится в ней.
Ведь ты уже не здесь, а в глубине романа.
Ты стряпаешь сюжет, ты им увлечена.
Там ждёт тебя герой, оскалившись румяно —
твой полуфабрикат, сырой, как ветчина.
И сердце прорастет любовью, как картофель,
согрето изнутри дыханием химер.
Герою без лица ты изваяешь профиль
и бульканьем страстей наполнишь интерьер.
Ты пустоту в душе попробуешь заштопать,
протаскивая шёлк в убогую канву.
А поутру, с ресниц стряхнёшь ночную копоть
и сон очередной листаешь наяву.
Двойник
Стужа. Я обернулась. Царапнул щёку
словно бы из стекла скроенный воротник.
Воздух застыл, как зеркало. Где-то сбоку
в сумрачной амальгаме возник двойник.
Как тебя называть? Может быть, alter ego?
Ты – не моя душа. Я ведь пока жива.
Я не пойду с тобой. На канве из снега
наши следы не свяжутся в кружева.
Не искушай меня. Ты – не моя фортуна.
Не утолить мне твой изощрённый вкус.
Пусть замерзает речь у тебя во рту на
середине слова. Вряд ли я увлекусь.
Ты не моя сестра. Облик твой беззаботен.
Как леденцы, в зрачках тают огни реклам.
Скалятся мне вослед челюсти подворотен.
Мы этот мир, как торт, режем напополам.
Я ведь хотела быть на тебя похожей,
с чёрствых пирожных слизывать пенный крем.
Разная кровь струится у нас под кожей.
Мы повстречались всё же… Боже, зачем?
Мне не постичь тебя. Проще зайти уму за
разум, нежели влезть в твой потайной мирок.
Я тебе – не поэт, да и ты – не муза.
Вязнут глаза твои в паутине строк.
Ты поглотила меня, ибо ты всеядна.
Праздник чужой возбуждает твой аппетит:
новые люди – прилипчивые, как пятна,
новые блюда, от коих меня мутит.
Что так подёрнут взор плёнкою майонезной?
Сослепу ты не тем адресуешь страсть.
Не увлекай меня кукольной этой бездной —
В новую связь, как в ряску, нетрезво пасть.
Так в пустоте, друг друга не задевая,
мы заскользим параллельно, как два трамвая.
Зеркало тает. Булькает темнота,
словно чернила, в горло мне налита.
Память
Успокойся, память! Ты не нужна мне.
Ты течёшь во мне, задевая камни
прошлых дней, дробясь на осколки, стёкла.
Я тону в тебе, я устала, взмокла.
Но, глотая ржавые воды Леты,
вижу – следом память влачит приметы
тех людей, кто был мне когда-то дорог.
И всплывают тени – бледны, как творог.
Кто навеки вычеркнут из пейзажа —
не заштопать свет, не заполнить скважин.
Кто успел себя изменить внутри и
уцелел при помощи мимикрии.
Но не стоит думать, к ним подплывая,
будто между нами – ещё живая
связь, едва заметная, словно леска.
Там – обрыв, там берег чернеет резко.
Это – горизонт, это знак предела,
что за ним душа, как изнанка тела,
покрываясь ряской, холодной сыпью,
обретает кожу седую, рыбью.
В мираже, размноженном многократно,
вы никто уже – золотые пятна.
Там взорвался свет, словно банка масла…
…И память моя погасла.
Юность (или Картинки с выставки некрореалистов)
Смолоду не любя романы о пылких
авантюристах, что ночью в тени олив
с трепетной героини сдирают лиф,
адреналин заимствовала в страшилках.
Девою бледной, готической стать хотела,
бдела ночами, не ела конфет и вафель,
лишние килограммы сгоняла с тела,
цинковой мази тюбик втирала в лицо
вечером, чтобы ночью оно блестело
в лунном сиянии, как унитаз или кафель
в морге – транзитной гостинице
мертвецов.
Стих сочинила про сумерки над кладбищем,
позже его прочитала в одном ДК.
Вдруг близ кулис возникли два мужика,
пробормотав: «Вас-то как раз мы ищем
и поздравляем с тем, что вы с текстом этим
очень удачно встряли в струю мейнстрима.
Вы нам близки. Давайте это отметим
литературной акцией. Фонарём
жёлто-зелёным снизу мы вас подсветим,
некрореальность выпишем грубо, зримо
и на перформанс полный зал соберем…
Мы – живописцы. Зовемся Олег и Женя.
Нам надоели Дали или Пикассо.
Мы на полотнах изображаем всё
в вечной, конечной стадии разложенья!»
Позже они в контору ко мне припёрли
странный портрет, завёрнутый в одеяло.
В нимбе червей, с кровавым жабо на горле
череп зиял провалом глазниц пустых
прямо в дверной проём, где как раз стояла
главный бухгалтер, на чьей щеке не с тех пор ли,
словно родник, пульсирует нервный тик.
Дама вопила, эхо гнуло стропила,
холст содрогался, сыпалась вниз гуашь.
Смылись мазилы, забыв бесценный багаж,
словно святой водой их вдруг окропило…
Так я не стала музою некрофила.
Нынче б висела в Мраморном во дворце
в виде картины, где меня раздавило
с оттиском изумления на лице.
Retro-fm
Хочешь, уедем в молодость, словно в лифте,
влезем в квартиру, где теперь никого.
Вспомним былые девичники и, налив в те
пыльные рюмки, выпьем за Рождество.
Выстрелит пробка, развеется струйка газа, но
можно дурить, курить, сорить безнаказанно.
Нас не осудят. Больше ругаться не с кем.
Можно плясать, от зеркала удалясь,
и наблюдать лицо своё дерзким, детским,
твёрдым, как яблоко, в пчёлах колючих глаз.
Близкие наши, считавшие нас отпетыми,
Так далеко… Греми в пустоте кассетами.
Юность вопила «Шарпом», воняла «Шипром»,
Кожзаменителем, трехрублёвым вином.
Вооружённые этим нехитрым шифром,
мы очутились в сдвинутом, чуть ином
мире, который позже куда-то денется.
Сердце тоска цепляет, как заусеница.
Мы на минуту стали моложе, вхожи
в зал, где блажные рожи, «Ласковый май».
Звуки и запахи, вросшие плотно в кожу,
как пропотевший блейзер, с себя снимай.
Мы оторвались, сорокалетние гопницы.
Нас не догонят! А впрочем, никто и не гонится…
Балкон
Мы в том году необратимо взрослели,
но по привычке детской плевали вниз,
где золотой фольгою горели ели,
птичьи следы расчерчивали карниз,
чёрные крестики вязли в снежной канве,
город пестрел, как праздничный оливье.
Мы разводили спирт вишнёвым компотом,
благо родителей не было. За дверьми
шастал сквозняк, и вместо вопроса: «Кто там?»
мы бормотали сдавленно: «Чёрт возьми!»
Звуки чужих шагов удалялись вверх.
Где-то над крышей лопался фейерверк…
После пирожных мы, как всегда, гадали —
в ковшик кидали плавленый парафин,
но неизвестность не распахнула дали,
не показался суженый из глубин
мутных зеркал и не обнажил оскал,
не прошептал словечко, не приласкал.
Мы запускали тапки в полёт с балкона,
чтобы прохожих выяснить имена.
Первый сказал: «Людей пугать незаконно!»
Номер второй промямлил: «Пошли вы на…»
Третий заржал: «Меня зовут Фантомас!»
и пригрозил тотчас долететь до нас.
Не долетит! Ведь не суждено сбываться
детским страшилкам, что мы себе творим.
Наши приколы вспомню лет через двадцать,
в сумерках под балконом пройдя твоим.
Там наверху – фанерной лоджии клеть
хламом забита. Окон не рассмотреть…
Где тот январь, в котором так далеко нам
до превращенья в рыхлых кариатид,
где мы плывём сквозь ночь на плоту балконном,
и веселит салют, и балкон блестит,
словно над бездной высунутый язык…
И Рождество, и звёзды стоят впритык.
Кукла на крыше
Дом возле церкви, напротив канала,
где проживала ты, я потеряла.
Улица Тюшина… Кто этот Тюшин?
Свет за окном, вероятно, потушен.
Ты не живёшь там, коль мне не солгали.
Ты не пройдёшь через садик Сан-Галли,
не отразишься в засохшем фонтане.
Ты изменила среду обитанья.
Где поселилась теперь, у кого хоть?
Что тебя гонит – тоска или похоть,
грёзы о вечной любви, идеалах,
что воскрешают в чертах полинялых
бледный аналог «Весны» Боттичелли?..
Вспомнилось вдруг, как сквозь губ твоих щели
сладко сочился душок «Амаретто».
Что бормотала ты в кухне, согретой
вязким подсолнечным маслом заката,
глядя на флигель, чья крыша покато
над окруженьем своим возвышалась?
А на коньке (чья-то странная шалость)
голая кукла валялась, бесстыже
ноги раскинув над городом… Ты же
глупо хихикала, предполагая,
как очутилась здесь кукла нагая.
…Скоро, я знаю, беседа затухнет,
смех оборвётся. Появится в кухне
твой небожитель, затянется «Явой»,
муху прихлопнет ладонью корявой.
Ты же от слов его вялотекущих
вся затрепещешь, как бабочка в кущах,
и улетишь за фантазией следом.
Впрочем, дальнейший твой путь мне неведом,
как непонятна та странная сила,
что нас за скобки порой выносила,
словно над пропастью приподнимая…
Знает о том только кукла немая,
что у себя наверху в полнолунье
смутно белеет, как сыр «Сулугуни».
Лишь по глазницам – пластмассовым дырам
свет иногда пробегает пунктиром.
Перебирая фотографии
Радужной вспышкой, потерянным раем
будут казаться вчерашние фото.
Это случается, если теряем
время, пространство, кого-то, что-то.
Так на веранде, пропахшей вишней,
кашляет в щели снежный сквозняк.
Воспринимаю это как знак —
летом я буду на даче лишней.
Я не войду также в сумрачный дворик
дома, куда созывались поэты,
чтобы стихами, как скажет историк,
тешить себя в ожиданье банкета.
Нынче там пусто. Веет хворобой.
Окна темнеют, стёкла знобит.
Восстановить ускользающий быт,
как расшатавшийся зуб, не пробуй.
Где собеседница, с коей недавно
заполночь мы проболтали в отеле?
Тешит, небось, мокрогубого фавна
каждой ложбинкой в податливом теле.
Вот ещё фото – сквозь дымчатый глянец
в память вплывает чужая квартира,
где в окруженье восторженных пьяниц
я – на коленях былого кумира.
Где же теперь он с прищуром отчим
потчует свежую протеже?
Он не услышит меня уже —
губы обида мне склеит скотчем.
Новые кадры в июльском пейзаже —
тени, скользящие над водоёмом, —
время метельною кистью замажет.
Мне через снег не пробиться к знакомым.
Стынут в альбоме зеркальные блики.
В них погружая, как в полынью,
взгляд удивлённый, не узнаю
жизни обрезки, что так безлики.
* * *
В дворике старом, некогда образцовом,
я окажусь, влекомая смутным зовом —
выцедить через прутья стальных решёток
детства приметы, чей контур и цвет нечёток, —
сизой катальной горки спину слоновью,
стену с двумя именами перед любовью,
лиственный сор в засохшей чаше фонтана
и уцелевший с давешних пор нежданно
тот постамент с облупленным дискоболом.
Краткая надпись гвоздём на копчике голом
явно не к месту и не содержит смысла.
Голень из гипса на проволоке повисла.
Помню – блестел каток на месте парковки.
Были мои движенья на льду неловки.
Маму в толпе искала, чтобы вцепиться
в вязаные снежинки на рукавице.
Но силуэт растаял за пеленою,
окна погасли, картинка стала иною.
Крошится флигель кирпичный, будто печенье.
Только пластинка поёт, что «лёгкий, вечерний
вьётся снежок», и в пепле метельных перьев
гибнет моя оставленная Помпея,
где в ледяной пустыне, гремя коньками,
я ковыляю вслед уходящей маме.
* * *
Я видела сон, будто я в ресторане
внушительном, как Колизей,
приветствую нечто, что годы-пираньи
оставили мне от друзей.
Зачем я пытаюсь вернуться на круги
своя? Чтобы встретить фантом
подруги с захлопнутым вроде фрамуги
молчащим презрительно ртом.
Она, вероятно, меня не узнает,
узнать меня не захотев.
Меж нами воздушная стенка сквозная
трещит, как стекло в пустоте.
В стекле отражается образ, похожий
на школьницу в красном пальто.
Но ближе нельзя – под знакомою кожей
в ней плещется что-то не то.
Халдейка-судьба, твои руки разлили
в тела наши разную кровь.
Друзья, ваши души темны, как бутыли
в дыму среди дальних столов.
Багор моей памяти, Лету облазай
в надежде – а может, всплывёт
забытое детство, как пупс белоглазый,
из толщи бензиновых вод.
* * *
Ставши клиентами жизни-мошенницы,
мы подписали просроченный вексель.
Думали, видно: куда она денется —
эквилибристка, чей юмор невесел.
Сколько иллюзий ей было завещано
для неофитов младенчески пухлых!
Но неизбежности острая трещина
спрятана в нас, как в пластмассовых куклах.
Нынче ты платишь за каждый дарованный
миг, за судьбы мимолётную милость.
Словно каблук от туфли лакированной,
юность твоя от тебя отломилась.
Кажется, будто недавно бежала с ней
рядом, в свою бесконечность поверив,
не замечая, что ветер безжалостней
студит пробор меж седеющих перьев.
Где перманента померкшая платина?
Старость подкралась походкой звериной,
чтобы распять это тело в халате на
буром диване, пропахшем уриной.
Бывшая шея бумажными складками
от подбородка стекает каскадом.
Веют уста не помадами сладкими —
стылой микстурой, осенним распадом.
Жизнь расфасована фото квадратными —
«На вечеринке», «С подругой», «С блондином»,
«Школа», «Блокада»… Зеркальными пятнами
вспыхнут они, если луч по гардинам
перелетит электрической пчёлкою,
яркость даря выцветающим розам.
Это судьба, выключателем щёлкая,
крутит кино перед вечным наркозом.
Так, завлекая весёлою съёмкою,
жизнь изначально сгибает хребет нам,
пряча от нас интонацию ломкую
в наглом, ребяческом крике победном.
Одноклассники
Лет через тридцать встретились возле школы мы.
Вы толковали мне про чьи-то поминки,
были немного пьяными, невесёлыми,
полыми, как фантомы на фотоснимке.
Джинсовых курток чёрный, колючий хлеб.
Мальчики, вы похожи! Любой – нелеп…
Здравствуй, ма шер! Шузы из кожзаменителя,
ржавый загар, словно нагар на кастрюле.
Кажется, вас лет тридцать назад похитили
и, не помыв, не переодев, вернули
в наш переулок – краснокирпичный анус.
Это не фильм, где «Все умрут, я останусь».
Это – альбом, где вечно живём, пришпилены,
как мотыльки, в засохший гербарий братства,
словно элементарных судеб извилины
скручены намертво – так, что не разодраться.
Здесь – лабиринт зеркальный, где за углом
мы отразились в чёрно-белом, былом
фото, на коем – однообразный выводок
слипся в брикет с букетом в каждой ладони.
Что же вы нынче курите торопливо так,
словно вот-вот вас насовсем прогонят
в пекло забвенья, в адский июньский зной.
Продребезжит вослед звонок выпускной…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.