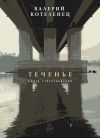Текст книги "Небесный лыжник"

Автор книги: Нина Савушкина
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Чужой
Любили мы в тот год встречаться на озёрах
и, запалив костёр, взирать за пикником,
как зубом золотым кусает пламя ворох
листвы, и в этот миг не думать ни о ком.
Ведь были мы тогда, как будто в гамме – ноты,
и гирьки наших душ слагались в разновес.
В такой момент всегда приходит лишний кто-то,
чтоб выверенный мир качнулся и исчез.
Зачем, соседка, ты, волнуясь, ждёшь кого-то,
кому по капле ты свой разум передашь?
И вот его лицо – внезапное, как рвота,
блеснув из-за кустов, запачкало пейзаж.
И в этот самый миг чутьём почти собачьим
вдруг ощутила я, что значит нелюбовь.
Так ветер сентября скользит по мокрым дачам
дыханием гнилым несобранных грибов.
Гляжу в глаза друзей, но всё заволокло там
мерцающим пятном нетрезвой пелены.
Как озеро, цветя, становится болотом,
так присмирили вы, в пришельца влюблены.
Почуяв новизну, закопошились нервы.
Нарушился баланс в присутствии чужом.
И каждое нутро запахло, как консервы,
открытые большим зазубренным ножом.
Нас стало больше, но мы стали как-то мельче.
От кислого вина безрадостно знобит.
И солнце в облаках застряло сгустком желчи
над пыльной мошкарой амбиций и обид.
На дно чужой души отчаянно ныряя,
Жаль, запоздало я уразуметь смогла,
что не нащупать там ни истины, ни рая,
лишь запотевший ил да слипшаяся мгла.
На мутной глубине там плесневеют корни
декоративных крон, цветущих напоказ.
И следует отсель выныривать проворней,
покуда огонёк иллюзий не погас.
Читальный зал
Школьной подруги черты так нечётки,
будто спешит, прихватив
в библиотеке по блату у тётки
импортный детектив.
Точно на фото выцветшем старом
тебя представляю как
девочку в клёшах кошмарных клошара,
в бифокальных очках.
Словно в зрачках отмороженных Кая,
льдинкой сверкает стекло.
Впрочем, ты с детства была такая —
про всех говорила зло.
Втайне от тётки стащив Мопассана,
ты просветила класс.
Авторитет возрос несказанно,
вылазка удалась.
Позже влюбилась в нонконформиста
в джинсах и бороде,
чей перманентный протест был неистов
и неуместен везде.
Словно за мастером – Маргарита,
за Монте-Кристо – Гайде,
ты ускользнула… Где ты укрыта?
Вечный покой твой – где?
Сплетни ходили – либо на Пряжке,
либо за рубежом.
Мы не даём ностальгии поблажки,
воспоминанья жжём…
Но вдруг заскрежещет ключ, открывая
запасники небытия,
из вечных фондов, вечно живая,
выйдет тётка твоя,
шаркая, горбясь, как сказочный гном,
в колпачке из седых волос,
и выдаст нам то, что казалось сном,
но не сбылось…
* * *
Новый год неизбежен, фатален, нетлен…
Сдёрнешь бежевой шторы несвежий кримплен
и в узорах обещанной стужи
наблюдаешь картину всё ту же.
Ты и сам непригоден для новых картин:
пухлый нос – мандарин, бороды серпантин.
Ты в трюмо запылённом, белёсом
отражаешься Дедом Морозом.
За окном разливается ночи мазут.
В гастроном запоздалые тени ползут,
семеня меж заснеженных линий
бестолковой походкой пингвиньей.
Под искусственной ёлкой, в сиянье шутих
ты узришь не прелестниц – ровесниц своих,
нарочито хохочущих, бодрых
снежных баб, чуть подтаявших в бёдрах.
Хлопнешь стопку ерша под салат оливье.
Лопнет ёлочный шар у тебя в голове,
пустотою весь череп налит твой.
Если б знал, отыгрался молитвой…
А теперь ты желанье сумей загадать,
и бумажку спалить, и словить благодать,
чтоб она разливалась и крепла
в пузырьках алкоголя и пепла.
Год Змеи наползает – должно быть, с Луны.
Ты слегка ухмыльнёшься, и змейка слюны,
словно жизненный вектор короткий,
заблестит на твоём подбородке…
Истерика
Когда я была ребёнком с солнечными кудрями,
ни один режиссёр не заснял меня в мелодраме —
в каком-нибудь сериале, где бы меня потеряли,
потом отыскали, ласкали… Слёзы бы утирали
зрители, уткнувшиеся в экраны,
ибо мои таланты безмерны и многогранны.
После, созрев, я себе завела обычай
в гости ходить с истерикою девичьей.
Усесться за стол, набычась, в тарелку тычась,
и вдруг зарыдать, как будто украли сто тысяч,
бойфренд надул и слинял на последнем сроке…
Да мало ли что? Ведь люди вокруг жестоки!
Короче, дома – шаром покати, и скоро начнутся схватки…
К тому же умерли все – львы, орлы, куропатки,
бабушка с дедом, гуппи, морские свинки…
А поскольку, как сказано выше, украли сто тысяч,
то не на что справить поминки…
Заплакать и Золушкой – в ночь,
но не быстро, а так, чтобы следом
успели выскочить все —
прощупать пульс мой, укутать верблюжьим пледом,
отпоить корвалолом, сунуть в рот сигарету с ментолом,
потому что мир без сочувствия кажется голым…
Чтобы понравиться всем вам – пресыщенным и сердитым,
стану хоть ренегатом, хоть гермафродитом.
Я согласна на смену ориентации, внешности, пола,
только бы безразличие ваше душу мне не кололо!
Я вообще-то гуманна, не приемлю угроз.
Просто в школе меня всегда волновал вопрос —
что случится, если в дачный сортир зафигачить дрожжи?
Всё равно я взорву этот мир, но позже!
Сколько вспухнет мозгов, сколько сломано будет копий!
О, скандала пьянящий настой, драгоценный опий!
Наговорилась за всё бессловесное детство!
Цыц, Иуды, к ноге! Куда вы посмели деться?!
Некого пнуть – разве что колоннаду пустых бутылок.
Но кто там с картонной иконки уставился мне в затылок?
Что ж! Плюй мне в седое темя, отлучай, презирай!
А я напялю перчатки и выполю весь твой рай!
Глаза
Вечеринка закончилась. Кажется, удалась.
Там был модный художник, что всех рисовал без глаз.
Лишь пустой анфас малевал, продавал на Запад.
Ни к чему глаза – напрасная грусть и слизь.
Мы и так словесно, телесно, тесно срослись.
Как подопытных крыс, нас можно ловить на запах
или звук. Однако не следует плыть на свет —
на блесну глазную, – влипнешь в стеклопакет.
В золочёной оправе – мгла, туда не пробиться.
Обладатель очков острит, слегка нарочит.
За стеклянной дымкой укрыт, почти не торчит
в полынье зрачков ледок разбитых амбиций.
А казалось, меж нами незримая связь сплелась.
Я сквозь толщу толпы навстречу, как водолаз,
поплыла, теряя дыхание в разговорах…
Взор твой неуловим, поскольку – уже не здесь.
Отражается в нём электрической пыли взвесь,
где мерещился жемчуг, песка остывает ворох.
В живописную группу – хрупкую, как сервиз,
где смеются тонко, глаза опуская вниз,
и вибрируют звонко, стоит повысить голос,
за тобой вослед я вряд ли на раз вольюсь —
промахнусь, не зная, с кем заключён союз,
с кем содружество склеилось, с кем – опять раскололось.
Подойдёшь к ним с рюмкой и свежим тостом: «За ложь!» —
фразу произнесёшь, содрогнёшься, глаза зальёшь…
Головные уборы глубже на лоб надвиньте —
до бровей, чтобы сразу стало совсем темно,
притушили титры в глухонемом кино.
Всё равно не нащупать выхода в лабиринте.
Поэты
Вы не стихи, не цветы – всего лишь поэты,
и потому не понять, из чего растёте —
из легковесного сора, словесного сюра?
Лица тянутся к свету,
ноги вязнут в болоте.
Кто вы де-факто вообще-то?
Кто вы де-юре?
Каждый из вас – трагичен и нарочит,
точно на Страшный суп обречённый кочет,
чьи под враждебными вихрями крылья смяты.
Что он там ямбом кричит,
хореем бормочет,
вечным пером расчёсывая стигматы?
Всякий здесь ждёт – придёт и его черёд,
выложив на сукно свой козырный опыт,
выиграть реноме в борьбе с временами.
Вот он взойдёт на сцену и проорёт
новое слово в искусстве, и всех затопит
Некое откровенье сродни цунами
Воспоминание о поэтическом вечере в коктебельском кафе «Богема»
Южная ночь, пропахшая табаком.
Много поэтов, каждый – малознаком.
Строчки скользят, как стрелки на циферблате.
Сцена: кому – погост, а кому – танцпол.
Отрокотав верлибры, с нее сошел
юноша в чёрном… Дама в цветастом платье,
дергаясь, будто образ насквозь пророс,
стих декламирует, что не лишен угроз —
юбку задрать и двинуть за молодежью.
Вдруг мимикрирует, резко помолодев,
и, вызывая тремор у здешних дев,
в зал презентует улыбку свою бульдожью.
Пафос понятен, но что ж она так вопит?
Публика, забывая про общепит,
вилки роняет и застывает в коме…
Море снаружи ворочается, как спрут.
Волны, гремя, последние строфы жрут.
Им не нужны сторонние звуки, кроме
плеска медуз, пощелкиванья камней —
незарифмованной песни природы. В ней
не суждено застрять ни одной строкой нам —
тем, кто в кафе приморском бубнит с листа
текст, как пароль для вечности, где места
не застолбить нам – праздным и беспокойным.
Небожитель
Он говорит мне: «Это – мое эссе.
В нем размышленья собраны о спасе —
ньи литературы, сжеванной постмодерном.
Словно могильные черви, кишат слова.
Гибнет поэзия, проза давно мертва.
Я оставляю их в состояньи скверном.
К чёрту стихи! Я взялся вчера за кисть.
Интуитивно мне удалось прогрызть
сквозь подсознанье некий тоннель… Внимая
музыке сфер, я краски бросал на холст,
изобразил пещеру, в нее заполз.
Там обитают духи племени майя.
Живописал я охрою божество.
Но дилетанты, не опознав его,
пробормотали: «Что это – пассатижи?».
Этот народ искусство не проберет.
Пусть он живет, лишенный моих щедрот!
Двину я вслед за Солнцем – к Западу ближе.
Ибо драматургию моей души
приняли адекватно лишь латыши.
Пьеса моя на днях прогремела в Риге.
Публика пала, Паулс пустил слезу!
Я ж по России творческий воз везу,
а в благодарность – сплетни, плевки, интриги.
Не обретя собеседников здесь, сейчас,
я прикоснулся, сквозь времена сочась,
к судьбам великих. (Книгу уже сверстали).
Я обустроил там живой уголок,
дабы со мной могли вступать в диалог
Бродский, Шаляпин, Бунин, Нижинский, Сталин,
Дягилев, Блок, один и другой Толстой.
С каждым из них разговор веду непростой
о миражах мирозданья, издержках славы.
И под пером, как устрица под ножом,
корчится классик, мыслью моей сражен,
И восклицает: «Сударь, о, как Вы правы!».
Маэстро
Мы к вершинам горним с вами пошли, поверив.
Но в глухие дебри вы своих подмастерьев
заманили и на пленере решили бросить,
где в курчавых лесах водопада сверкает проседь.
Растопырив плащ, вы уселись квёлою птицей.
И неведомо нам – воспарить ли, обратно спуститься
в приземлённый дол, расчерченный на полоски,
где неброски краски, словно на фреске – плоски.
Мы вам подражали, за вами бежали ради
обретения сумасшедшей искры во взгляде —
той, что кисти, будто свечи воспламеняла,
и сияла палитра, как жертвенник идеала.
Мы уже сполоснули зрачки в небесной лазури.
К нашей коже присох навечно закатный сурик.
Неужели нам, что кастальской влаги испили,
суждено опять ваять фантомы из пыли?
Мы достигли вершин. Стремиться теперь куда ж нам,
если путь обломился грифелем карандашным?
Вы безмолвны, профиль застыл, обратился в слепок,
на оскал светил полуночных взирая слепо.
Муза
Я для тебя не просто жена, но – Муза.
Сладостный статус не уступлю никому за
призрачный ворох долларов или евро.
Я прописалась в текст любого шедевра.
Помнишь свою подружку в юности ранней —
Локти в зелёнке, латки на сарафане?
Как мы клубнику трескали на террасе?
В сердце проник твой образ и не стирался.
Ты на лассо из строчек ловил Пегаса.
Я наблюдала, млея… Ты не пугался.
Вслед за тобой меж крыльев коню на спину
прыгнула с криком: «Я тебя не покину!».
Мы воспарим, и в творческие чертоги
я залечу в хорошем смысле в итоге,
где я сумею, утлый быт озаряя,
тщательно обустроить пространство рая
и развлеку тебя под чай с пирогами
светской беседой о творчестве Мураками.
Черновики мы, как кабачки, засолим…
Тяжко влачить котурны моим мозолям.
Я перестану есть, похудею очень.
Будет мой копчик, как карандаш, заточен,
нервные метки чиркать по табуретке
средь презентаций, где фанатки нередки.
Я бы со всех сторон тебя облепила,
словно Харибда – слева, а справа – Сцилла,
уберегла в объятьях своих, оковах
от утончённых дамочек – кобр очковых.
Не ностальгируй вслед им – порыв обманчив,
раз ореол отцвёл, что твой одуванчик,
ямбы увяли, хрустнул хребет хорея.
В зарослях букв лишь я цвету, не старея!
* * *
Ты приземлился на все четыре строки,
выправив рифму в скользком анжамбемане,
и уцелел – один, всему вопреки
в мире – в кефире снежном, в слепом тумане.
Вытянешь руку – и не видать ни зги.
Где акварели, школьные пасторали?
Смолкли звонки, осыпался мел с доски,
радужные каракули постирали.
В Лету плывёт заброшенный плот-приют,
вдаль волочёт сэконд-хенд заношенной жизни.
Тихо в каютах – там не поют, не пьют.
Выйди на ют, удивись, печально присвистни.
Те, у кого гостил ты на пикнике,
сгинули вдалеке – различишь едва ли, —
взмыли в пике, обрушились в тупике,
жизни финал с началом не срифмовали…
Вспомни сентябрь, заветренный апельсин
солнца. На скатерть в винных пятнах заката
ставил корзину яблок хозяйский сын,
ты ему улыбался подслеповато.
Женщина пела, ее конопатый зоб
дёргался в такт, пульсировал, как цесарка.
Как хохотали вы – в унисон, взахлёб!
Заросли осени вас обнимали жарко.
Реанимируй рай, растерянный Ной,
пазл собирай, где каждой твари по паре.
Перелопатив памяти перегной,
звуки и запахи намертво вклей в гербарий.
Припоминай птичий щебет, блеянье коз,
конский навоз и ласточку над конюшней.
Местный наркоз, впаденье в анабиоз,
Жизни вялотекущей, почти ненужной.
Лакримоза
Твой трагический вид всех страшит, лишь тебя – веселит.
Вставишь в губы мундштук, в декадентский корсет – целлюлит,
чтоб, удобрив дыхание смачным табачным дымком,
басовито рыдать о себе, о судьбе, ни о ком.
Вдруг замрешь, словно статуя скорби у траурных врат,
из-под век упоённо сливая солёный субстрат.
Васнецовской Алёнушкой скорчишься в чаше лесной,
поселян завлекая слезой, словно рыбу – блесной.
Сквозь миазмы болот, очарованный музыкой сфер,
до тебя доползёт птицелов, рыболов, браконьер.
Ты заманишь их в сеть, в дождевую прозрачную клеть.
Будет каждый охотник тебя там желать и жалеть.
В организм анемичный живительных соков вольют.
Вы займётесь взаимообменом текучих валют.
Но иссякнет любовь, выйдет горе из всех берегов, —
Ты привычно навзрыд фонтанируешь, как Петергоф!
Коллекция
Ваша свежая протеже – престарелая травести
с ногами кривыми настолько, что хочется заплести
их в косичку, а снизу бантик – морским узлом,
чтоб не ползла вослед в кураже полупьяном, злом,
чтоб не зудела в ухо, к телу не льнула вьюном.
Впрочем, это неважно. Она явилась в ином
электрическом свете, где охрой вымазан коридор,
где в туалете школьном – один на всех «Беломор»,
треснувший кафель, бессильный смех, инфантильный грех,
где мушкетёры – один за всех, и миледи – одна на всех.
Кочерыжка в фартуке мятом, малолетняя моль.
Надо лбом конопатым – чёлки взбитая пергидроль.
Из перламутровых уст – портвейна амбре,
след рифлёной резинки на рельефном бедре…
Память тасует рифмы, и вот он – промежду строк
острый, как пот в подмышках, юношеский порок.
Вы – зажёванный жизнью мальчик, в узких джинсах, с наплывшей килой.
В тесном кляссере сердце прилеплен облик былой.
То есть, это не просто несвежая травести,
а ностальгии короста, которую не отскрести.
Оттого-то вы их и ловите – безотрадных, ничьих, чужих,
маргинально-фатальных кисок, убогих полубомжих.
В их миру вы – писатель, классик, гуру, сотрясатель основ,
воспаривший Парис, кипарис среди кочанов.
Посвящая им вирши с подтекстом, будто всуе судьбы верша,
коронуете ту сегодня, в ком чуть слышно шуршит душа,
сентиментальная слизь случайно слилась из глаз?
Забирайте свой приз! Подростковая травма срослась…
Недостижимый
Когда он втянул тебя в богемную тьму,
он был твой гуру, а ты для него – Му-му.
Когда вас накрыл вдохновенья девятый вал,
он выплыл скорей, – он лучше всех рифмовал.
Пришел он, собранье улыбкою оросив.
Не более мелок, не менее некрасив —
ты тоже включил обаянье на триста ватт.
Недооценили. Тогда ты стал хамоват.
Уже не лиричный – харизматичный герой,
хабарик тушил в жестянке с чёрной икрой.
«Бифитер» глушил, поблёвывал на палас…
Недооценили. Тогда ты стал ловелас.
Поклонниц завел, как будто ручных шиншилл,
брутальною лирикой души им потрошил.
Приятель молчал, но казус необъясним, —
в финале банкета они уходили с ним.
Ты столь же пузат, носат, бородат, броваст,
но если в контексте упомянут про вас,
то, встретив на фото лица твоего овал,
заметят: «И этот рядом с Ним стартовал».
Вы строили вместе лестницу из словес.
Вдруг он воспарил – без перил на Парнас залез!
Исчез его силуэт. Ты, прищурясь зло,
так бы и плюнул вслед, да челюсть свело.
Королева червей
Здравствуй, поэзии новой императрица!
Свите твоей не надобно мыться, бриться,
ибо при каждом всплеске воздушной вони
ты возбуждённей становишься, просветлённей.
Ныне на троне паришь над орущей кучей,
дёргая носом, качая ножкой паучьей
над головами дам в париках блошиных
и кавалеров с плесенью на плешинах,
над неофитом, что зудом налит, как чирей,
ждёт, чтобы в свиту его поскорей включили
в качестве ангела, чёрта, поэта, барда.
Юная морда светится, как петарда,
глядя, как на помосте для инсталляций
ты начинаешь творчески оголяться
и, разливаясь матом витиеватым,
опус очередной выдаёшь фанатам.
Черви словес ползут по яремной вене.
Публика, замирая, ждёт откровений.
Вирши о том, как мир прожжён и загажен —
терпкий бальзам для ваших глубинных скважин.
Вот потому придете сюда не раз вы
пощекотать свои потайные язвы,
чтобы в экстазе струйкой слюны и желчи
выдоить комплексы, сделаться легче, мельче,
словно вас прокрутили, как кур на гриле,
пережевали, после переварили.
И, возродившись в форме иных субстанций,
вы Королеве червей слагаете стансы.
Таланты и поклонники
«И явно так выверен каждый выверт, —
Читатель уснет, адресата вырвет!»
(В. Лейкин)
Ты слышишь, как стих декламирует famme fatale?
Приталенный лиф, в глазах ледяная сталь.
Духовное мясо – дичь весьма дорогая.
В ней детский наив, а рядом – дамский надрыв.
Сплошной креатив! Вместительный рот открыв,
красиво кричит, истерику исторгая.
Рифмачка, циркачка, скульптура девы с веслом
вещает о том, что мир обречён на слом,
пророчествует, вибрируя и потея.
Глухие удары пульса в конце строки
в тебя проникают, физике вопреки,
и вдруг прозреваешь: «Вот она – Галатея,
Придуманная, изваянная собой!».
Ты здесь ни при чем, подвинься, уйди в запой,
любуйся, бухой и рыхлый, как Чижик-Пыжик,
на сливочный лоб, что болью фальшивой смят,
на алый браслет, сочащийся, как стигмат…
Проникнись и рухни к подножью литых лодыжек!
Лежи, вожделей и млей, истекай слюной,
скупую Фортуну о жизни моли иной,
укладывай в рифму злой подростковый лепет.
Очнись, убедись – с души твоей слезла слизь,
сложился пасьянс, дан шанс, позвонки срослись,
и творческую судьбу тебе Муза лепит.
Взопрел, озарился, катарсис поимел,
очистился, протрезвел, приобрел e-mail.
По-прежнему от поэзии ты далёк, но
стал критиком, в анатомию текста вник,
и вот расчленяешь тщательно, как мясник
останки стихов на кости, хрящи, волокна.
Выигрыш
Когда была в моде лёгкая хрипотца,
болгарский «Опал», опавший овал лица,
ты был идеал… И пухлая канарейка —
уютная дама, с которой едва знаком,
в пиджак твой вцепилась розовым коготком,
да так и застряла… Теперь ускользнуть посмей-ка, —
непризнанный гений, свободолюбивый бард.
Небесная манна в перхоти бакенбард
почудилась ей, едва очутилась рядом.
С тех пор ты ее невзначай на пути встречал —
оставленный тыл, постылый ночной причал,
привал на развилке промежду раем и адом.
Она тебя всё ждала, западню ткала,
взлелеяла образ, вставила в зеркала,
где спаяны вы, как в паззле, друг друга возле,
когда променад по западным авеню,
визиты поддатых друзей, податливых ню,
затормозит внезапный цирроз, тромбоз ли.
Ей лет через тридцать грезится при грозе,
что ступни свои, опухшие, как безе,
пихает в ботинки и движется к той больнице,
где идол поверженный к ней одной обратит
свой профиль обледенелый, как сталактит,
и больше не улетит, и мечта продлится.
Ты кашляешь, реагируешь на бульон,
слегка оживлён, ей кажется, что влюблён,
сложилась в конце марьяжная лотерея.
На лестнице чёрной скрипит целлофан бахил,
ее провожает сраженный, хромой Ахилл.
Уходит она, от выигрыша дурея.
Мерило
Вы многогранны и блестящи, как стакан,
налитый до краёв божественным нектаром.
И на челе лучом начертано – вам дан
литературный дар недюжинный. Недаром
вы здесь – «среди миров, в мерцании светил» —
мерило из мерил, возвышенного символ.
Сам серафим парил над вами, шестикрыл,
слезинку обронил, и ничего не вырвал.
Повсюду вижу вас – подвижен, востроглаз,
на творческих пирах снуёте с рюмкой бренди,
то к мэтру подольстясь, то с юношей делясь,
как стиль приобрели задаром в сэконд-хенде.
Сюжеты свежих пьес вынюхивали средь
лежалого белья чужих опочивален,
не замечая, что заплесневела снедь,
зажёван монолог, и занавес засален.
Поэта пожурив тепло, что твой Зоил,
уроки мастерства даёте, как прозаик.
Здесь – прыщик раздавил, здесь – пафос подоил,
здесь – сленг употребил, и катарсис – пронзает!
Внимает неофит, чей рот полуоткрыт,
и думает навзрыд: «Вот снизошла звезда ведь…».
Любого поразит ваш импозантный вид,
лирический флюид, уменье к месту вставить
то строчку из Кокто, то хокку из Басё,
взирать поверх очков взыскательно и строго.
Всё ждёте, чтоб о вас сказали: «Наше всё».
Скажу: «Вы – кое-что. Вас просто слишком много».
Лев и гиена
Маститый Лев, рванув за хрупким крупом ланьим,
всерьёз не соотнёс возможности с желаньем —
забыл про свой склероз, одышку и артрит.
К чему ему теперь надежды, упованья,
раз труп его смердит не в саване, в саванне,
не лаврами, увы, а мухами покрыт?..
Невдалеке впотьмах фланирует гиена.
Прыжок – и в хладный прах впилась самозабвенно,
и принялась его с урчанием глодать.
Но загрустила вдруг, дожевывая печень:
«Покойник был велик, но он – не бесконечен.
А хочется продлить подольше благодать!»
И озаренье вдруг пронзило мозг гиений:
«Всем тварям сообщу, что был усопший – гений.
Я – ближе всех к нему, а значит – всех святей!
Купила копирайт, договорилась с прайдом.
За маленькую мзду всем контрамарку в рай дам —
обсасывать елей с классических костей.
Мне жребий выпал – бдеть над знаменитой шкурой
вселенскою вдовой, лианою понурой
и терпеливо ждать, таясь в тени ветвей,
когда еще одно закатится светило,
рычать: «Пойдите прочь! Я первая схватила!»…
Мне всякий корифей – тем слаще, чем мертвей.
Морали в басне нет, как нет ее в гиене,
Снискавшей вдохновение в гниенье…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.