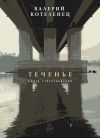Текст книги "Небесный лыжник"

Автор книги: Нина Савушкина
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Гости на лошадином кладбище
Я охраняю мёртвых лошадей…
В. Лейкин
Лунный осколок в окнах красного замка.
Отблески на стекле. На земле – вязанка.
Чёрный, как лошадиная грива, хворост.
Наст под ногами нынче бугрист и порист.
Сумрак безбрежен, вечер бесснежен, душен.
Не добрести до бывших царских конюшен,
где вы, служа на кладбище лошадином,
нас развлекали некогда: «Погляди на
мрамор плиты, где сколота позолота…»
Вдруг, как тогда, я вновь распознаю что-то
типа: «Здесь погребен жеребец Бухарец».
Я рассмеюсь над кличкой, и мы, не парясь,
в смысле, не размышляя над бытом сущим,
хлебом насущным, масло на нем расплющим,
водку расплещем в пластиковые стаканы.
Дождь за окном озвучит наш тост стеклянно.
Выгнется водный купол подобьем лупы,
мир искажая, будто не клумбы – крупы
старых коней, чьи кости истлели втуне,
рвутся наружу, звенят бубенцы петуний,
корни копыт сквозь почву белеют… Впрочем
дождь завершит иллюзию многоточьем,
смыв отраженья наши с окна сторожки.
Свет задрожит внутри, как джем из морошки.
Он и сейчас – без нас – озаряет скупо
узкий топчан, заскорузлый рукав тулупа,
ретроплакат «Семёновские солдаты»…
Время свернуло в сторону… Тпру! Куда ты?
Чужой огород
Как очутились мы на огороде, на
сотках ничейных, на самой окраине?
Словно витраж, стекленеет смородина —
не потревожена, как при хозяине.
Тёплый сквозняк полусонною мухою
бьётся в тигровых заржавленных лилиях.
«Жили здесь раньше старик со старухою.
Так друг за другом и похоронили их», —
Ты произнёс, наблюдая за тучею:
Дедушка в небе дымит своей „Примою”,
и улыбнулся в надежде на лучшую
жизнь – безразмерную, неповторимую.
Ты протянул мне цветные горошины
ягод – лиловые, красные, синие,
и удивилась я, как искорёжены
в липкой ладони судьбы твоей линии.
* * *
Мы оставляем загородный дом.
Всклокоченные астры, как болонки,
над бывшею водою, ставшей льдом,
трепещут у заржавленной колонки.
Ещё осталось время, чтобы свет
зажечь и выпить чаю на террасе,
покуда дома тонущий корвет
не растворился в сумеречной массе.
Стекляшки витража, как монпансье,
облизанные вспышкою электро —
светильника, расколоты на все
оттенки вечереющего спектра.
Природа надвигается на быт,
его в объятьях холода сжимая.
И огород знобит, и дом забит
до марта, до цветения, до мая.
Нам пастораль, увы, не удалась.
Сомкнулись за спиной ворота рая.
Лишь тень в тумане, словно водолаз,
плывёт к вокзалу, меж огней ныряя.
Концерт
Только такие, задвинутые судьбой
под плинтуса мирозданья подобно пыли,
здесь ожидают чуда, когда гобой
разворошит их души, словно прибой —
кучи песка, щепы и прибрежной гнили.
Только такие здесь и сидят, дрожа в
неактуальном шифоне или муаре,
и поглощают, бинокли к глазам прижав,
взбитые сливки штор, желток витража,
в уши вливая густые отвары арий.
Как в ателье, приходят сюда латать
воспоминаний трепетные лохмотья
и обретают странную благодать —
словно бы изнутри себя наблюдать
за перемирием между душой и плотью.
На воспаленный лоб намотав мотив,
мазью мелодий укусы тоски замазав —
так они лечатся, прежде чем уползти в
зимние сумерки, звуки в себе утаив,
словно невольники с прииска – горсть алмазов.
В филармонии
С программкой в сумке, с биноклем у глаз,
с надменной нижней губой
ты в кресло уселась – почти улеглась
под скрипку, фагот, гобой.
Звенит карильон, и река времён
смыкается, как браслет,
и застывает взгляд, отнесён
вспять на десятки лет.
Там в зеркалах, в череде колонн
платье твоё пестро.
Забытый мальчик – смущён, влюблён —
подносит стакан ситро.
И ты – юна и пока тонка,
вспыхнув, словно свеча,
его поглаживаешь рукав,
отчаянно хохоча.
Расплавься и до фитиля дотлей,
тоскуя под клавесин
в помпезном зале, где лепет флейт
навязчив, невыносим.
Пусть плоть обвисла и дух прокис,
нырнёшь в волшебную ложь —
и грациозней иных маркиз
в купальне звуков плывёшь…
А когда тебя усыпит Люлли
и всё это рококо,
ты оторвёшься вдруг от земли
и воспаришь легко.
Концерт на фоне битвы
Вошли вы в некий зал, где примадонны пели,
и здесь уже, ютясь на кресле откидном,
узрели на стене дубовые панели
не с пасторальным, нет – с батальным полотном.
Гадали весь концерт, кто там – сарматы, гунны?
Чьи дикие зрачки блестят из глубины?
Почти не увлекал вокал певицы юной,
в чьи прелести слегка вы были влюблены.
В зелёном декольте на фоне поля битвы
так трепетна она, что выглядит ботвой.
И слышите, косясь на живописный вид, вы
не сладостную трель, а дальний топот, вой
в краю, где зелень с гор стекает вялой лавой
и в полнолунье мгла глядит кривой совой.
Вы там уже – герой фантазии кровавой.
Внутри таких картин непросто быть собой.
Вы там – не меломан, а непокорный пахарь,
схвативший под уздцы чужого скакуна —
напряжена рука, распахнута рубаха,
разорван криком рот, и грудь обнажена.
Нацелил в сердце сталь яйцеголовый ворог.
А девушка поёт… Но кто ж её спасёт?
Окаменели вы в свои неполных сорок,
как город над Невой, доживший до трёхсот.
Пусть стёртые до дыр мозолистые почвы
пронзит глухая дробь взбесившихся копыт,
покинете сюжет и удалитесь прочь вы,
но взор ваш, словно гвоздь, в картину напрочь вбит.
Карнавал
Пригород. Публика ждет карнавала,
кормит попкорном мартышек в зверинце.
За горизонтом гроза миновала…
Небо салютом должно озариться.
Сказка тебя никогда не покинет…
Золушка вдруг от небритого принца
к озеру мчится в лиловом бикини,
трогает воду ногою босою.
Принц ей вослед невпопад матерится.
Пахнет черёмухой и колбасою…
Чудо должно непременно случиться.
Прочь из загона стремится волчица,
ржавою грудью ложится на прутья.
Так же фантазия глухо, незримо
мечется под черепною коробкой,
изнемогая любовью к фантому,
ищет пропажу среди многолюдья…
Сторож приземистый, выплюнув «Приму»,
дверцу защёлкнет щеколдой короткой.
…Здесь полагается жить по-простому.
Праздник придуман давно и не нами —
платья из марли, мечи из пластмассы.
Маски сползают с лица вместе с потом.
Все запечатаны под именами.
Полон сундук, только ключик сломался…
Ловишь мечту, тормошишь за одежду
и замираешь, почувствовав между
пальцами воздух… Опять никого там.
Часть 3. Персонажи
Странник
Загромыхав ключами в тесной прихожей
старой квартиры на Обводном канале,
видишь, как на пороге стоит понуро
немолодая дама с несвежей кожей —
столь испещрённой, будто стрелы Амура
целили в сердце, да не туда попали.
Ты ей поведаешь, будто в привычном русле
двигался к дому, да завела кривая,
и засосало в душный карман подвала.
Сорные мысли крошились в мозгу, как мюсли,
ты их пытался склеить довольно вяло,
в мутный стакан забвение наливая.
Ты был захвачен острым, проникновенным,
внутренним диалогом с самим собою —
будто с душою тело соединили.
Взгляд заметался, словно паук по стенам,
по лепесткам заляпанных жиром лилий,
что украшали тёмной пивной обои.
Скрипнула табуретка, подсела тётка —
глазки блеснули, словно изюм в батоне,
вспыхнула сигарета, включился голос.
И от вопроса, заданного нечётко,
лопнул мираж и музыка раскололась
и зазвучала глуше и монотонней.
Лень было переспрашивать, откликаться.
И, ощутив потребность уединиться,
позже ты сбился с курса, лишился галса
и пробудился в сквере, в тени акаций —
там, где на веках солнечный луч топтался
суетно и навязчиво, как синица…
Улица, двор, подъезд, жена в коридоре.
Что-то в лице у ней хлюпает, как в болоте.
Ты – её приз, обретённый под старость странник,
вечный Улисс, выныривающий из моря.
Вот поцелует чёрствую, словно пряник,
щёку и свет погасит. И вы уснёте.
Старик в интерьере
Вы пробудились в комнате, где когда-то
были вы молоды, дважды как неженаты,
в годы, когда казались себе счастливым —
словно на фото с бледно-стальным отливом,
где вы под кипарисом, ампир подпирая,
словно Адам, не выдворенный из рая,
клеите дам, заедая коньяк эклером.
Мир чёрно-белый ещё не сделался серым…
В комнате душно, будто в банке варенья.
В пыльном кашпо цветы не ласкают зренья.
Сохнет в углу единственный хлорофитум,
тень на стекле висит пауком убитым.
За занавеской ночь становится мельче.
Солнце вспухает справа, как сгусток желчи,
напоминая – следует выпить но-шпы.
Надо зайти в аптеку. Припрятать нож бы
поаккуратней где-нибудь за подкладкой.
Страшно снаружи. По ленте асфальта гладкой
в банках железных – розовы, как консервы,
мчатся бандиты. Кто же собьёт вас первый?
Мир – кегельбан, призы – молодому мясу.
Небезопасно стало ходить в сберкассу.
Продали вас враги со страною вкупе.
Вам из сачка не выскользнуть, вы – не гуппи.
Скоро придут покупатели. Вы в прихожей,
дверь подпирая креслом с треснувшей кожей,
думаете: «Пришли. Совсем озверели».
Ждёте, сжимая ручку электродрели.
Безумец
Я помню дом во время оно,
когда мы собирались в нём.
Был эркера стакан гранёный
наполнен светом, как вином.
Но тот, кто нам махал с балкона,
теперь находится в ином,
зеркальном мире. Он – хозяин
плантаций, где цветёт недуг.
Сгорает мозг его, запаян
как в лампе, меж электродуг.
Когда он тянется в бреду к
былым друзьям – мы ускользаем,
поскольку неприятен факт нам,
что разум может стать чужим.
Ведь ты безумием бестактным
разрушил всё, чем дорожим.
И вот, в спектакле одноактном
не доиграв, мы прочь бежим.
Ты сделал нас несовершенней
и уязвимей вместе с тем.
И вот мы на манер мишеней
вокруг тебя скользим вдоль стен,
шушукаясь: «А был ли гений?
А если был, при чём здесь тлен?».
Тебя здесь нет. В окно напротив
воображенье унеслось.
Там, разбухая, как в компоте,
взирает люстры абрикос
на царство блюд, на праздник плоти.
Тебе там места не нашлось.
Когда же имя станет сплетней
и в разговорах заскользит,
мы нанесём тебе последний,
как полагается, визит.
…Осиротевший плащ в передней,
как мышь летучая, висит.
Золотая рыбка
Старуха была потлива и хлопотлива.
Худою рукой в кобальтовых прожилках вен
она собирала щепки в момент отлива,
и ветер взбивал ей волосы, словно фен.
Старик поутру – в движениях слишком зыбок —
побрёл на причал, до вечера там торчал.
Закат нерестился икрою солнечных рыбок,
и взгляд старика нездешний свет излучал.
Пришёл он домой – стремительный, точно циркуль,
цветущий, как фикус, будто сквозь быт пророс,
уселся за стол и странные строчки чиркал
на старых газетах, пачках от папирос.
Старуха мала, как нэцке, лишь веки-клёцки
набухли, плывя в солёном бульоне слёз.
Она обижалась по-детски, а дед по-скотски
с ней поступал – не воспринимал всерьёз.
Она бормотала: «Рукопись золотая,
волшебною рыбкой вынырни под пером!
Тогда, чешуёй монет прорехи латая,
мы премии всевозможные соберём.
Нахлынут халява, слава, эссе, буклеты,
в глазах зарябит хвалебных статей петит.
Мы так на волне взлетим, что в лакуны Леты
забвенье нас не затянет, не поглотит».
Глаза старика моргали, с трудом вникали,
застыл в них непонимания вязкий ил,
а после прикрылись веками-плавниками…
Он снова схитрил – он раньше неё уплыл.
Портрет вдовы
В зеркале, как сковородка, прогретом
масляным светом фонарным,
ты отразилась обрывком портрета —
бывшего некогда парным.
Прежней улыбки осколки в оскале,
ямочка под подбородком,
словно тебя всю жизнь протаскали
на поводке коротком.
Вдруг отпустили, но не приучили
Плавать в свободном стиле.
Что за плечом твоим – пламя свечи ли,
тени, что не остыли?
Не обольщайся, что встретишься вдруг ты
с мужем весьма потёртым
в комнате, где поминальные фрукты
выглядят натюрмортом.
Не различишь силуэт в коридоре —
сумерки грифель затёрли.
Лишь пустота подступает, как море,
и застревает в горле.
Ты – затонувшая каравелла
в бархатной пене кресла.
Кажется, только вчера овдовела…
До сих пор не воскресла.
Свадебный бомж
У крыльца районного загса
на паях с гламурным амуром
заскорузлый бомж оказался,
угнездился на лавке в буром
секонд-хендовском полушубке,
сам – мохнатый, будто шиншилла.
Может, это генетики шутки?
Может, мать его с йети грешила?
Попрошайка статичен, скрючен
в олигофренической спячке,
но рука – веслом без уключин
всё гребёт навстречу подачке.
В бороде его – крошки пиццы,
взгляд сочится гнильцой укора
вслед за парой, что откупиться
не успела, – настолько скоро
нёс невесту – всю из фаянса,
кавалер в румянце амбиций,
улыбался и не боялся,
что альянс их может разбиться…
Вот пойдут все в цветах обратно,
бомж, как фатум, вспухнет нарывом
на пути, где неоднократно
он обламывал кайф счастливым
нескончаемым брачным свитам,
посылая их смачным матом…
А в стакане неба разбитом
веет спиртом, миртом и мартом.
Старой поэтессе
Между пыльных страниц, где когда-то мерцала пыльца
отлетевшего лета, фантазией детской согрета,
уподобившись бабочкам, ваши глаза в пол лица
сквозь туман монохромный вспорхнули навстречу с портрета.
…Вы пропали с Парнаса, мелькали порой в новостях —
над стальными очками топорщилась чёлка седая.
В узловатой руке вы сжимали невидимый стяг
или посох пророка, в апокалиптичность впадая.
Но однажды на party, блуждая меж потных тату,
что змеились, сползая по голым девичьим предплечьям,
вы, зелёнку абсента прижав к воспалённому рту,
исцелить немоту попытались и поняли – нечем…
Тишину не прервать, провиденье не переиграть,
у фортуны не выклянчить перед последней раздачей
те заветные знаки, что сами слетали в тетрадь
и звенели, как зёрна, под вашею лапкой цыплячьей.
Отчего порвалось полотно, что ткалось и плелось
в завитушках чернил? Где чутьё, что звалось восприятьем?
Где весёлая злость, погружение в бездну насквозь —
всё, чем в старости мы за непрошенный опыт заплатим?
Измена
Проснёшься, нарвёшься своей утончённой ноздрёю
на приторный запах подаренной мужем сирени,
и – сердцебиенье, смятенье в душевном настрое.
Итак – уравненье с одной неизвестной: «Нас – трое».
Итог – подозренье в измене.
С тобою он важен, небрежен, с ней – нежен, вальяжен.
Трещат отношенья, что были прозрачны, стеклянны.
Лишь похоть, как нефть, из глазных изливается скважин.
Разрушен красивый марьяж, безнадёжно изгажен.
Наружу всплывают изъяны.
Пока эдельвейсом ты произрастала над бездной,
то плоть утончала, то творческий дух источала,
супруга манило в объятия той – неизвестной,
не слишком духовной, местами излишне телесной —
иное – земное начало.
Тебе удавались эссе, экзерсисы, этюды,
а ты все букеты, буклеты, конфеты, награды
сложила к ногам ренегата, зануды, Иуды…
Теперь между вами – соперницы груди, как груды,
как горные гряды…
Ты – на высоте, и тебе там не то чтобы тошно,
но душно, как в туче, пока не пробило на ливень.
Ты тише голубки, но есть голубиная почта.
Клейми же неверных небесным помётом за то, что
их рай примитивен.
Монолог гусеницы
С ажурного листа слетев на дно оврага,
ползу упорно ввысь, проталкивая слизь,
туда, где в облаках вальсируют имаго,
которые давно на небо вознеслись.
Парящие вверху достигли озаренья.
И мне издалека мерещится впотьмах —
жасмина перламутр, александрит сирени,
горящий на крылах, чей вдохновенный взмах
мой приземлённый торс ввергает в злые корчи.
Я ненавижу тех, которым удалось,
распотрошив хитин, стать ярче, легче, зорче
в обличье нимфалид, лимонниц и стрекоз,
за то, что не постичь курсирующим в кущах,
сосущим задарма нектар иных миров,
как чешутся во мне осколки крыл растущих,
скребущих изнутри не продранный покров.
Ассоль
Девушка на причале, чёлка косая.
Пыльные пятки, с парапета свисая,
чертят узоры на пляжном песочке сером.
Девушка встречи ждёт с благородным сэром,
чтобы приплыл, сложил мадригал без мата.
Школьницы сердце – что промокашка, смято
взрослой тоскою, в лифчике тесном парясь.
Щит «Кока-Кола» алеет вдали, как парус.
Нет в перспективе Грея, сплошь – гамадрилы…
Зря она, что ли, зону бикини брила?
Новый купальник купила… Не для него же —
персонажа с сизым тату на коже,
что, приближаясь шагом весьма ленивым,
ибо от шорт до кепки наполнен пивом,
плюхнется рядом, скинув смрадные сланцы.
Вряд ли о нем напишут в журнальном глянце.
Хоть бы скорей слинял, отвял, отцепился!
Лучше весь век одной проторчать у пирса,
библиотечную книжку в руках сминая,
где паруса трепещут, ревёт волна и
ткётся судьба – пусть лживая, но иная.
Ровесница
Вот ты идёшь, близоруко глаза прищурив.
Кажется, я знакома была с тобой.
Ноги твои в голубом венозном ажуре
шаркают мне навстречу по мостовой.
Мы ведь когда-то вместе стихи писали.
Впрочем, а кто их в детстве не сочинял?
Строчку оттуда припомнить можешь? Едва ли.
Ты закрываешь на ночь читальный зал
и – на метро. В авоське – пакет сосисок,
зонтик, очёчник, но-шпа и Пастернак.
Неисчерпаем книг классический список,
где ты пыталась выловить некий Знак.
Но, отразившись как-то лицом овечьим
в мутном, словно вчерашние щи, трюмо,
вдруг поняла, что больше заняться нечем,
и срифмовала жизнь не вполне bon mot.
Твой суицид завершился мелким поносом,
лишь на мгновенье склеила веки мгла.
Смерть наклонилась, душная, как опоссум,
дёрнула носом и стороной прошла.
Возобновилась жизнь в затяжном вояже
старым маршрутом: библиотека – дом
с очередною книгой – чужой… Твоя же
стынет в душе, как лужица подо льдом.
Антизолушка
Вялые гости, куда вы спешите с бала?
Температура счастья пока не спала,
шарики смеха под потолком не сдулись.
Что же вас тянет в тесные трубы улиц,
в чрево маршрутки – жёлтой железной тыквы.
Как семена, поедете там впритык вы
к дому, чтоб испытать расслабленье в теле,
будто бы ноги в мягкие тапки вдели…
Первым ушёл король, кивнув головою,
и за его улыбкою восковою,
словно приклеена, прошелестела свита.
Стихли шаги. Дрожит вино, недопито.
Зал обезлюдел, будто спустили воздух.
В грязных тарелках, как в разорённых гнёздах,
роются феи, со скатертей стирая
радужные объедки былого рая.
Рушатся пирамиды из карамели.
Пальцы в хрустальных туфельках онемели.
Вы мне финала сказки не показали,
Что ж так поспешно гасите свечи в зале?
…Если семь фей, как семь добровольных нянек
Выволокут меня наконец в предбанник,
Я потеряю туфли, мобильник, клипсы,
Чтоб до утра вы их сыскать не могли, псы!
Чтобы меня забыли, предавшись крику.
Спрячусь за шифоньер, заползу за фикус,
Хоть на минуту счастливый билет просрочу…
Просто осточертело мне бегать ночью!
Вольный стрелок
Выпала карта мне – карма – вольный стрелок.
Выстрел в десятку, прочие – в потолок,
веерный фейерверк, салют за победу!
Знает народ, что я – такой Робин Гуд,
только приеду, все враги убегут
(если, конечно, дождутся, когда приеду).
Из Комарово звонит пиит: «Беспредел!
Пансионат захвачен, лес поредел.
В сумрачной зоне писательских резерваций,
бесцеремонно вторгаясь в чужой уют,
С бейджиками секьюрити там снуют.
Нам остается интеллигентно плеваться
из-за забора – туда, где под кличкой Босс
бродит невразумительный альбинос —
торс недоношен, нос перекошен, пиджак несносен.
Офисный солитёр чернильных кровей
заслан сюда, чтоб сделать наш быт новей,
выстроить рай меж корабельных сосен.
Вольный стрелок бессилен, когда в прицел
самодовольный щурится имбецил —
заплесневел в глазницах кисель черничный.
Немы поэты, будто губы спеклись.
Нас затопила чиновничьей речи слизь,
в ней захлебнулся бунт наш косноязычный.
Царствуй, несостоявшийся нувориш!
Зданье разрушив, что взамен сотворишь?
Лоб твой покат, фантазия небогата.
Ты обречён в комарином краю тоски —
все одалиски с виски, все шашлыки,
все пикники утонут в борще заката.
Тандем
Вы так давно вдвоём, что портрет семейный
впору писать охрою или сиеной.
Краски поблекли, иллюзия износилась.
Так с разнотравья вы перешли на силос.
Сжата до строчки литературная нива.
Вы за чужой межой следите ревниво,
оголодавший дух надеждой питая —
вдруг прорастет там свежая запятая.
Творческий мезальянс обречён – он вечен.
Вечер. Ночник сочится желчью, как печень.
Ты зависаешь профилем остроносым
над эпопеей, пьесой, эссе, доносом.
Невдалеке супруги затылок пегий
зимним кустом дрожит над листом элегий.
Стынут анорексичные ручки-ветки —
эти обломки облика злой нимфетки,
что поджигала строчку, как шнур бикфордов,
смесью игривых рифм, нетвёрдых аккордов.
Хочешь спросить: «Где стиль, дорогая? Что ты
ныне таскаешь рифмы мои, как шпроты?
Снова две вилки сцепились в одной тарелке.
Наши размолвки, словно обмылки, мелки…»
Пьесу в четыре руки разыграем рядом.
Мы над листом, над Кастальским ключом, над кладом
роем вдвоём. О лопату звенит лопата
неповторимой музыкой плагиата.
* * *
Смолоду бледность к челу твоему пристала.
Не оттого ли яркая жизнь влекла?
Ты разбивала радугу на кристаллы
и замирала, слушая дрожь стекла.
Лопался в небе солнца рыжий физалис,
ливни плескались, вспыхивала трава,
краски взрывались, блики в глаза вонзались,
буквы связались вдруг в кружева-слова.
Это не стих, плывущий над залом сонным,
это – мираж, впечатанный в полотно.
Публика сметена, как песок – муссоном.
Лица слились в одно сплошное пятно.
Не обольщаясь слухом недостоверным,
будто избыток зоркости – это зло,
каждый поклонник хочет стать Олоферном,
чтоб откровенье головы им снесло,
словно их просканировали рентгеном
или прооперировали насквозь
вечным пером и на витраже Вселенной
несовершенным, тленным место нашлось.
И подмигнёт со сцены высокомерно,
чуть искривив гранит ледяных ланит,
кариатида северного модерна,
та, что в стихах и красках вас сохранит.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.