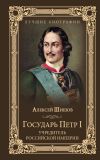Текст книги "Игры на свежем воздухе"

Автор книги: Павел Крусанов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Жизнь – игра. Игроков – без малого восемь миллиардов. Какие у тебя шансы? Пётр Алексеевич вполне отдавал себе отчёт относительно этих призрачных шансов и тем не менее, возвращаясь с охоты, часто чувствовал себя победителем. Почему? Этот вопрос он задавал себе в скептическую минуту и сам на него отвечал: «Потому что так устроен мир и так устроен человек: он должен верить в свою удачу и свою избранность. Ему нужна эта сказка – таково условие его примирения с бездонным ужасом бытия. Рыбка посуху не ходит – без воды не может жить…»
Вернувшись в приподнятом настроении, едва не триумфатором, в Прусы, Пётр Алексеевич не стал ощипывать глухаря. Во-первых, он хотел похвастать трофеем – мошник был велик и краснобров – перед Пал Палычем, а во-вторых, он сам ещё не решил: закатить ли в Петербурге пирушку с дичью или отдать птицу чучельнику, благо среди знакомых у него был такой – работал в Университете Герцена, при музее на кафедре зоологии. Кафедру возглавлял давний друг Петра Алексеевича – профессор Цукатов. Он говорил, что чучельник угрюм и своенравен, – ну так что ж? Если угрюмый умелец не возьмётся сам, то всяко присоветует подходящего мастера.
Ещё раз полюбовавшись добычей, лежащей в багажнике на расстеленном полиэтилене, Пётр Алексеевич увидел на груди глухаря кровь и решил отмыть перья, чтобы птица в момент предъявления Пал Палычу предстала во всей красе. Налив в ковш воды из баклажки, он положил уже остывшего и сделавшегося твёрдым мошника на уличную скамью и принялся обмывать ему антрацитовую, с изумрудным отливом, грудь. Однако перья, намокнув, слиплись, как-то жалко подвернулись и сразу потеряли нарядный вид. Пока лесной здоровяк окончательно не превратился в мокрую курицу, Пётр Алексеевич оставил глухаря в покое, бросив костенеющую тушку обратно в багажник.
Проспав до десяти, он протопил печь, заварил чай, позавтракал крутым яйцом и бутербродом с грудинкой, после чего, несмотря на лёгкую хмурь в голове, которая всегда случалась с ним, если сбивался сон (а нынче он был сбит по всем статьям), отправился в Новоржев.
Пал Палыч возился возле видавшего виды трактора «Беларусь», доставшегося ему в былинные времена от совхоза в обмен на стройматериалы (перед возведением собственного дома разобрал барак – половину от разобранного и отдал за списанный трактор) и с тех пор стоявшего возле крольчатника на хозяйственном дворе. Раньше Пал Палыч часто пользовался им в домашних нуждах – привезти кирпич, шифер, дрова, сено скотине, ещё какое дело, – однако последние годы «Беларусь» ржавела без движения, а хозяин обходился автомобильным прицепом.
– Вот, – объяснил Пал Палыч, – хочу запустить жалезяку. Сети снимать надо. Думаю, на Сялецкое в объезд поста – через Волчицкое, Приветок и Подлужье – выйти. Там тяперь только на тракторе можно. Иначе никак. – Он вытер замасленную пятерню о штанину и протянул её Петру Алексеевичу. – Рыбы будет на копейку, а соляры сожрёт… Идите в дом, я сейчас…
На кухне, производя какие-то манипуляции с зеленеющей на подоконниках в горшочках из-под йогурта рассадой, хлопотала хозяйка. Над её головой, под потолком, из года в год всё разрастаясь и разрастаясь, полз по натянутым струнам разморённый негой печного тепла тропический плющ.
– Здрасьте, Пётр Ляксеич, – радушно улыбнулась Нина. – А мой на дворе колупается. С ржавым своим корытом. Великий зверь на малые дела. С утра самого, только из мерлога вылез, всё сидел, как облуневши, как пыльным мяшком ударевши: по хозяйству – ни палец о палец, всё думу думал. Тяперь ему вожжа под хвост…
Пётр Алексеевич поздоровался с Ниной, сообщил, что видел Пал Палыча и тот отправил его в дом, после чего обходительно поинтересовался самочувствием хозяйки и текущим положением её дел.
– А какие дела? – бойко откликнулась та и тут же радостно поделилась событием: – Айфончик мой барыню опознаёт по отпечатку пальца, а я вчера весь день копалась во дворе с цвятам – ня заметила, как разрядился. Вечером поставила на зарядку, подношу палец, чтобы ожил, а он, хоть руки и мытые, после зямли-то отпечаток ня узнаёт, бранится: мол, что за девка-чарнавка меня лапает… Хорошо, к паролю был ещё приучен, ня то совсем бы запанел.
– А что такое мерлог? – спросил Пётр Алексеевич.
– Это берлога по-нашему. – Нина порыхлила спичкой землю вокруг зелёного ростка. – Лежанка у него за печкой такая узкая – я её мерлогом зову. Лежит там на кирпичах, как мумия. Пледом спеленает себя сверху-снизу, только нос торчит – мумия.
В дом шумно зашёл Пал Палыч и, сбросив в прихожей на половичке сапоги, отправился мыть руки.
– Что вас спросить хотел… – Пётр Алексеевич повернулся к появившемуся в кухне Пал Палычу. – Возле кормушек и овсов, где кабанов бьют с вышек, часто вижу обрубленные рыла. Иные с клыками. Зачем так?
– А скажу. – Пал Палыч деловито осмотрелся и включил электрический чайник. – Когда кабана стреляют, головý бярут на холодец. А пятак выбрасывают. Потому что в холодец он ня идёт. Им ня надо этот пятак – вся челюсть эта ня нужна. Будешь варить – зачем она? Голова на холодец, и шею прихватывают – это да, это дело. Светлый холодец выходит, ня жирный… Вкуснятина. – Пал Палыч поставил на стол чашки и жестом предложил Петру Алексеевичу садиться. – Вот погодите – угощу. У меня в морозильной, – он кивнул на отдельную морозильную камеру, стоящую рядом с холодильником, – лежит голова прошлогодишника. Лучше, чем с кабана головы и с сома головы, нет холодца.
– Кухарь, – добродушно съязвила Нина.
– Ухарь, – в тон и в рифму откликнулся Пал Палыч.
– Ёперный театр! – энергично пыхнула хозяйка. – Первый парень на деревне, а в деревне три двора! С лешего вырос, а ума-то ня вынес! – И, бережно держа в руках два горшочка с рассадой, выскользнула за дверь.
– Что, из рыбы тоже холодец варите? – поинтересовался Пётр Алексеевич.
– Из сома. Из головы его.
– Это как заливное, что ли?
– Да, желе и из головы рыбье мясо. Есть в голове кусочки… – Пал Палыч ополоснул заварной чайник и насыпал из пачки чёрный лист. – Нам в том году дали от сома головý. Тридцать пять килограмм был сом. На живца поймали, вытащили и забили. Под Бежаницами в заповеднике есть глухие озёра и там – сомы. Огромные бывают… – Пал Палыч вздохнул. – Что говорить, хорошо живём. У нас только денег ня хватает, а так-то мы как у Христа на пазухой: рыба есть, мясо есть. Мы ж в природе, Пётр Ляксеич… А тут надо аккуратно – лишний раз словца плохого ня загни. Ня то в уши Богу надуешь, а Тот и обидится, осерчает: «Ты – свинья, – скажет. – Тябе всё дадено, а что денег нет, так зачем тябе деньги – деньги от Сатаны». Так бы вот надо. А то все сейчас угнятённые, нет улыбок – всем недовольны. А мне приятно, когда улыбаются… – Хозяин замолчал, снял с подставки закипевший чайник и налил кипяток в заварник. – Я деньги ня прижимаю. Или чтоб на сторонý куда… Всё здесь. Нина знает, где деньги лежат. Те, которые я отдельно заработал. Пенсию мою она получает, я к этому даже ня лезу, а что я работаю на стороне, то я кладу вот сюда, – Пал Палыч мягко хлопнул ладонью по столу, – и она это всё знает. И заначки нет. Мои деньги – вот. Если мне надо что, запчасти, там, бензин, я бяру. А заначка зачем? По сёстры ходить – так у меня нету. Для чего заначка?
«По сёстры, – освежил Пётр Алексеевич в памяти словарь местных фразиологизмов, – это значит к любовнице». После чего подумал, что деньги – извечная русская нехватка. Не прирастает в русской земле капитал, не лезет из квашни тестом – как в кошель ни сунешься: купи́шь уехал в Париж, а тут остался шиш. Так испокон века русский «купишь» и бегает на сторону, «по сёстры»: раньше – в Париж, теперь – в Лондон и офшоры. Не в свои сёла и малые города и даже не в свои столицы – на Каймановы острова, на Кипр, в Панаму, к чёрту на кулички. А здесь… Здесь светло и просторно, пусто и скудно – зияет земля, не обрастает достатком. Только заведётся капитал – вымывает его отсюда, как навоз из авгиевых конюшен.
– Если про жизнь… – задумался Пал Палыч. – А что в этой жизни? Мы самые счастливые люди. Мы просто счастье это ня видим.
– Думаю, видим, – почесал нос Пётр Алексеевич. – Просто как счастье не распознаём.
– Во! Люблю – правильно! – воодушевился хозяин. – А я распознаю. Вчера Нине выговаривал, что тяжести поднимает: вядро с водой носит, то-сё… У ней клапан в сердце шалит, на операцию записали по квоте – врач тяжести запретил. А потом, вечером, лежу – думаю: «Паш, ты ж дурак. Она крестьянка – ей заложено работать. И ня зависимо от здоровья». Понимаете? Пока она шавелится, она будет работать. Зачем её ругать? Нам расположение природное дано – работать. И в этом счастье. Мне – по кустам шастать, ей… Посадила цветок, пошла листья подграбила, повыдергала траву – вот в этом и есть её счастье. Потому что она крестьянка и радость её жизни – работа. Там не важно: цветы, поросёнок, кролики, чатыре этих кота бомжовых приручила, надо накормить… В этом и есть счастье, в этом и есть жизнь, её продолжение. Думаю: «Паш, а чего ты её ругаешь, что она пошла в бочке вядро воды взяла, хотя ей врачам ня велено? Пусть как есть. Это её жизнь. И ты так же живёшь». Ня надо Нину ругать, пусть работает, сколько может. И сам работай, сколько можешь. А там – как Бог пошлёт.
– А есть у вас, Пал Палыч, в морозильной камере свободное местечко? – не утерпев, развернул разговор к делу Пётр Алексеевич.
– Найдётся. – Хозяин сверкнул любопытным глазом. – А вам зачем?
– Да у меня в холодильнике морозилочка такая, что едва пару уток впихнёшь. А тут глухарь…
Пал Палыч недоверчиво моргнул:
– Вы что же, глухаря взяли? Сами? Ай, молодец! Дело! Люблю!
– Хочу чучело заказать. Надо бы до отъезда в холодок…
– Разместим, Пётр Ляксеич, нет вопросов. Одного взяли?
– Я с вас пример беру: охотиться без перестрела, без вреда природе.
– Да какой от вас вред… – Пал Палыч махнул рукой. – На охоте последнее дело добычу в лесу оставить по недострелу. Это – да. Подранка упустить, ня добить или ещё что… Утка раненая в траву ушла, гусь упал в болотý и затаился… Глухарь другой раз бывает, если его пяред слётом бьёшь или вовсе влёт, на крыле планирует и далеко уходит. А как упадёт, сунется в кочку или под куст – только хвост наружу. Тут надо по выбитому пяру смотреть, куда его понесло… На зямле пяро-то. Ищи – сбил, надо трофей найти.
– Мой – камнем под ноги, – лаконично похвастал Пётр Алексеевич.
– Другое дело, если дал промах и мошник слятел, – продолжил Пал Палыч, словно бы не слыша гостя. – Тут, как говорится, начинай сначала. Тихонько посиди, сердчишко успокой, послушай песню и ступай к другому. Со вторым бывает, что уж светает – тогда подход осторожный, укрываться надо за деревам. И то близко подойти ня получится – копалухи тебя видят и давай квохтать…
Налив в чашки чай, Пал Палыч выставил из шкафчика на середину стола плошку с мёдом и корзинку с печеньем.
– Если ещё что надо – скажите. – Пал Палыч нарéзал свежий батон. – А то есть кому без колбасы и чай – ня чай. Как внуки́ мои. – И быстро добавил: – Я ня в осуждение, сам такой – что ни дай, всё срублю.
Пётр Алексеевич покрутил головой, дескать, довольно, однако на стол уже выставлялось масло, сало, домашний рулет из брюшины…
Допили чай, договорили речи. Заглянув в морозильную камеру (ревизия пространства), Пал Палыч взял большой полиэтиленовый мешок и с Петром Алексеевичем отправился за глухарём.
На высоком крыльце вились, подобострастно обтирая пушистыми боками хозяину и гостю штаны, четыре разномастные кошки.
– Развела зверинец… – привычно посетовал Пал Палыч и наподдал ногой особенно усердной – остальные тут же прыснули врассыпную.
В полуденном апрельском небе висело слепящее солнце. Не верилось, что вчера ещё хмурые выси метали на землю снег. При такой погоде – день-другой и сядут на гнёзда аисты.
Подошли к машине. Едва Пётр Алексеевич успел открыть багажник, как оттуда вихрем вырвался и больно ударил его в лоб чёрный ужас. Зажмурившись, Пётр Алексеевич услышал тяжёлое хлопанье крыльев, а когда, потирая чело, открыл глаза, то увидел Пал Палыча, который, слегка присев, смотрел вслед грузно летящей над самой землёй птице. Ещё мгновение, и она скрылась за соседскими сараями.
Пал Палыч обернулся и посмотрел на гостя озадаченно:
– Так вы ж его ня дострелили…
Какое! Чёрта с два! Пётр Алексеевич знал, как выглядит смерть. Он держал тёплого глухаря в руках в предрассветном лесу. Он отмывал ему, уже остывшему и начинающему коченеть, перо от крови. Петух был мёртв. Бесповоротно. Окончательно. Так мёртв, как зима, как чугунок, как камень.
«Животворный!» – сверкнула мысль.
На западном небосклоне появилась и пошла в сторону Острова вереница из трёх вертолётов. Пётр Алексеевич задрал голову – залитые солнцем небеса гудели, словно цветущая липа, полная шмелей и пчёл.
13. Пастораль
Тетёрка была из прошлогоднего выводка и дурман весны ощутила впервые.
Зима выдалась малоснежной; хорошо, обошлось без жгучих ветров и трескучих морозов, так что искать защиту от стужи под снегом, в лунке, не было нужды, – если не стыли лапы, ночевать можно было на деревьях, а чтобы схорониться, хватало сухотравья, моховых кочек и гущины подлеска. Совсем не то одевшимся на зиму в белое зайцам и горностаям, им – беда. Где спрячешься в лесу? Теперь ждать холодов уже не приходилось. И пусть на заре землю иной раз обсыпала изморозь, породивший её утренник казался свежим, бодрящим, не злым – поднимется солнце, и иней, смочив травы, мхи, зелёный круглый год брусничный лист и бурый багульник, сойдёт, воздух в лесу прогреется и остатки ноздреватых снежных намётов поплывут и подожмутся.
Этим утром, как минувшим, и как тем, что было перед минувшим, рябуха чувствовала в груди неясное томление и беспричинный трепет. Словно весна пробудила внутри её незнакомое существо, которое хотело чего-то, о чём сама тетёрка не имела ни малейшего понятия, – это существо металось, звало в полёт, на поиски того неведомого, но влекущего, что волновало, пугало и манило одновременно. Совсем недавно, ещё несколько дней назад, когда солнце только начало прогревать выходящий из зимней дрёмы лес, когда чуть зарозовели молодые берёзовые ветви, внявшие гудению сока в стволах, когда только-только запахло влажной пробуждающейся землёй и стали набухать на лозе почки – она с полным безразличием слушала нерешительное бормотание косачей, рассаживающихся в голых кронах берёз и на вершинах молодых сосенок. Но внезапно всё изменилось. Теперь её неодолимо тянуло к заветной поляне, на старую вырубку у просеки, густо затянутую молодым лесом. Там по утрам и вечерам голосили краснобровые красавцы-петухи – бормотали, чуфыкали и заводили свои драчливые игрища, хлопая крыльями, распуская чёрные с белым исподом хвосты, подпрыгивая от возбуждения и выщипывая друг у друга перья.
Ещё не рассвело, а рябуха, очнувшаяся от непрочного сна и охваченная непонятным беспокойством, встрепенулась, прислушалась к предутренним звукам весеннего леса и, слетев с берёзы, на которой провела ночь, отправилась перебежками к месту косачиных игрищ. По пути в молодом осиннике невзначай наскочила на двух бурых в чёрных и бежеватых пестринах птиц с забавными длинными клювами – те резво отскочили от неё под куст ивняка. Неясно, точно сквозь сон, припомнилось рябухе, как ранней осенью, ещё тетеревёнком, она повстречала таких же птиц на полевой дороге, где те выискивали и глотали камешки. Тогда они показались ей большими и опасными, а теперь – маленькими и совсем не страшными: потешные длинноносые фитюльки.
Миновав осинник, усыпанный прелой листвой с белеющими тут и там пятнами грязноватого снега, тетёрка вспорхнула и полетела к поляне, откуда, далеко раскатываясь по предрассветному лесу, уже раздавалась призывная курлыкающая песня.
Гульбище косачей заворожило рябуху. Сев на берёзу, она, не в силах отвести взгляд, наблюдала, как иссиня-чёрные петухи ходили по поляне кругами, подскакивали и оглашали окрестности раскатистым бормотанием. Грациозные щёголи, одурманенные весной и распалённые любовью, волочили опущенные крылья по земле, расправляли хвосты с гнутыми боковыми косами, обнажая белоснежное подхвостье, надували друг перед другом переливчатые зобы, вытягивали над землёй шеи, чуфыкали и, выбрав соперника, в неистовстве, наскоком, сходились в драке. Тогда над поляной раздавались удары крыльев и летело в стороны выбитое перо.
Спорхнула вниз с близстоящих деревьев и пара тетёрок-старок – на поляне послышалось их озабоченное клохтание. Того только, казалось, петухи и ждали: как по команде вошли в ещё больший раж – танцы разыгрались с новой силой, голоса стали громче, далеко по лесу покатились округлые булькающие песни, разбиваемые то звонким ку-каррр, то глуховатым чуф-фышшш. В какой-то миг рябуха не усидела на ветке – пробудившееся в ней беспокойное существо толкнуло её туда, на поляну, к красующимся голосистым задирам. Расправив крылья, она вслед за старками слетела на ток.
Крупный краснобровый косач, кружась, гарцуя, расчёсывая жухлую траву чёрными с белыми зеркальцами крыльями, тут же поспешил к рябухе – поворачивал в танце к избраннице то один, то другой бок и во всю ширь распускал угольный с завитыми краями хвост. Поначалу оторопев от столь горячей встречи, молодая тетёрка затаила дыхание, но косач был настойчив, кружил и кружил, не унимаясь, ворожа, наводя танцем неотразимые чары… И она не устояла: дрогнув, сердце её заколотилось, и рябуха торопливо, с оглядкой, повела петуха за собой, в гущину зарастающей вырубки. Там и подпустила жениха, ненадолго утолив разбуженную весной, расцветшую, будто пламенный цветок, всепобеждающую жажду.
Ещё не один раз тетёрка прилетала на ток – и на другой день, и на третий, по утрам и вечерам, – обмерев, не могла отвести глаз от косачиных игрищ, потом слетала на поляну и уходила с гарцующим красавцем в заросли.
Неподалёку, на краю вырубки и старого леса, в завале прошлогодней травы под упавшей сосной она соорудила гнездо, выстелив его листьями, мхом и веточками, куда откладывала бледно-палевые в бурых конопатинах яйца. После восьмого яйца рябуха перестала летать на поляну. Томление внутри её улеглось, охота ушла: петушиные песни больше не откликались в груди горячим трепетом, неодолимое желание остыло. Теперь гнездо, где она села высиживать яйца, стало её неусыпной заботой.
* * *
Пётр Алексеевич рассказывал, профессор с улыбкой, выражавшей снисходительное понимание, внимал. Речь шла о лягушечьей коже – о несостоявшейся студенческой любви, историю которой в припадке не то душевного покаяния, не то ностальгической грёзы поведал Петру Алексеевичу этой весной Пал Палыч. То есть состоявшейся любви – конечно состоявшейся, но как-то неказисто свернутой в испуге, не укоренившейся, отчего она бесцельно и безрадостно увяла, не дав ни цвета, ни плодов. Впрочем, если бы всё повернулось иначе, если бы не развела голубков судьба, сыграв на юношеском малодушии, в разные стороны, если бы все эти годы они прожили вместе горько и счастливо, как на земле заведено, – если бы так случилось, разве держал бы в памяти Пал Палыч всю свою оставшуюся жизнь этот образ – девчонку, полночи проплакавшую сладкими слезами у него на груди? Нет, не держал. Затмили бы его последующие утехи, горести и ссоры – пыль жизни, без которой нет ни мирской печали, ни мирского благоденствия, как бы ни походили наши дни на радости седьмого неба. А помнил бы он в этом случае другую – Нину, с которой и разделил в итоге ношу трудов и дней… То есть ту, юную Нину помнил, какой её оставил, если бы предпочёл ей студентку, обмокрившую ему рубашку…
– Не нам судить, – сказал Цукатов.
– Порой мне кажется, что у тебя на месте сердца – жаба, – с дружеской непринуждённостью заметил Пётр Алексеевич. – Кто судит? Понять хочу. Случались ведь и с нами безумства страсти и другие помешательства. Вспомни университет – гульбища в общаге, летняя практика на биостанции… Что, интрижек не случалось? Да сколько хочешь. Всех не перечесть.
– Одно – там, другое дело – здесь. – Взгляд профессора потеплел от нахлынувших воспоминаний. – В провинции нравы всегда были строже.
– Что-то не верится. Ну, если и строже, то разве только напоказ – Тартюфам переводу нет. Природа, брат, на всех одна и принуждения не терпит.
Пётр Алексеевич и профессор Цукатов, распаренные, влажные от воды и выгнанного пота, сидели в предбаннике с кружками кваса в руках. Позади были три захода в парилку с берёзовыми вениками – после каждого, дымясь, бегали к речке, на берегу которой стояла баня, и с фырканьем бултыхались в водяной струе под ивовым кустом, в специально выгороженной валунами купели. Полина, не мудрствуя, называла эту речную ванну джакузи. Середина августа, завтра открывается охота. Сегодняшний день был праздным.
Поднявшись с места, Пётр Алексеевич заглянул в дверцу банной печи и подбросил в топку три полена. Профессор воспользовался моментом – поставив кружку на стол, растянулся на лавке во всю её длину. Пётр Алексеевич сел на соседнюю.
– Давай и мы не будем лицедействовать – играть в Тартюфов, – предложил он. – Давай-ка посверкаем стекляшками души.
– Давай, – согласился Цукатов.
– За себя честно скажу, при встрече с каждой красоткой я помимо воли тут же представляю её в постели: запрокинутая голова, растёкшиеся на две стороны груди, сбитое дыхание, счастливое страдание на лице… При этом, как ты знаешь, я не сатир. Видения возникают сами собой, вполне невинно – это такой бодрый знак приветствия представительницам противоположного пола, своего рода галантный комплимент воображения. – Пётр Алексеевич преувеличивал, завышал градус, но, по существу, не лгал. – И это нормально.
– Нормально, – подтвердил Цукатов. – Если ты не меньшевик по этой части.
– Оставь… В любой традиции, куда ни плюнь, безбрачное и бездетное существование расценивается как бесцельное. Любовь – пружина механизма живой природы, если угодно, условие её существования. Ты же биолог… Она – коренной зачин всего на свете. Ещё Гесиод говорил: мол, раньше всех, и смертных, и бессмертных, родился Эрос, бог юнейший и старейший. – Пётр Алексеевич сыпал слова без запинки, словно щёлкал семечки. – И если б только греки… Читаешь «Старшую Эдду» – и нá тебе: шестнадцатое заклинание Одина помогает соблазнять дев – овладевать их чистыми душами и покорять их помыслы, а семнадцатое окутывает девичью душу как паутиной. Или такое наставление: никого не осуждайте за любовь – даже мудрого она ловит в сети, и тот из-за красотки впадает в безрассудство. Это предводитель асов нас поучает, знаток священных рун и хозяин вечного пира в Валгалле.
Порой Пётр Алексеевич в совсем не подобающих случаю обстоятельствах вдруг начинал вещать как по писаному, будто вместо производственной летучки в кругу технологов и печатников очутился на затейливом симпозиуме, где приветствовалась подвижность ума, а слушатель был тонок и внимателен.
– Греки, – заметил лежащий на лавке профессор, – большие были шалуны. Сапфо вон как Лесбос прославила…
– Да, – Пётр Алексеевич обтёр полотенцем лицо, – шалуны… Эллины принимали любовь в любых видах, не допуская лишь принуждения и насилия. Ну и резвились соответственно.
– Весь их Олимп, – обозначил Цукатов знакомство с предметом, – что Зевс с Ганимедом, что Аполлон с Гиацинтом… Не обитель богов, а грязевой вулкан какой-то, лопнувшая фанина: только шагнул – сразу вляпался.
– Для греков любовь была условием стремления к красоте, благу и бессмертию. – Пётр Алексеевич воздел очи к банному потолку. – Ведь редко так бывает, чтобы… невинность соблюсти и капитал приобрести. У Платона любовь начинается с отдельного явления прекрасного и понемногу, словно по ступеням, поднимается вверх, преображаясь в созерцание вечного – того, что не возникает и не исчезает, не возрастает и не умаляется, что прекрасно в каждой мелочи и не имеет червоточины.
– Но на Руси той – с шалостями – Греции не знали. – Профессор словно продолжал разговор с самим собой, не принимая во внимание фоновый шум в виде мудрствующего Петра Алексеевича. – На Руси знали христианский Царьград и Софию – премудрость Божию.
– Так ведь не на колене голом встал Царьград! Эти платоновские ступени любви в христианстве становятся лествицей восхождения к небу. Бог есть любовь – аксиома. Однако Максим Исповедник уточняет: Бог – это всех объединяющий Эрос, который имеет естественные формы преображения – от Эроса физического и душевного к Эросу умственному и ангельскому.
– Когда б вы знали, из какого сора… – лениво продекламировал Цукатов.
– В точку.
Было время, Пётр Алексеевич превыше всего ценил книжное знание – копил его и упивался им. Оно вызывало в нём смешанные чувства почтения и удивления, какие дарит прекрасно сделанная, но вместе с тем хрупкая, эфемерная вещь – что-то вроде китайских резных шаров, невозможным образом вставленных один в другой. С годами восторг поугас, однако чтение вошло у Петра Алексеевича в привычку, кое-что из прочитанного крепко засело в памяти и теперь, немалое время спустя, не вызывая ни обольщения, ни радостного ободрения, позволяло при случае поддерживать беседу.
– Бог не может быть творцом зла, – хлебнул из кружки кваса Пётр Алексеевич. – Как зло есть несовершенное добро, так и насилие есть несовершенная любовь. Поэтому всевластие любви должно направляться не на отрицание, а на чудесное преображение несовершенного в совершенное, на восхождение вверх по этой вот сияющей лествице – от физического к ангельскому.
– Православный дарвинизм какой-то, – заложил руки за голову профессор.
– Жаль, – продолжал Пётр Алексеевич, – что победившее христианство зачастую отказывается жить на таких скоростях, которые одолевают тяготение земли, и проповедует не великую возможность преображения Эроса, а суровый морализм, исключающий радость любви и изгоняющий веселый Эрос, как анчутку, из святого храма.
– Гладко чешешь, – похвалил Цукатов. – Я даже позабыл, при чём тут лягушечья кожа.
Рожки вешалки, на которую устремил рассеянный взгляд Пётр Алексеевич, были увенчаны деревянными шариками и походили на пугливые рожки улиток: прикоснись к ним – и они спрячутся, втянутся без следа в осиновую массу стены.
– Я, кажется, и сам забыл. – Пётр Алексеевич потёр влажный лоб. – Там речь шла про два царства: наше, повседневное, и тридесятое, построенное на мечтах, – которые оба нужны человеку…
– Заметь, – профессор перевернулся на живот, – ты, чёрт дери, сам свидетельствуешь в пользу моих слов. Ну, про строгость нравов старозаветной глубинки, куда растленность образованных столиц доходит не так скоро.
– Но зачем этот морализм? В святоотеческом предании Бог – запредельный источник всякой любви. И эта общая для всех любовь простирается к каждому из нас наиболее соответствующим для него образом. Соображаешь?
– Ещё как, – заверил профессор. – У всякого свой вкус и своя манера: кто любит арбуз, а кто офицера.
– Может, иной раз и неказисто простирается, – не стал спорить Пётр Алексеевич, – но при этом сохраняет возможность перерождения в более совершенную форму. Если бы хоть какой-то из ликов Эроса изначально был порицаем церковью, то как «Песнь Песней» могла бы оказаться в каноне священных книг?
– О каком суровом морализме ты говоришь? Не возжелай жены ближнего – об этом, что ли? – Цукатов почесал крепкую ягодицу. – В конце концов, церковь освящает и брак, и материнство.
– Это само собой, – живо кивнул Пётр Алексеевич. – Я о другой суровости. Вот ты говорил, что на Руси не знали той Греции – с шалостями…
– Куда нам. Они, на Олимп глядя, обезьянничали, а наши лешие с кикиморами против олимпийцев – чисто младенцы. Никакой перверсии.
– Так нет же, знали! – Глаза Петра Алексеевича взблеснули. – Всё знали. Сами себе были – Олимп. В старых русских требниках закреплены на диво жёсткие правила альковных отношений. Там рассмотрены все тёмные закоулки порока, как естественного, так и противоестественного, с множеством неприглядных подробностей, будто в декалоге и нет ничего, кроме седьмой заповеди.
Профессор с улыбкой, выражавшей неодолимый скепсис, молчал.
– Было время, в нашей типографии по заказу епархии печатались репринты богослужебной и святоотеческой литературы. Так вот, видел я репринт требника Чудова монастыря – между прочим, четырнадцатый век! – где, в частности, перечислялись обязательные вопросы, которые задаются женщинам на тайной исповеди. Боже мой, в какие бездны окаянства приходилось исповеднику заглядывать! Как дошла до греха – с законным мужем или блудом? Целуя, язык заталкивала в рот? А на подругу возлазила или подруга на тебе творила, как с мужем, грех? А сзади со своим мужем? Сама рукою в своё лоно пестом, вощаным сосудом или чем тыкала? Соромные уды лобызала? Скверны семенные откушала? Вот так буквально, этими словами… Представляешь! С таким же пристрастием опрашивались и мужчины. За каждое отступление от законов естества полагалось два года сухоядения или год поста.
– И правильно. – Цукатов сел на лавку. – Я бы ещё плетей добавил. Пошли-ка поддадим парку.
– А договаривались Тартюфа не включать… – махнул рукой Пётр Алексеевич.
Прихватив замоченные веники, зашли в парную. Профессор плеснул из ковша на зашипевшую каменку и нагнал такого пару, что через миг ноздри им словно опалило пламя.
Вечером приехал Пал Палыч смотреть пчёл. На днях надо было качать мёд – тянуть дальше некуда, Медовый Спас отгуляли ещё на той неделе. Переходя от улья к улью, Пал Палыч снимал с домиков крышки, доставал рамки из магазинов, изучал сквозь сетку, ставил на место; Ника, сестра Полины, тоже в широкополой шляпе с сеткой, окуривала пчёл дымарём.
Закончив осмотр, Пал Палыч вознамерился тут же уехать, однако Пётр Алексеевич с Полиной уговорили его остаться на ужин.
– В шасти домиках можно хорошо мёда взять, – сообщил Пал Палыч за столом. – А в двух пустые магазины – только на зиму сябе натаскали.
– Сколько дадут, столько и дадут – не пропадём. С прошлых качек ещё всем по ведру стоит. – Александр Семёнович, отец Полины и Ники, не бился за образцовое хозяйство, просто радовался окружающей его жизни, не переставая в свои годы удивляться тому, что трава – зелёная, облака – невообразимые, кошка – подлиза, а люди – такие разные: бывают из чистой стали, а бывают этастранцы.
– Пал Палыч, почему у вас тарелка пустая? – следила за трапезой Полина. – Положить ещё мяса?
– Ня надо. Я рыбинку возьму, – Пал Палыч подцепил вилкой ломтик малосольной сёмги, – мне рыбинка понравилась.
– Всё на старой своей ездишь? Забыл, как ей название… – Александр Семёнович, пустив по пергаментному лицу весёлые лучики морщин, хлопнул гостя по плечу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.