Текст книги "Многобукаф. Книга для (сборник)"
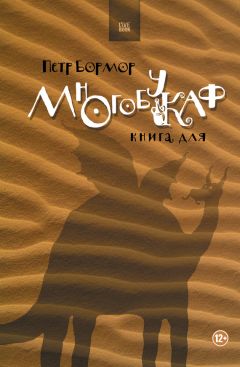
Автор книги: Петр Бормор
Жанр: Юмористическая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
– Написать, что вы своей рукой убили три тысячи неверных? – осторожно предложил Летописец. Король подумал и отрицательно мотнул головой.
– Нет. Не поверят. Надо что-то такое… необычное. Экстравагантное.
– Вроде купания голышом в проруби?
– Вроде того… Кстати, это тоже напиши: что король Георг Тридесятый, мол, имел обыкновение купаться в проруби зимой. Знай наших! А, вот, придумал. Когда казне понадобились деньги, я ввел налог на длинные фамилии. Отсюда, мол, пошло выражение «длинный – рубль!» Запоминающийся факт?
– Да, – согласился летописец.
– Хорошо. Дай-ка сюда перо!
Король быстро записал в календаре «ввести новый налог на фамилии» и вернул перо летописцу.
– Теперь упомяни вскользь, что у меня было десять жен, а не две. И что мою мать звали не Селена, а Сирена. Это внесет некоторую сумятицу в умы историков и заставит относиться к документу с уважением. Чем черт не шутит, может, и правда докажут, что у меня было десять жен…
– А детей?
– Хм… сын у меня один. Напиши, что есть еще два внебрачных. Тем более что они действительно есть. Я не хочу направлять историю по линейному пути.
– Но ведь может получиться смута!
– Смута и так будет, без них не обходится. Зато там будет звучать мое имя.
– О-о… тогда конечно, – перо снова заскрипело по пергаменту.
– Ну что, все готово? Прочти, что получилось.
Летописец зачитал текст документа; король внес несколько мелких поправок.
– Ну вот и хорошо. Сверни этот пергамент в трубочку и спрячь хорошенько где-нибудь в архивах. Но так, чтобы его непременно нашли через пару сотен лет.
– Будет сделано.
– И пригласи ко мне следующего. Портретист уже два часа ждет аудиенции.

Галатея вгляделась в зеркало и страдальчески застонала.
– Что случилось? – встревожился Пигмалион.
– У меня целлюлит! – убитым голосом сообщила Галатея.
– Чушь. У тебя не может быть целлюлита.
– Ах, чушь?! – Галатея резко обернулась к Пигмалиону и уперла руки в бока. – Значит, я, по-твоему, говорю чушь?!
– Нет. Целлюлит – это чушь. У тебя его нет.
– А я говорю, есть! Вот, смотри!
– Зачем мне смотреть, если я и так знаю, что его там нет?
– Значит, тебе уже и смотреть на меня противно? – голос Галатеи задрожал не то от подавленных рыданий, не то от гнева.
– Наоборот, – сдержанно возразил Пигмалион. – На тебя очень приятно смотреть. Ты дивно хороша.
– Нет, я уродлива! – топнула ногой Галатея.
– Ты просто самокритична. А на самом деле… Ну ты же знаешь, что я изваял тебя настолько прекрасной, что сам влюбился.
– Это потому что у тебя дурной вкус, – отрезала Галатея. – Не заговаривай мне зубы.
– Но, милая…
– Ты просто пытаешься оправдаться. У меня целлюлит, и это твоя, твоя работа!
– Милая, поверь мне…
– Не поверю! Я верю только своим глазам! Вот, вот, смотри, складочка. А вот еще одна! Ой, и еще! И это все из-за тебя, изверг!
Галатея зарыдала.
– Милая, – попытался успокоить ее Пигмалион. – Я уверяю тебя, ты безупречна! Мне ли это не знать?
– Тебе, тебе! Да! О боги, ну почему меня изваял не великий Фидий, а какое-то безвестное ничтожество?
– Ну, знаешь ли… – начал Пигмалион, но Галатея жестом велела ему замолчать.
– Не оправдывайся, бракодел! Вот, сюда посмотри.
– Ну?
– Что ну? Что это, по-твоему?
– Нога. Эээ… лодыжка.
– Это лодыжка?! Это ножка от кровати, вот что это такое! Это коровье копыто! Толстое и кривое.
– Не наговаривай на себя. У тебя изумительные ножки…
– А грудь? Где ты видел такую грудь?
– В мечтах.
– А талия? Где у меня талия?
– Вот тут…
– Убери руки! Ай! Я кому говорю, убери… Пусти, не смей!
На целую благословенную минуту голос Галатеи замолк – Пигмалион заткнул ей рот поцелуем.
– Ну извини, дорогая, – произнес он покаянно, не разжимая объятий. – Я был неправ.
– В чем?
– Во всем.
Галатея задумалась.
– Любишь меня?
– Люблю.
– Я самая прекрасная?
– Лучше всех!
– Единственная и неповторимая?
– Да.
Галатея вздохнула и положила голову на грудь Пигмалиону.
– Тогда разбей эту мраморную дуру Хлою, которую ты ваяешь в мастерской.
– Но, милая! Это же моя работа! Я же скульптор!
– А я не желаю видеть в твоей мастерской никаких голых статуй! Ты мой и только мой!
– Ну конечно, но…
– Ты на нее так смотрел! На меня ты никогда так не смотришь.
– Но разве можно сравнивать…
– Значит, ты разобьешь ее? Обещаешь?
«А и правда, ну почему ее не изваял великий Фидий?..» – устало подумал Пигмалион.

Жена однажды мне сказала: «Если ты такой умный, вот возьми и напиши сказку своим детям. А я к ней нарисую картинки».
Сказку я придумал, но записать поленился, а жена поленилась нарисовать, и так оно и пропало.
Зато с тех пор остановиться не могу.
А та, первая сказка, была примерно такая:
Жил-был на свете волшебник Шимахуз, который все делал только наполовину. Такой уж он был ленивый.
Начнет делать скатерть-самобранку – до второй перемены блюд дойдет, а про компот и закуски позабудет.
Станет превращать лягушку в принцессу – до половины превратит, а дальше так оставит.
И во всем так.
Поэтому люди к нему обращались очень редко, только в самом крайнем случае, да и то потом раскаивались.
А однажды пришел к волшебнику великан и закричал громким голосом:
– Не здесь ли живет волшебник Шимахуз? Шимахуз, волшебник, здесь живет?
Вышел к великану волшебник в одном тапочке и наполовину застегнутом халате.
– Ну, я волше… а что тако…?
– Я – великан Ждыдва. Ждыдва я, великан. Знаменит тем, что все делаю дважды. Два раза все делаю, и этим знаменит. Мне нужны, понимаешь, семимильные сапоги. Семимильные сапоги мне нужны, понимаешь?
– Понима…
– Они теперь в моду вошли, а у меня до сих пор километровые галоши. Километровые галоши у меня, а уже в моде семимильные сапоги. Вот ты мне их и сделай. Сделай мне их.
– Так ведь… только наполови…
– Ну да, я знаю. Знаю я. Ты сделаешь сапоги наполовину, а я зато шагну дважды. Я дважды шагну в сапогах, которые ты сделаешь наполовину. Как раз один раз и получится, семь миль. Семь миль за один раз получится.
Так и порешили. Волшебник Шимахуз стал делать сапоги-скороходы, и сделал их, конечно, только наполовину. Надел сапоги великан, шагнул – и пропал из глаз.
А под вечер вернулся ползком, весь в грязи, в синяках и без сил.
– Ты что мне подсунул? – зарычал он на волшебника, едва переводя дух и даже забывая повторяться. – У тебя же не два полусемимильных сапога получилось! У тебя же получился один семимильный сапог и один простой! Это же мне пришлось вдогонку за своей правой ногой семь миль на одной ножке скакать! Да еще по камням, болотам и оврагам! Вот только дай мне отдышаться, я тебя в лепешку расшибу! Дважды!
Тут волшебник Шимахуз так испугался, что безо всяких сапог-скороходов убежал за тридевять земель. И с тех пор, говорят, стал все дела делать не наполовину, а на целых семьдесят пять процентов.
А великан Ждыдва потом еще два месяца ходил еле-еле. Он так сбил себе ноги, что мог носить только мягкие стометровые тапочки. И говорить из-за одышки тоже стал медленно, вдумчиво, взвешивая каждое слово. За это другие великаны стали его считать солидным и здравомыслящим – и очень зауважали.

– Потому что я ненавижу детей! – сказал бургомистр.
– Хм? – сдержанно удивился его собеседник.
– Да, ненавижу. С детства. С тех самых пор, как соседский мальчишка отобрал у меня кулек с леденцами, а вокруг стояли другие дети и смеялись. Даже девочки.
– Но у Вас же самого двое детей?
– Их я ненавижу даже больше остальных. Мерзкие визгливые создания, от них только грязь, шум и головная боль.
– Ну хорошо, – собеседник размял пальцы и придвинул к себе лист договора. – Значит, за триста золотых монет я должен… Кстати, а почему вы не хотите, чтобы я просто уничтожил этих детей? Это было бы гораздо быстрее, надежнее и, смею заметить, вдвое дешевле.
– Ну… – бургомистр замялся. – Они же все-таки живые. Как-то это нехорошо. Я, знаете, даже котят никогда не мог топить – всегда относил на болото и там выпускал.
– Ясно, – длинный палец пробежал по строчкам договора и уперся в следующий абзац. – Сколько, говорите, всего детей?
– Около четырехсот, – ответил бургомистр. – Вы же понимаете, точной цифры я назвать не могу. Одни еще слишком малы и не могут ходить, другие – скорее подростки, а не дети…
– Соображу на месте. Ну что ж. Значит, послезавтра с утра и приступим.
– А почему не завтра?
– Потому что метод новый, непроверенный, – отозвался Флейтист. – Сначала я хотел бы его испытать на крысах.

Я стояла на своем обычном месте и наблюдала, как мэр ругается с Крысоловом.
– А я тебе говорю, что ты не получишь ни гроша! – мэр веско отбивал каждое слово взмахом руки, он так умеет.
– Но я же вывел из города всех крыс? – возмущался Крысолов.
– Ты едва не утопил нашего казначея! – рявкнул мэр. – Бедняга нахлебался воды и подхватил тяжелую простуду – и скажи еще, что это не ты заманил его в реку своим черным колдовством!
– Я в точности выполнил уговор! – не сдавался Крысолов. – И не моя вина, что главной крысой, грабящей гаммельнские склады, оказался ваш собственный казначей.
– Тебя по закону надлежит сжечь на костре, – заявил мэр. – Во сколько ты оцениваешь собственную жизнь? Всяко дороже трехсот гульденов, верно?
– Верно, – сглотнул Крысолов.
– Ну так иди отсюда и радуйся, что мы еще не требуем с тебя доплаты.
Мэр развернулся и пошел прочь, сочтя разговор оконченным.
Крысолов тоже так считал – во всяком случае, догонять мэра он не стал, а только погрозил ему вслед кулаком. Потом огляделся и увидел меня.
– Здравствуй, девочка.
– Добрый день, господин Крысолов, – я решила не обижаться на «девочку».
– А скажи, девочка, много ли в вашем городе детей?
Детей в нашем городе было много, и я так ему и сказала.
Он кивнул своим мыслям, достал из кармана свирель и некоторое время смотрел на нее, шевеля в воздухе пальцами – придумывал новый мотив. Я уже видела такое, у нас сосед по вечерам играет на дудке, и тоже смотрит на нее таким взглядом, когда размышляет, куда и как поставить пальцы и стоит ли это вообще делать.
– А скажи, девочка…
– Не называйте меня девочкой.
– Да? Ну, извини. А как тебя тогда называть?
Я сказала ему свое имя, он усмехнулся.
– Надо же, какое совпадение. А меня зовут Ганзель.
– Смешно, – согласилась я.
– А скажи, Гретхен, тебе тоже жалко казначея?
– Нет, – ответила я сразу, – он же не утонул.
– А если бы утонул?
Я задумалась.
– Мне было бы жалко, что он утонул, – наконец решила я. – А его самого – нет. Хотя он хорошо платил. И почти не щипался.
– Я помешал твоему бизнесу?
– Ничего.
Крысолов помолчал, повертел свирель в руках и сказал вроде даже не мне, а куда-то в сторону:
– Завтра я буду играть новую песню. И уведу из города всех детей. Клянусь всем святым, что ни одной чистой невинной души в Гаммельне не останется!
– Аминь, – хмыкнула я.
– А ты пойдешь со мной, когда я заиграю?
– А сколько дадите?
Это вышло грубо, и Крысолов обиделся, но кажется, понял. Ну куда я пойду, в самом деле? Ведь не просто так тут стою, не от хорошей жизни. Мне семью кормить надо. Не матери же вместо меня выходить, от нее и так на улице уже шарахаются.
Утром Крысолов заиграл. Не знаю, как у него это получилось, но мелодию услышали все, даже на другом конце города. И кто сказал, что Крысолов умеет красиво играть? Может, и умеет – но мне не понравилось. Жуткая это была песенка; свирель взвизгивала и скрипела, как мучимый грешник. Звуки лепились один на другой, звуки шарили по всему телу, проникали под кожу, толкались в животе, поднимали волосы на затылке. Прохожие морщились и кляли Крысолова последними словами. Во многих домах заплакали дети; и мне тоже почему-то хотелось плакать.
Потом мимо меня прошла сумасшедшая старая Роза – вот ей, кажется, песенка нравилась. Лицо у нее, во всяком случае, было совершенно счастливое. Я подождала еще, но больше никого не было. И тогда я пошла в ту же сторону, куда удалилась старуха.
Крысолов сидел на берегу и играл на свирели. Роза расположилась рядом и с обожанием смотрела на него своими бельмами.
– А, это ты, Гретхен, – Крысолов заметил меня и отложил свирель. – Что же ты мне сказала, будто в городе полным-полно детей?
– Детей много, – согласилась я, – а вот чистых невинных душ… Вы ведь их собирались вывести?
– Собирался. Одна вот есть, – Крысолов кивнул на старую Розу.
– Сумасшедшая?
– Почему же сразу сумасшедшая? Просто она впала в детство, со всяким может случиться. Ну, почти со всяким, – тут же поправился он.
– Я тоже пришла.
Крысолов задумчиво пожевал губами.
– Я ни на секунду не заблуждаюсь, будто тебя привела магия моей песенки. Тогда почему же?
– Может, я тоже сумасшедшая, – сказала я и пожала плечами. – Научите меня играть на свирели.

– Иди ко мне, – промурлыкала Гера.
– Давай в другой раз? – скривился Зевс. – Сегодня у меня болит голова.
– Вот как? – Гера прищурила глаза. – Ну и с кем же ты мне сегодня изменял?
– Да что ты, что ты! – испуганно замахал руками Зевс. – Да я же… да ни в жисть!
– Не лги мне! – голос Геры стал холоден, как горный лед. – Я сама вчера слышала, как одна критянка говорила другой, что ее муж в постели – просто бог!
– Ну она же о муже говорила, не обо мне…
– Но откуда этой критянке знать, каковы в постели боги? А?
Зевс потупился.
– Честное слово, душенька! Ну у меня же правда болит голова.
Гера подошла к мужу и деловито обнюхала.
– Ну конечно, отчего бы ей не болеть! Опять какую-то бурду пил с Дионисом.
– И вовсе не бурду! – обиделся Зевс. – Прекрасный перебродивший нектар.
– Ты бы лучше о своей жене подумал!
– Я думал…
– Нет, не думал!
– А я говорю, думал!
– А я говорю, нет!
– Дорогая, не кричи, у меня и так голова раскалывается…
– И правильно! И пусть раскалывается!
Зевс сел на пол и обхватил руками гудящую голову.
– Я прошу тебя… помолчи минутку! Не сбивай… У меня, кажется, сейчас родится какая-то мысль…
– Ах, мысль?!
Гера решительно выхватила из-за спину скалку и обрушила ее на темечко мужа.
Голова Зевса раскололась, как гнилое яблоко, и оттуда вылетела, трепеща крылышками, маленькая Афина. Зевс, испуганно вскрикнув, попытался запихнуть ее обратно, но было уже поздно.
– Значит, ты обо мне думал, да? – задыхаясь от гнева, прошипела Гера. – Голые крылатые девки – вот что у тебя в голове!
Афина увернулась от руки Зевса и вылетела в окно. За ее спиной загрохотали молнии и чугунно зазвенели сковородки.
Будучи богиней сражений, а что еще важнее, богиней мудрости, Афина нисколько не сомневалась в результате этой битвы.

– Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне…
– Оставь в покое мою избушку! – заорала Баба-яга и высунула голову из окошка. – Не смей! Тоже, взяли моду… Все шастают, все избушку туда-сюда вертят. Вот сейчас как выскочу, как выпрыгну… Эй?.. Да где ты?
– Здесь я.
Баба-яга близоруко прищурилась. Далеко внизу, у крылечка, сидел в траве пучеглазый лягушонок.
– Ты, что ли?
– Я. Помощь мне нужна, бабушка. Невесту мою украли.
– Помощь ему… А ты знаешь, что я только по царевнам специализируюсь?
– Так она и есть царевна!
– Ну-ка, ну-ка! – заинтересовалась Баба-яга. – Давай подробности.
– Да какие там подробности… Была у меня невеста, Василиса. Любили мы друг друга. А потом налетел Иван-царевич, схватил мою суженую и умчался – она и квакнуть не успела. Теперь не знаю, где ее искать. Подскажи, бабушка?
Старуха хмыкнула и прикрыла рот рукой.
– А ведомо ли тебе, что та Василиса – заколдованная девица?
– А мне все равно, – ответил лягушонок. – Хоть девица, хоть волчица, хоть устрица. Да будь она даже цаплей – мне никакой другой не надо. Люба она мне.
– А ты ей?
– Говорит, тоже люб.
– А ты и поверил?
– Конечно, поверил. Я ей во всем доверяю.
– Тяжелый случай, – покачала головой Баба-яга.
– Еще какой тяжелый, – вздохнул лягушонок. – Так поможешь?
– Ну, помочь – дело нехитрое. Дорогу я тебе укажу. Придешь ты ко дворцу Ивана-царевича, а дальше что?
– А дальше – убью его.
Баба-яга поперхнулась.
– Как – убьешь?
– Как – это я еще не придумал. Но убью точно! Нечего чужих невест воровать!
– Ну… ладно. Слушай сюда, внимательно. Расскажу, как с Иваном справиться. Пойдешь отсюда на восток, выйдешь к Морю-Окияну. В Море-Окияне найдешь остров Буян. На острове растет дуб, на дубе висит сундук, в сундуке сидит заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, а в яйце…
– Смерть Иванова?
– Нет. Там смерть Кощеева. Возьмешь яйцо – и пойдешь с ним шантажировать Кощея. А уж он-то с Иваном как-нибудь справится.
– Спасибо, бабушка.
– Не за что. Работа такая.

– Почему Вы плачете, милая девушка?
Золушка поспешно вытерла глаза рукавом и обернулась на голос. На заборе, болтая ногами, сидел и наблюдал за ней незнакомый паренек – едва ли старше самой Золушки, одетый в какие-то невнятные лохмотья и босой.
– Хочу и плачу. Тебе-то что за дело?
– А что, и спросить нельзя?
– Можно, – буркнула Золушка. – Только нечего обзываться.
– Я не обзывался! Я назвал Вас милой де…
– Сейчас в глаз получишь, – мрачно предупредила Золушка.
– Ну хорошо, – ухмыльнулся парнишка. – Тогда попробуем так. Эй ты, противная тетка, чего ревешь?
Золушка прыснула со смеху и отмахнулась от зубоскала.
– Да ну тебя! Хочу и реву.
– А может, я помочь хочу?
– Да? – Золушка иронично подняла бровь. – Ну, помоги, если хочешь. Мне как раз надо еще посадить сорок розовых кустов. И перебрать мешок ячменя и проса.
Незнакомец скривился.
– Не, это я не умею. Извини.
– А что ты вообще умеешь?
Парнишка задумался и простодушно заявил:
– Да ничего, вообще-то.
– А чего же тогда помощь предлагаешь?
– А я и не навязываюсь, между прочим! Просто подумал…
– Что?
– Ну… может, тебе какое-нибудь чудо нужно?
– А ты что, волшебник? Ты же говорил, что ничего не умеешь.
– Я – нет. Но моя крестная – фея.
– Врешь.
– Не вру.
– Все равно врешь.
– Ну ладно, пусть вру. А если бы не врал – чего бы ты хотела?
Золушка задумалась.
– А твоя крестная может превратить тыкву в карету?
– Может. А зачем?
– Чтобы поехать на бал.
Паренек присвистнул.
– На ба-ал? А что тебе там делать, на балу?
– А что, нельзя?! – вспыхнула Золушка. – Думаешь, я всем только праздник испорчу своим присутствием?
– Нет, что ты! – замахал руками парнишка и едва не свалился с забора. – Я не то имел в виду! Просто… ну что там интересного? Бал как бал. Все ходят, расшаркиваются, говорят всякую чушь – тоска смертная!
– Опять дразнишься!
– Да нет же! Я сам… я бы сам оттуда убежал при первой возможности!
Золушка оглядела нескладную фигуру паренька, его лохмотья и босые ноги и откровенно фыркнула.
– Да тебя бы туда и не пустили.
– Это верно, – облегченно засмеялся тот.
Золушка вздохнула.
– А мне бы хоть одним глазком…
– Да на что там смотреть?
– На принца.
Парнишка задумчиво уставился куда-то в небо над головой Золушки.
– А что – принц? Подумаешь, принц…
– Он, говорят, красивый.
– Врут, наверно.
– Может, и врут, – согласилась Золушка. – Вот я бы сама и посмотрела. Никогда не видела живых принцев.
– Да чего на них смотреть… – парнишка колупнул ногтем краску на заборе. – Принц, не принц… ерунда это все.
– А вот и не ерунда!
– А вот и ерунда!
– А вот… а если ерунда, то и говорить тогда не о чем! И вообще, мне надо просо перебирать!
Золушка отвернулась и всхлипнула. Парнишка подумал секунду – и спрыгнул с забора во двор.
– Ладно уж. Давай помогу.
– Отстань.
– Ну что ты как маленькая! Обиделась…
Золушка утерла нос и решительно задрала его вверх, смерив мальчишку презрительным взглядом.
– Ты же не умеешь перебирать зерно?
– А ты меня научишь, – паренек неуверенно улыбнулся и протянул руку – Мир?
Золушка вздохнула и хлопнула его по ладони.
– Мир.
Парнишка быстро взглянул на небо; солнце стояло уже высоко, но до полудня оставалось часа полтора. Это хорошо, потому что он еще успеет вернуться домой в срок. А ровно в полдень заколдованные лакеи снова превратятся из крыс в людей – и тут такое начнется!.. Да и неудобно будет оказаться перед девушкой в королевских одеждах. Еще опять решит, что над ней издеваются.
Принц никогда не перебирал ячменя и проса. Ему очень хотелось попробовать.

Жила-была на свете Любовь. И был у нее, как полагается, Предмет Любви.
Им было очень хорошо вместе, Предмет смотрел на Любовь влюбленными глазами и говорил: «Я тебя люблю!»
А она расцветала от этих слов и была для своего Предмета самой воплощенной Любовью.
Но время шло, и Предмет все реже стал смотреть на Любовь так, как раньше. Ей теперь приходилось самой спрашивать: «Ты меня любишь?..»
«Что? – отвечал Предмет. – А, ты об этом… Конечно, люблю. Не веришь?»
Любовь, конечно, верила – и доверчиво прижималась щекой к плечу своего Предмета.
Так Любовь стала Верой.
Она верила своему Предмету безоглядно, даже когда он стал реже появляться дома, даже когда от него стало пахнуть чужими духами.
А потом Предмет и вовсе пропал, и верить стало некому.
От Предмета остались какие-то мелочи: зубная щетка, сношенные тапочки, треснувшая кружка. Вера ничего не выбрасывала.
«Это глупо, конечно, – думала она. – Бессмысленно даже надеяться… Но вдруг он все-таки вернется?»
Вера, конечно же, не может существовать без Предмета Веры. Так Вера стала Надеждой. Надежда – беспредметна.
Она живет – и ждет. Живет – и надеется. Она умирает последней – и все никак не умрет.
Ей нельзя умирать – потому что после нее придет Ненависть. Надежда должна держаться до последнего.

– Ты, Моська, пойми меня правильно, – говорил Лев, разливая по новой. – Я конкретно против тебя ничего не имею. Я тебя даже уважаю. Но вообще собак не терплю.
– Почему?
– Да так… на гиен слишком похожи. Ты пей, пей.
Лев и Собачка чокнулись мисками и стали лакать.
– Погоди, я не понимаю, – сказала Собачка, облизав нос. – Гиены, они же далеко, они в Африке. А собаки…
– Гиены – они везде! – авторитетно заявил Лев. – Посмотри вон туда. Видишь?
– Вижу. Жираф.
– Это не жираф. Он только притворяется жирафом. А на самом деле – гиена! Вон, вся шкура в пятнах. А слон, думаешь, кто?
– Да ну, брось! Слон – это…
– Гиена! И ты тоже гиена.
Собачка обиделась.
– Скажешь тоже! Какая я тебе гиена?
– Да ты не переживай, – вздохнул Лев. – Вы, собаки, все гиены. Но ты – нормальная гиена, своя. Я тебя уважаю. А ты меня? – Лев грозно глянул на Собачку.
– А куда я денусь? Уважаю, конечно, – сказала Собачка и на всякий случай отодвинулась ото Льва.
– Выпьем за это! – подытожил Лев и снова припал к миске. Собачка деликатно пригубила из своей и задумалась.
– А чем тебе гиены насолили?
– Они мерзкие! – скривился Лев. – Представь себе – бежишь ты по саванне, преследуешь антилопу.
– Я?!
– Нет, я! Бегу я, помнится, по саванне, преследую антилопу Догоняю, сваливаю на землю ударом лапы…
– Как ты можешь это помнить? – усомнилась Собачка. – Ты же никогда в Африке не был?
– Что ты понимаешь! – горько усмехнулся Лев. – Во мне говорит память предков.
– А-а-а… ну тогда ладно.
– И тут, – Лев насупился и всхлипнул. – Эти твари… Мерзкие вонючки… и сожрали добычу! Мою добычу, понимаешь?! – он ударил себя лапой в грудь и скорчил кислую рожу. – Нет, не терплю.
– Лева, это было давно, – попробовала утешить Льва Собачка.
– А мне плевать, что давно! Во мне говорит память предков!
– Выпьем за предков, – быстро предложила Собачка. Лев задумался и кивнул.
– Выпьем.
Они наклонились и снова отпили из мисок.
– Тебе еще налить?
– Наливай. Только капельку.
Лев разлил по новой. Собачка понюхала свою миску и скривилась.
– Где ты только берешь эту гадость?
– У сторожа, – ответил Лев.
– А сторож где берет?
– Не знаю, – признался Лев. – Но на вкус это натуральная ослиная моча, так что у меня есть некоторые подозрения.
Он склонился над своей миской, но пить не стал, а только вздохнул задумчиво.
– До чего мы, Львы, докатились! Пьем ослиную мочу. А ведь были царями зверей! Ведь были, а?
– Ну, в этой клетке ты и теперь царь, – заметила Собачка.
– Царь… – невесело усмехнулся Лев. – Цари не едят коровьи мослы и овсяную кашу! А чем меня тут кормят? Да не отвечай, и так тошно. Сижу за решеткой, в темнице сырой, – запел он, – вскормленный в неволе орел молодой… Орел, между прочим, тоже царь. А кормят его дохлыми мышами. А, каково? А вокруг ходят посетители с собаками… Ты понюхай, чем от них пахнет! Печенкой! И этим, как его, кормом для собак… Все название забываю. Понимаешь, им – печенка, а мне – коровий мосол! Ненавижу собак.
– Лева, Лева! Не надо!
– Не-на-ви-жу! – с пьяной уверенностью повторил Лев. – Кругом, куда ни глянешь – одни шавки! А тебя как зовут?
– Моська.
– Вот видишь, и ты моська. Я же говорю, одни собаки кругом. Сиречь гиены. Гепард – и тот собака собакой, хотя тоже под кошку косит… родственничек. Шакал – собака, Волк – собака, и ты вон… Ты вообще кто такой?
– Я? Мой дедушка был волкодав.
– Брось дедушку, ты сам кто? Гиена, а?
– Я не гиена! А мой дедушка, он знаешь какой волкодав был! Его все волки…
– Чихал я на твоего дедушку!
– Да мой дедушка…
– …пошел на шапку, – безжалостно закончил Лев.
У Собачки задрожал нос.
– Зря ты это, Лева. Зря. Время было такое.
– Знаю, Моська, знаю, – печально вздохнул Лев и обнял Собачку так, что у нее глаза вылезли из орбит. – Мою бабушку тоже отдали на поругание таксидермистам, а я что? Я ничего. А что я?
– Выпьем за бабушку? – предложила Собачка.
– За мою бабушку и за твоего дедушку, – провозгласил Лев. – И за межвидовую дружбу!
Некоторое время они молча лакали.
– Вот ты, Моська, небось, дай тебе волю, тоже бы кошек гонял, а? – прищурился Лев. – Нет, ты признайся!
– Да кто ж мне ее даст, эту волю… – сказала Собачка и тоскливо покосилась на замок решетки.
Лев оскалился и сплюнул.
– Съесть бы тебя, собаку такую. Но нельзя. А то ведь и поговорить по душам не с кем будет.
Лев скрестил лапы, положил на них тяжелую голову Его усы уныло обвисли.
– В одной ведь клетке живем. Приходится мириться.

Город горел.
К небу взлетали снопы искр, рушились крыши, корчились от жара древние фрески.
Жители бродили по улицам, обмахивались веерами и говорили: «Ах, какая жаркая в этом году осень!»
На центральной площади радостно пожимали друг другу руки трое горожан:
– Как удачно, что я застраховал свой дом! Это просто подарок небес, что он сгорел!
– А я вложил свои деньги в строительный лес, он должен скоро прибыть. На него теперь будет большой спрос.
– Поздравляю Вас. Я тоже выгодно разместил капитал, накупил овса и пшеницы. Мне за них уже предлагали тройную цену, а что будет завтра?
– О да, бизнес теперь расцветет.
На редких паникеров, бегущих с мешками к лодочной пристани, горожане смотрели с презрением: «Нет, это не патриоты!»
– Предатели! – плевали они вслед отплывающим лодкам. – Как вы можете хладнокровно бросать родину в это трудное время?
– Так ведь пожар же! – кричали в ответ с лодок. – Оглянитесь, город горит!
– А что – пожар? – пожимали плечами горожане. – Под колесницами на дорогах ежегодно гибнет гораздо больше людей, чем от какого-то пожара. Подумаешь…
Пылали храмы, и жители восторженно обменивались впечатлениями:
– Смотрите, смотрите, какой высокий огонь! Такой никогда еще не зажигали на жертвеннике.
– Вот именно так надо служить богам! Чтобы искры долетали до самого неба!
– А говорят, в храме сгорели две сотни прихожан.
– Какое самопожертвование! Боги давно не получали столько человеческих жертв. Они будут довольны.
– Боги уже явили свою милость, у моего соседа сгорела усадьба. Я так рад!
– Но у тебя же тоже сгорела усадьба?
– Ну, это уже издержки…
– А обратите внимание, как красив наш город при таком освещении!
– Да, наш город прекрасен. Как скучны были эти серые стены, а взгляните на них сейчас, когда они объяты пламенем? Какая экспрессия, какая мощь!
– Дух захватывает! Вам тоже трудно дышать?
– Вот так бы и умерли, ни разу не увидев горящего Рима.
– Да, как же все-таки умно придумал наш император!
А император стоял на холме, смотрел вниз на горящий город и вздыхал. Ему было нестерпимо скучно.

В вагоне было душно и тесно, пахло кислой капустой, давно не мытыми гоблинами и детскими пеленками. Скаллош потряс головой и решительно протолкался к тамбуру. Там было почти пусто, только вырисовывался на фоне окна высокий силуэт проводника.
– Уже скоро, – не поворачивая головы, ответил проводник на невысказанный вопрос.
– Да я просто так, подышать вышел, – смущенно пробормотал Скаллош.
– А-а…
Эльф глубоко затянулся папиросой и выпустил дым из ноздрей. Скаллош прислонился спиной к стене тамбура и сквозь мутное стекло дверей стал смотреть внутрь вагона. Там сидели, стояли, спали вповалку гоблины – наверное, целая сотня, не меньше. Бурые и зеленые, клыкастые и плоскомордые, лохматые и лысые, старые и совсем молодые. Из разных кланов и разных областей, большинство никогда не встречались друг с другом и не перекидывались словом, а если и перекидывались, то слова были, как правило, бранные. А сейчас все сгрудились в этом вагоне, всех собрала вместе общая беда.
– Если бы мне еще год назад кто-нибудь сказал, что эльфы будут спасать гоблинов… – Скаллош недоуменно покачал головой. – Почему вы это делаете?
Проводник вытащил папиросу из рта, прищурился на тлеющий кончик и щелчком сбил столбик пепла.
– А ты бы предпочел, чтобы вас перебили люди?
– Нет, конечно!
– А к этому все шло, – эльф снова затянулся и уставился в окно. – Древние чащобы вырубаются под корень, всюду холодное железо, а вас, недомерков, просто уничтожают. Пиф-паф, ой-ой-ой. И нет гоблина.
Скаллош передернул плечами. Он до сих пор слышал как наяву лай гончих и крики охотников на болоте. Счастье, что удалось убежать. Счастье, что встретился спасательный эльфийский отряд. Счастье, что эльфы вообще забыли старую вражду и вышли из холмов на помощь избиваемым гоблинам.
– Вас ведь тоже когда-то преследовали, да? – осторожно спросил Скаллош.
– Угу, – Эльф кивнул и выкинул в окно окурок. – Люди с собаками. И гоблины с отравленными стрелами. Вы тогда были заодно.
– Мне очень жаль…
– Ерунда, – скривился эльф. – Меня тогда еще на свете не было.
– Вы поэтому решили забыть про старые обиды? Потому что сами знаете, каково это?..
– Мы ничего не забыли! – глаза проводника сверкнули в полумраке тамбура зелеными искрами. – Просто тогда был наш черед бежать в холмы. А теперь – ваш.
– Спасибо, – промямлил Скаллош.
– Не за что, – усмехнулся проводник.
– А там… ну, в ваших холмах – как там?
– Там… – Эльф задумался. – Там хорошо. Спокойно. Мы за эти годы развили науку, искусство, философию… У людей много нахватались, – он провел рукой по стенке вагона. – В общем, благодать и изобилие.
Проводник достал новую папиросу, раскурил, затянулся и нервно хохотнул.
– Спички вот только в дефиците. А еще сахар и мыло. Но мы работаем над этой проблемой. Уже, считай, почти решили.
Эльф пристально вгляделся в окно, чертыхнулся и, загасив начатую папиросу, сунул окурок в карман.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































