Текст книги "Возможная Россия. Русские эволюционеры"
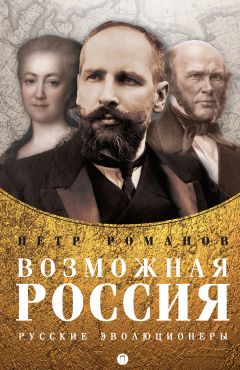
Автор книги: Пётр Романов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Всеми теми, о ком Василий Ключевский как-то сказал: «Чтобы согреть Россию, они готовы сжечь ее».
Николай Васильевич Устрялов – жизнь и смерть под перекрестным огнем
Этого человека русские политики, привычно разместившиеся на идеологических полюсах, ненавидели при жизни, не жалуют и сегодня. Имя Николая Устрялова забыто, хотя именно он в тяжелейшие для многих времена нравственных колебаний после Октябрьской революции («покраснеть» и работать на Советы или податься в эмиграцию?) сумел объяснить вроде бы очевидную мысль: власть меняется, а Россия остается. Не нужно служить ни красным, ни белым – надо служить Отечеству.
Новая доктрина, которую позже взяла на вооружение немалая часть русской интеллигенции, начала зарождаться практически сразу же после Октября и там, где ее меньше всего можно было ожидать, – в агитпропе колчаковского правительства, который возглавлял правовед, мыслитель и блестящий публицист Николай Устрялов. Будучи сначала директором пресс-бюро отдела печати при Верховном правителе (Колчаке) и Совете министров, а затем одновременно начальником отдела иностранной информации Русского бюро, Устрялов уже в 1919 году предсказал ход дальнейших событий в послереволюционной России. Своего рода русский политический Нострадамус.
Еще служа белым, он разочаровался в них и стал с любопытством анализировать то, что происходило в стане красных. Когда большинство белых продолжало верить в свою победу, Устрялов уже верил в возникновение, причем на долгие годы, большевистского государства. А когда Ленин еще грезил «мировой революцией», Устрялов уже знал, что ее не будет, и предсказывал, что режим большевиков неизбежно пройдет через свой термидор. То есть все придет примерно к тому, что произошло во Франции, когда революция сначала, как Сатурн, сожрала своих детей, а затем привела к власти диктатора.
При всем своем неприятии большевистской революции Николай Устрялов, ничуть не сомневаясь, как многие ее сегодняшние критики, называл революцию «великой» и «национальной». Так же как никогда не сомневался в том, какую огромную подготовительную работу для прихода к власти большевиков, не желая того, провела русская интеллигенция.
Позволю себе, чтобы ни в чем не исказить выводов Устрялова, пространную цитату из его статьи в газете «Новости жизни» от 1920 года: «Какое глубочайшее недоразумение – считать русскую революцию не национальной! Это могут утверждать лишь те, кто закрывает глаза на всю русскую историю, и в частности на историю нашей общественной и политической мысли.
Разве не началась она, революция наша, и не развивалась через типичнейший русский бунт, „бессмысленный и беспощадный“ с первого взгляда, но всегда таящий в себе какие-то нравственные глубины, какую-то своеобразную „правду“? Затем, разве в ней нет причудливо преломленного и осложненного духа славянофильства? Разве в ней мало от Белинского? От чаадаевского пессимизма?… От герценовского революционного романтизма („мы опередили Европу, потому что отстали от нее“)? А писаревский утилитаризм? А Чернышевский?… Наконец, разве в ней на каждом шагу не чувствуется Достоевский, достоевщина?.. А марксизм 90-х годов, руководимый теми, кого мы считаем теперь носителями подлинной русской идеи, – Булгаковым, Бердяевым, Струве? А Горький?… Я мог бы органическую связь каждого из крупных русских интеллигентских течений прошлого и нынешнего века с духом великой русской революции подтвердить документально».
Идеи Устрялова рассыпаны по различным публикациям. Бо́льшая их часть появилась в Харбине, куда он эмигрировал после разгрома Колчака, а потом даже в «Правде» и «Известиях», когда бывший колчаковец вернулся на родину. (Кстати, много ли вы знаете примеров, чтобы большевистская «Правда» публиковала статьи бывших колчаковцев?) Если до революции Николай Устрялов во многом находился под влиянием идей, высказанных авторами знаменитого сборника «Вехи», то после революции он издает со своими сторонниками в Париже новый журнал, который символично называет «Смена вех».
Ядовитые стрелы, как несложно догадаться, летели в сменовеховцев и нового Нострадамуса как со стороны красных, так и со стороны непримиримой белой эмиграции. Устрялов к этому беспощадному перекрестному огню относился философски и на критику реагировал спокойно, отвечая: «Мы научились отличать отечество от большевистского „превосходительства“, как вместе с первым поколением „веховцев“ отличали его от царского».
Те же, кто понимал Устрялова, верно подмечали, что он принял не большевиков, а реальность и искал для своей страны выход из того безумного хаоса, в который погрузилась в революционные годы и годы Гражданской войны Россия. Один из невозвращенцев советских времен, сменовеховец Сергей Дмитриевский, писал: «Не революцию принял Устрялов, но только государство, вышедшее из нее, как принял бы и государство, созданное против нее… Ему нужен был порядок, выбитая колея, устойчивое кресло, крепкое древо государственности».
Устрялов никогда не сомневался в том, что большевизм обречен исторически и примирение с ним может быть только тактическим. Об этом он постоянно напоминал своим «белым» и «красным» критикам, указывая на то, что от сотрудничества интеллигенции, специалистов и ученых с новой российской властью выигрывают все стороны, но каждая по-своему. Антикоммунисты – выигрывают потому, что они работают на российскую государственность и свой народ, укрепляя мощь не Советской России, а просто России. А коммунистам выгодно использовать опыт и знания людей, которые готовы лояльно с ними сотрудничать во всем, кроме идеологии.
Многие критики Устрялова упрекали его в наивности, предупреждая, что он сует голову в пасть льва. Это была не наивность. Возвращаясь на родину из эмиграции, Устрялов прекрасно отдавал себе отчет в степени риска, но считал своим долгом вернуться, если сможет принести России хоть какую-то пользу. В 1923 году Устрялов пишет: «Революция есть… великое несчастье, а социалистическое правительство в России – правительство немножко (или даже достаточно) помешанных». Просто и с «помешанными», ради России, заключал Устрялов, надо работать.
Сами «больные», то есть руководство большевиков, относились к Устрялову, конечно, с ненавистью, однако долго терпели, считая публициста своего рода мостиком к русской эмиграции. Логику выгодности использования для советского государства специалистов из числа «бывших» они как временное и вынужденное явление принимали. Но невероятно раздражала меткость, с которой Устрялов в своих статьях подмечал все признаки перерождения советской власти. Сами вожди многое предпочитали не замечать, а тут какой-то бывший колчаковец…
Между тем чем дальше партия уходила от Октября, тем дальше она уходила и от своих былых лозунгов, обещаний, от самой марксистской теории, от ленинизма, от социальной справедливости, от интернационализма. Как однажды с иронией заметил Устрялов, «„железные рыцари революции“ просто тонули в калужском тесте».
И тут же разъяснял: «Среда бонапартистской „реакции“ зреет, почти созрела. В чем сущность бонапартизма? Он – подлинная кодификация революции. Он – сгусток подлинных революционных соков, очищенных от романтических примесей утопии, с одной стороны, и от старорежимной отрыжки – с другой. Он – стабилизация новых социальных интересов, созданных революцией. Он – ее осуществленная реальность. Это – реакция, спасающая и закрепляющая революцию, по речению Писарева: не оживет, аще не умрет».
В своих работах Устрялов шаг за шагом проследил, как ленинизм трансформируется в сталинизм. Он признавал огромное влияние Сталина на жизнь страны и самой партии. Но каким сарказмом сопровождалось это признание: «Великая историческая роль Сталина. Он окружил власть нерассуждающими, но повинующимися солдатами от политики: мамелюками. Достойна восхищения его расправа с партийным мозгом. Сливки партии стали воистину битыми сливками. Я читал на днях „Большевика“ и „Ком. Интернационал“ – и ошеломлялся: у партии не осталось ни одного идеолога, ни одного теоретика, ни одного публициста. Ни одного!.. Поразительно ловкими маневрами, быть может, даже бессознательно, как медиум… партийный диктатор завершил процесс формальной дереволюционизации, всеобщей мамелюкизации правящего строя. Прощай, допотопный… подлинный революционизм! Здравствуй, новая, прекрасная, великая государственная лояльность! Да здравствует усердие вместо сердца и цитата вместо головы!»
Наконец, Устрялов прекрасно понимал и предвидел то, что категорически не понимало большинство противников советской власти, как в среде белой эмиграции, так и в кругу западной политической элиты. Война большевистскому режиму не так страшна, как мир, когда Советам и Политбюро придется на деле доказывать свою эффективность. Он все время словно пытался объяснить тем, кто хотел подтолкнуть историю: имейте терпение, яблоко созреет и упадет само.
В одной из своих статей Николай Васильевич пишет: «Блокада, гражданская война и всевозможные саботажи не подрывали, а питали собой насильственный коммунизм, служили ему опорой и оправданием. И только победа советской власти выявила в глазах поддерживавших ее масс полную эфемерность… коммунизма в России. Не борьба, а мир оказался пагубным для революционного утопизма».
Не сразу этот прогноз осуществился, «яблоко зрело» десятилетия, но осуществился. Как мы знаем, Советский Союз рухнул как раз в силу своей неэффективности. И Устрялов это предвидел еще в 1921 году!
Не случайно Ленин на XI съезде партии назвал Устрялова «умным классовым врагом», а Каменев четырьмя годами позже – «самым проницательным врагом диктатуры пролетариата». И тем не менее Устрялова терпели довольно долго – этот «Нострадамус» нередко видел куда дальше большевистского Политбюро. Более того, как считают некоторые исследователи, немало решений Сталина появилось после прочтения им работ Устрялова. Так что какое-то время Николай Устрялов, не подозревая того, был своего рода советником генсека «на общественных началах».
Однажды, отвечая на очередной выпад своих «мамелюков» в адрес Устрялова, Сталин не без присущего ему черного юмора заметил: «Он служит у нас на транспорте (одно время Устрялов работал на КВЖД). Говорят, что хорошо служит. Я думаю, что ежели он хорошо служит, то пусть мечтает о перерождении нашей партии. Мечтать у нас не запрещено. Но пусть он знает, что, мечтая о перерождении, он должен вместе с тем возить воду на нашу большевистскую мельницу. Иначе ему плохо будет».
Однако к 1937 году «Нострадамус» Иосифа Виссарионовича уже окончательно достал, и тот отдал приказ от Устрялова избавиться. Николай Васильевич был арестован по обвинению в связях с японской разведкой и маршалом Тухачевским. Бред, конечно, но в ту пору о мотивах ареста не очень задумывались. Четырнадцатого сентября «Нострадамуса» расстреляли. В 1989-м реабилитировали.
Устрялов был классическим эволюционером. Подталкивать время вперед, как когда-то рекомендовал народовольцам террорист Андрей Желябов, по мнению Устрялова, было опасно и бессмысленно. Время – не телега, застрявшая в луже, и не поезд без машиниста. Его ни вперед не сдвинуть, ни затормозить, вставляя палки в колеса. У истории своя логика и свой хронометр.
А вот работать на Отечество: строить, лечить, учить – надо обязательно. Потому что власть меняется, а Россия остается.
Владимир Иванович Вернадский – ученый, которого еще предстоит понять
Владимира Ивановича Вернадского с полным правом можно назвать «Гомером от науки». И если на право считаться родиной великого грека претендовали семь городов, то на отцовство академика претендуют многие науки. И все они правы. Он создавал новые науки и объединял старые, стараясь охватить буквально все – от кристаллографии до истории. Ради своей главной идеи – ноосферы. Штука и на сегодняшний день не вполне понятная не только обывателю, но и серьезным ученым. Впрочем, Вернадский на это и не рассчитывал, а потому еще 1931 году написал: «Царство моих идей впереди».
Он представил себе человека «на необитаемом острове… без надежды выбраться – надо ли менять творческую работу мысли, или же надо продолжать жить, творить и работать так, как будто… стремишься оставить след своей работы в максимальном ее проявлении и выражении? Я решил, что надо именно так работать».
Подозреваю, именно эта установка – жить и творить, словно на острове, невзирая ни на какие трудности, – и помогла ему выжить в эпоху большевизма. Заканчивал одну работу и тут же начинал другую, отрываясь от письменного стола лишь для того, чтобы «бросить в океан бутылку» с новой рукописью. А там уж, когда доплывет… И таких работ у этого «островитянина» к концу жизни накопилось около семисот.
Как справедливо подытожил наследие Владимира Ивановича его биограф Геннадий Аксенов: «Когда он скончался, о нем написали, что он был геологом, минералогом, кристаллографом и создателем наук геохимии и радиогеологии. К 50-м годам мир выяснил, что он имел важное отношение чуть ли не ко всем наукам, основал учение о природных водах, сказал новое слово в почвоведении, заложил основы метеоритики и сравнительной планетологии. В 60-е началось триумфальное шествие по всему миру идеи биосферы… (из чего, добавлю я, среди прочего произросла и экология. – П. Р.). В 70-е вышли наконец труды Вернадского, которые вызывали отторжение даже у большинства ученых – по биологическому пространству и времени. В 80-е выяснилось, что Вернадский обладал совершенно оригинальной концепцией исторического процесса, что он описывает его как переход человеческого общества от существования в биосфере к жизни в ноосфере, то есть в сфере разума. Наконец, в 90-е годы, после развала Советского Союза, о Вернадском заговорили как о великом гражданине России. В условиях сталинского террора он спасал людей и целые научные направления».
И это не все. Снова цитирую Аксенова: «Самое главное – предстоит освоить его понимание Космоса, где жизнь – такое же вечное явление, как материя и энергия. Разработанная поколениями великих механиков безжизненная картина Вселенной на фоне его нового понимания времени и пространства становится частным случаем, одной из возможных моделей. Вернадский восстановил единство мира, в котором жизнь и разум, сам человек не случайны».
Если из предыдущего абзаца вы мало что поняли, не огорчайтесь. И я не все понял. И таких, как мы, «недоумков» на Земле и сегодня подавляющее большинство. Но Вернадский и писал в расчете не на нас, а на неопределенное будущее. Поэтому предлагаю утешиться тем, что ученого, который мог запросто спорить по вопросу о природе времени с Эйнштейном, поймет не каждый.
Да и с дарвинизмом Вернадский был не в ладах. Как и всякого великого, его ничуть не смущал авторитет других великих. Игра случайных условий его не увлекала. «Случай – детский лепет науки» – любил повторять академик. И спрашивал: а что прикажете делать с бактериями? Ведь они и не думают эволюционировать, совершенствоваться, это абсолютно стабильная часть живого вещества. Бактерии бесконечно делятся в том виде, в каком мы их застали, миллионы и миллионы лет без перерывов.
Поэтому и предлагаю оставить научные споры ученым. Далее речь пойдет больше о человеке, чем о его научных идеях. Тем более и здесь много интересного. Это единственный из руководителей кадетской партии, который тем не менее получил Сталинскую премию. Это человек, который чуть не угодил в тюрьму, потому что его жизненный путь в одной точке пересекся с дорогой брата Ленина – Александром Ульяновым. Это человек, который после революции мечтал уехать за границу, но его дважды останавливал тиф. А потом, уже в советские времена, он, многократно выезжая за рубеж, тем не менее каждый раз возвращался домой. Пусть «такая-сякая», но все же Родина! И он ей служил, несмотря ни на что.
Кстати, это Вернадский, получив от сына из Праги информацию, что на Западе доказали страшную силу атомной энергии, добился наконец от советской власти создания Комиссии по изучению внутриядерной энергии урана. Приписку, которую сын Георгий сделал к своему письму: «Папа, не опоздайте!» – академик понял прекрасно. Потому что предвидел атомную бомбу еще в 1922 году, поэтому не раз и требовал от власти, увы, безуспешно, денег на Радиевый институт.
С этой комиссии, собственно, и началась дорога к советскому атомному проекту. Не он, понятно, осуществил этот проект, поскольку был уже глубоким стариком, но именно Вернадский дал первый импульс работе в этом направлении. И за это Россия должна быть ему благодарна. Короче, есть что вспомнить и помимо его грандиозных идей о ноосфере.
Уже в студенческие годы Вернадский, если говорить о его политических взглядах, отверг обе крайности. В те годы общественного бурления, которое предшествовало двум революциям (1905 и 1917 года), студенты разделились на три группы. Так называемых «аристократов-белоподкладочников» (любили подбивать свои тужурки белым атласом) интересовала лишь карьера, а потому и сохранение режима. Радикалы пополняли кружки разнообразных социалистов и террористов. «Культурники» выступали за путь эволюционных преобразований. К последним и относился молодой Вернадский. Позже он был уже ближе к авторам знаменитых «Вех», которые считали, что безответственность русской интеллигенции в немалой степени способствовала революции.
Однако в реальной тогдашней жизни дороги всех этих студенческих групп постоянно пересекались. И судьба даже самых близких к Вернадскому людей той поры сложилась очень по-разному. Двое стали членами первого русского парламента, один был арестован в составе последнего царского правительства, другой позже расследовал преступления этого правительства. Есть среди них и три будущих министра Временного правительства. А кое-кто закончил свои дни на Лубянке.
Вот и с братом Ленина свела все та же своевольная судьба. Вернадский посещал Литературно-научное общество, куда входил и студент Александр Ульянов. К тому же Вернадского избрали председателем Совета объединенных землячеств, куда опять-таки входил Ульянов. Между тем заседания совета, которые проходили у Вернадского дома, Александр нередко использовал для встреч со своими единомышленниками. В результате после ареста Александра Ульянова неприятности обрушились и на Вернадского.
Можно сказать, еще легко отделался. В разгар расследования по делу о покушении на императора к Вернадскому пришел один из его друзей, Ольденбург, и рассказал, что у него дома лежит оставленный Ульяновым ящик с каким-то порошком. Вернадский взял порошок на анализ и выяснил, что это составная часть динамита. Друзья срочно вывезли опасный груз на середину Невы и утопили. Как оказалось, очень вовремя. К Ольденбургу нагрянули с обыском, вот только искать было уже нечего.
Тем не менее напуганные событиями чиновники в Министерстве образования не желали больше слышать о Вернадском. Помог профессор Василий Докучаев, который уговорил министра убрать столь «подозрительную личность» из университета, но все же не лишать талантливого человека научной карьеры. Вот и решили послать Вернадского за рубеж для подготовки к профессорскому званию.
Как говорится, нет худа без добра. Изгнанник отправился в свою первую зарубежную поездку – знакомиться с ученым миром Европы. Для решения тех вопросов, на которые еще в молодости замахнулся Вернадский, одного российского научного потенциала было, безусловно, мало.
А эти сложнейшие вопросы появились у Вернадского очень рано. Школу он, правда, не любил и воспринимал ее как тюрьму. Зато в Петербургском университете наслаждался лекциями Менделеева, Бекетова, Бутлерова. И уже тогда стремился к всеохватности. Не везде сдавал экзамены, но лекции посещал на разных отделениях. Уже в студенческих работах Вернадский задается «простыми», едва ли не «детскими» вопросами, над которыми, собственно, и бьется натурфилософия.
Вот фрагмент из студенческого доклада Вернадского по химии: «Мертва ли та материя, которая находится в вечном непрерывном законном движении, где происходят бесконечное разрушение и созидание, где нет покоя? Неужели только едва заметная пленка на бесконечно малой точке в мироздании – Земле обладает коренными, собственными свойствами, а везде и всюду царит смерть? Разве жизнь не подчинена таким же строгим законам, как и движение планет, разве есть что-нибудь в организмах сверхъестественное, что бы отделяло их от остальной природы?» Не здесь ли первые проблески будущей идеи о биосфере?
Вернадский – прямая противоположность ученому, сосредоточенному лишь на своей узкой специальности. Он не хотел всю жизнь вскапывать одну и ту же грядку. Это не его путь. Он едет в экспедицию, где изучает роль сусликов в процессе почвообразования или смотрит в телескоп, но думает при этом не столько об овраге или обратной стороне Луны, сколько о природе в целом, о всеобщем природном механизме, в котором суслик, почва, Луна и человек – части единого целого.
Вот и в той первой зарубежной поездке времени он не терял: пока проводил опыты в парижской Горной школе, а в колбе булькал раствор, Вернадский с упоением изучал Платона. И прочел все двенадцать томов, купленных на развале у букиниста. Для его теории все шло в дело: и суслики, и кристаллы, и Платон.
Очень интересовался восточной философией, она была ему ближе, чем западная, основанная на аврамических религиях. Поэтому-то в Европе, по Вернадскому, мысль обязательно выстраивается на доктрине рождения мира из ничего. Но это связано не с самим миром, а с мышлением европейцев. На Востоке иная традиция. Извечное существование живого, как считал Вернадский, куда понятнее, чем его появление во времени.
То, что из Вернадского вырастает настоящая ученая глыба, понимали многие. Ему всего двадцать шесть лет, а его уже разрывают на части: Василий Докучаев, основоположник русской школы почвоведения и географии, просит отправиться с ним в экспедицию, а Алексей Павлов, будущий академик, геолог и палеонтолог, предлагает кафедру минералогии и кристаллографии в Москве. Хотя Вернадский к этому времени, между прочим, даже диссертации не защитил.
Говорят, весь физико-математический факультет Московского университета из любопытства пришел послушать первую лекцию молодого минералога, который, не имея еще магистерской степени, назначается на место профессора. Сам он чувствовал себя на преподавательской кафедре плохо – ораторское искусство не его стихия. Поэтому долго потом всех расспрашивал: «Как прошло?» Успокоил только Тимирязев, заверив, что все прошло отлично.
Вернадский читал свои лекции без внешнего эффекта, зато мысли… Как вспоминали студенты, его лекции «оживили мертвую природу, камни заговорили». Образ точный. И для самого Вернадского мир вокруг постепенно оживал, переставал быть немым. Все было взаимосвязано, а понятия мертвой и живой материи казались условностью, возникшей от недопонимания самой природы вещей.
То, что он тогда знал лучше всего, – минералы. С этого все и началось. Не отказавшись от классического метода их описания (цвет, состав, тип строения), Вернадский ввел сюда же еще понятие времени. Земная кора пришла в движение, у минералов появилась динамика, развитие во времени, они «ожили» и «заговорили», рассказывая о том, как они менялись, а с ними менялось на планете и все остальное. Из Вернадского получился естествоиспытатель-историк, естествоиспытатель-философ. По сути, это была новая картина мира.
К защите диссертации Вернадский отнесся иронично, хотя оппонентами были известные авторитеты: Докучаев и два будущих академика – химик Коновалов и кристаллограф Федоров. «Я себя чувствовал так себе, – писал Вернадский жене, – публичная хвальба так же мало приятна, как и нападки».
Один из экземпляров диссертации он отнес своему кумиру – Дмитрию Менделееву. Это был одновременно и знак уважения, и знак солидарности. В эти дни Менделеева как раз изгнали из университета за то, что он согласился передать министру образования петицию студентов.
Приход большевиков заставил перебраться на юг. Из Крыма Вернадский хотел уехать за рубеж, однако заболел тифом. А когда поправился, уехать уже не смог: от того же тифа умер ректор местного Таврического университета – единственного в тогдашней России, где еще существовали свободные выборы ректора и студенческая автономия. Все умоляли его возглавить этот последний рубеж свободной науки. Отказать не смог, а потом бежать было уже поздно. Да и, как сам однажды выразился, «было как-то неудобно бежать».
С приходом большевиков с поста ректора его, естественно, тут же сняли. Для проверки лояльности среди преподавателей распространили анкету с немудрящим вопросом: «Как вы относитесь к красному террору?» Как ответил Вернадский, представить несложно. Однако сразу же не расстреляли, а отправили в Москву к Луначарскому, пусть разбираются в центре, все-таки к тому времени он уже был академиком!
Полагаю, крымские большевики даже не представляли себе ценность этого ученого. Зато представлял он сам. И это была не гордыня. Просто посреди бушевавшей революционной стихии он сам ощутил себя островом, о котором когда-то писал: несмотря ни на что, мысль оставалась свободной, а мозг не прекращал творческую работу.
Вернадский по-прежнему упорно продолжал соединять воедино, казалось бы, несовместимое. В поезде из Крыма в Москву, а поезд в те времена шел долго, с огромным интересом изучал докторскую диссертацию отца Павла Флоренского. И очень высоко оценил ее. Как, впрочем, и Флоренский высоко ставил «Биосферу» и писал автору, что внутри оболочки жизни он выделил бы еще сферу духа, реально существующую и влияющую на человеческую жизнь и окружающую среду.
Именно эта неустанная работа пытливого мозга и помогала преодолевать все жизненные невзгоды. А в ту беспокойную пору их было много. Побывал Вернадский и на допросах в ЧК. Речь шла о его пребывании в Лондоне между 1918-м и 1921 годом (этого просто не было), а потому и о шпионаже в пользу англичан. Серьезная, расстрельная статья.
Впрочем, выпустили быстро. На счастье Вернадского, он попал к толковому следователю. Сразу же после революции встречались еще и такие – из интеллигентов-большевиков. Следователь об академике не только слышал, но даже высоко ценил его роль в науке. Поэтому сказал, что о Лондоне в протоколе писать на всякий случай не станет, чтобы опять не «произошла какая-нибудь путаница». И даже извинился. Полагаю, что такой человек дожил максимум до 1937 года.
В конце концов «суверенитет» необычной головы академика Вернадского признала и верховная советская власть. Ноосфера? Да черт с ней! Чем бы ни тешился, чудак! Главное, он еще и гениальный геолог, а стране нужны и золото, и нефть, и металлы. Поэтому Вернадского мизерными тиражами (и исключительно в академических изданиях) даже изредка печатали. Правда, сопровождая каждую работу мыслителя непременным предисловием, что автор, конечно, крупный геолог, но, к сожалению, неисправимый идеалист и его философские идеи, бесспорно, вредны, поскольку противоречат постулатам диалектического материализма.
Других академиков в эти времена заставляют подписывать либо хвалебные, либо разоблачительные коллективные письма, а Вернадского даже не просят, поскольку понимают, насколько это бессмысленно. Других сажают по самым нелепым обвинениям, а Вернадского не трогают, хотя доносы пишут и на него. При этом он сам никак не пытается под новую власть подстроиться. Наоборот, то и дело пишет письма на самый верх, пытаясь защитить то одного, то другого своего ученика.
Как и многие в ту сложную пору, Вернадский служит не Советам, а Родине, ну и, разумеется, науке. То, что социализм – это тупиковая ветвь развития, он понял еще в 1905 году. Как говорил ученый, «это форма низшего порядка даже по сравнению с капиталистическим строем, так как она основана на порабощении человеческой личности». И добавлял с горечью: несчастный русский народ «стал решать сложные мировые вопросы с миропониманием XVII века».
Не мне судить, во всем ли верна идея Вернадского о ноосфере. Он писал для будущего, пусть будущее и разбирается. Зато очевидно другое: редко найдешь человека, который бы так упорно, всю жизнь, стремился к истине. А это тропа настоящего героя. Не я сказал – Джордано Бруно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































