Текст книги "Возможная Россия. Русские эволюционеры"
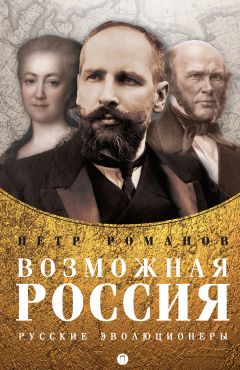
Автор книги: Пётр Романов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Борис Михайлович Шапошников – царский офицер, научивший Красную армию штабной культуре
В советские времена рассуждать вслух о том, какие традиции и военные навыки унаследовала Красная армия от старой, дореволюционной, было, разумеется, не очень уместно. Тогда доминировала идеология, а она действительно была иной. На идеологию и обращали внимание.
Хотя о том, что в военном плане новая армия есть продолжение старой, знали, конечно, многие. Знали сами организаторы Красной армии – прежде всего столь нелюбимый у нас Лев Троцкий. Знал Ленин, полностью поддержавший троцкистскую идею привлечь в рабоче-крестьянскую армию как можно больше царских офицеров. Знали и идеологически упертые большевики, которые этому процессу, даже вопреки мнению Ленина, изо всех сил противились.
Знали об этом и враги Советской власти. Как образно заметил известный монархист Василий Шульгин, некоторые «белые идеи переползли через красный фронт». О том же свидетельствовал и Деникин, подчеркивая, что Троцкий выстраивал армию «всецело по образу и подобию армии императорской, исключение представляли лишь коллегиальная форма верховной военной власти, институт комиссаров и комячейки, в руках которых находился надзор за командным составом и политическое воспитание масс».
Сегодня мало кто помнит, но, благодаря настойчивости Троцкого, в годы Гражданской войны на стороне красных сражалось больше царских офицеров, чем на стороне белых. Только в течение месяца с 15 декабря 1918 года по 15 января 1919 года в Красную армию было призвано более 4300 офицеров и 7600 унтер-офицеров царской армии. В то же время командные курсы большевиков сумели подготовить всего 1340 красных командиров, то есть примерно одну десятую от числа «бывших».
Конечно, среди призванных на фронт офицеров были и те, кто воевал на стороне красных по принуждению, нередко просто из страха за свою семью, но большинство военных специалистов к концу 1918 года камня за пазухой на новую власть уже не держало. Настроение в среде военных специалистов медленно, но неуклонно менялось в пользу большевиков. И потому что советская власть, в отличие от Временного правительства, демонстрировала удивительную жизнестойкость, а это военному человеку импонирует. И потому что на горизонте возникла угроза, которая всегда объединяла русских вокруг власти, какой бы она на тот момент ни была, – угроза иностранной интервенции.
Наконец, были и те, кто принял сначала Февральскую, а потом и Октябрьскую революцию сразу. И в силу понимания, что старый строй прогнил, а с ним загнивает и армия, продемонстрировавшая немало слабых мест, как во время Русско-японской войны, так и в ходе Первой мировой. А главное, потому, что эти люди изначально служили не царю-батюшке, а Родине. А значит, для них смена Россией политического облачения, даже если и вызывала раздражение, принципиально ничего не меняла: родной дом для них не переехал ни в Париж, ни в Лондон. А потому никуда не делся и долг защищать этот дом.
Борис Шапошников, получивший чин подполковника в царской армии, ставший полковником при Временном правительстве и маршалом при Советской власти, – как раз из этих офицеров. Причем он внес самый большой вклад из «бывших» в становление Красной армии, а потом и в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Он, правда, единственный из воевавших маршалов не дожил 44 дня до Победы – умер от туберкулеза.
Среди множества победных салютов, которые в последние дни войны были уже в Москве не редкостью, в честь Шапошникова прогремел и еще один – траурный: двадцать четыре залпа из ста двадцати четырех орудий. И это заслуженно: именно Шапошников (многие его называли «генштабистом от Бога», «патриархом Генштаба», а за рубежом нередко и «мозгом Красной армии», ее «главным стратегом») привил нашим вооруженным силам столь необходимую любой армии штабную культуру.
Борис Шапошников – один из важнейших авторов этой эволюции: от безграмотной в военном плане Красной Гвардии до современной российской армии. Именно он стал мостиком от военного искусства дореволюционной армии к той советской армии, что взяла Берлин.
Борис Михайлович дворянином не был, но и пролетарием тоже. Родился на Урале, в Златоусте, во вполне благополучной, не бедной семье. Отлично учился, а потому мог бы избрать карьеру, как тогда многие считали, выгоднее, но предпочел стать военным. И добивался этого настойчиво.
Первая попытка поступить в Московское военное пехотное училище закончилась неудачно: накануне медкомиссии заболел. Пришлось ждать еще год. Зато закончил его одним из лучших: его имя выбили на мраморной доске, которую и повесили на здании училища. В 1927 году, как пишет в своих воспоминаниях маршал, он ее видел, доска тогда все еще висела.
Если не считать рано проявившихся способностей, Шапошников по своему характеру мало отличался от остальных выпускников. Как он вспоминает: «С производством в офицеры мы делались „полноправными гражданами“: юнкерами нас не пускали ни в один ресторан, а теперь все двери их были открыты перед нами. Я попал в компанию шестерых товарищей, и мы решили сначала скромно в отдельном кабинете большой Московской гостиницы пообедать, а затем закончить вечер в известном кафешантане „Яр“».
А после кафешантана суровые будни – 1-й стрелковый Туркестанский батальон в Ташкенте. Там началась уже практическая учеба будущего маршала.
В Русско-японской войне Шапошников не участвовал, но очень внимательно следил не только за боевыми действиями, а в целом за обстановкой в русской армии, с горечью отмечая все недостатки в ее подготовке и организации. А многие из недостатков являлись производными тогдашней политической системы. «На каждые 500 солдат русской армии, то есть на один батальон, приходилось по одному генералу, – пишет в мемуарах Шапошников. – Явление явно ненормальное. Где же были эти генералы? Очень многие из них заведовали различными приютами или даже родильными домами, „состояли в распоряжении“».
Здесь, полагаю, и надо искать объяснение, почему в будущем Борис Михайлович без особых терзаний расстался со старым миром и с надеждой встретил новый. К тому же к этому моменту за плечами уже была Академия Генерального штаба, которая добавила не только знаний, но и поводов для раздумий и сомнений, а также Первая мировая, которую Шапошников видел уже своими глазами, побывал под огнем и получил тяжелую контузию.
Февраль в его карьере мало что изменил, ему присвоили звание полковника, а съезд делегатов военно-революционных комитетов избрал Шапошникова начальником Кавказской гренадерской дивизии. Для тех, кто знает историю тех дней, этот факт говорит о многом. Не так часто царские офицеры вызывали тогда у солдат доверие. Шапошников доверие вызывал и как хороший командир, и потому, что всю жизнь очень хорошо относился к солдату.
Впрочем, Шапошников вообще был предельно вежливым человеком. Во всех воспоминаниях о нем непременно фигурирует его любимое обращение ко всем: «голубчик». Даже когда Борис Михайлович кого-то укорял, самое страшное, что тот мог услышать, это было: «Ну что же вы, голубчик…»
Многое о настроениях Шапошникова в те времена говорит и тот факт, что, несмотря на свою мягкость, он всегда был, как и положено командиру, готов принять быстрые и твердые решения. Вот и здесь, назначенный солдатами командиром, Борис Михайлович тут же решительно убрал из своей дивизии нескольких черносотенцев из числа офицеров и унтер-офицеров, а затем пресек попытки выступлений анархистов. То есть сумел в те дни безумного хаоса сохранить дивизию как управляемую боевую единицу.
Октябрь Шапошников принял как закономерное продолжение Февраля и продолжал честно служить новой власти на разных должностях. Думаю, о многом говорит тот факт, что уже в 1921 году Шапошников был награжден крайне редким в ту пору орденом Красного Знамени.
При этом, как заметил один из сослуживцев Бориса Михайловича, «по возможности» он старался держаться подальше от политики. В идеале для Шапошникова было бы – иметь возможность заниматься лишь своим любимым военным делом. Но… не та это была власть. Верность тогда требовалось скреплять кровью. И если бы только своей…
Так что и на шинели Бориса Михайловича есть пятна, о которых нельзя умолчать. В 1937 году в составе Специального судебного присутствия Верховного суда СССР, который судил маршала Советского Союза Тухачевского, командармов 1-го ранга Уборевича и Якира, командарма 2-го ранга Корка, комкоров Фельдмана, Эйдемана, Примакова и Путны, значится и фамилия Шапошникова. Что он по этому поводу думал в реальности, как, скажем, и Блюхер (и он был в составе суда), не мне судить. Однако подозреваю, что и без того больное сердце Шапошникова от этого жизненного эпизода здоровее не стало.
Разумеется, от каких-то старых понятий Шапошников не хотел, да, наверное, и не мог отказаться. И Сталин, который уважал мнение Шапошникова в военных вопросах, похоже, это понимал, а потому не требовал от него того, что требовал от других командиров. Шапошников был одним из немногих, к кому Сталин обращался по имени-отчеству, а тот, в свою очередь, называл вождя не «товарищ Сталин», а просто Иосиф Виссарионович. Была у Шапошникова и еще одна редчайшая по тем временам привилегия: только ему вождь позволял курить в своем кабинете.
Приведу две истории, рассказанные очевидцами. Однажды в Ставке Верховный спросил у Шапошникова, какое наказание понес генерал – начальник штаба объединения, который в донесении, мягко говоря, идеализировал успехи своих войск. Борис Михайлович ответил, что виновнику объявлен выговор.
«И это все? – удивился Сталин. – У нас выговор объявляют в каждой партячейке. Для военного человека это не наказание». Шапошников с достоинством ответил: «Это очень тяжелое наказание. Получивший выговор от начальника Генерального штаба должен подать в отставку». Это говорила в Борисе Михайловиче старая, еще дореволюционная выучка. Полагаю, мысленно Сталин только развел руками, но оспаривать решение Шапошникова не стал.
И еще одно. По разным свидетельствам, Шапошников был верующим человеком. Не знаю, как он относился к РПЦ, но в Бога верил. Носил ладанку, в которой держал почерневший от времени нательный казацкий серебряный крест (его дед был донским казаком) и несколько образков. Более того, как рассказывал его сын, маршал даже регулярно молился перед иконой. Правда, на свой лад: «Спаси, Господи, мою Родину и русский народ!»
Сталину, естественно, донесли, а ладанку втайне от маршала осмотрели. В результате при первой встрече Сталин с легкой усмешкой заметил ничего не подозревавшему маршалу: «Ну что, Борис Михайлович, будем молиться о Родине?» На этом религиозная тема была закрыта.
Шапошников возглавлял Генеральный штаб неоднократно. Несмотря на корректные отношения со Сталиным, наказывали порой и его. Однако тоже весьма своеобразно. Скажем, перед тяжкой Северной войной с финнами (1939–1940) Генеральный штаб и Шапошников разошлись с вождем в оценке противника. Шапошников предлагал использовать в предстоящей войне не только силы Ленинградского военного округа, но и резервы, но подвергся резкой критике Сталина за переоценку возможностей финской армии.
Дальнейшие события показали, что прав был Шапошников. Однако Сталин, понятное дело, не мог быть не прав. Поэтому власть, подводя итоги войны, свои ошибки признала, но «козлами отпущения» сделала Ворошилова – тогда наркома обороны и Шапошникова – начальника Генштаба.
Из воспоминаний ученика Шапошникова маршала Василевского: «О том, что предшествовало перемещению Шапошникова, я знаю со слов Бориса Михайловича. Сталин, специально пригласивший его для этого случая, вел разговор в очень уважительной форме. После советско-финского вооруженного конфликта, сказал он, мы переместили Ворошилова и назначили наркомом Тимошенко. Относительно Финляндии вы оказались правы: обстоятельства сложились так, как предполагали вы. Но это знаем только мы. Между тем всем понятно, что нарком и начальник Генштаба трудятся сообща и вместе руководят Вооруженными Силами. Нам приходится считаться, в частности, с международным общественным мнением, особенно важным в нынешней сложной обстановке. Нас не поймут, если мы при перемещении ограничимся одним народным комиссаром. Кроме того, мир должен знать, что уроки конфликта с Финляндией полностью учтены. Это важно для того, чтобы произвести на наших врагов должное впечатление и охладить горячие головы империалистов. Официальная перестановка в руководстве как раз и преследует эту цель».
Слова вождя столь сильно напоминали непривычное для Сталина извинение, что у Шапошникова не возникло ни малейшей обиды. Тем более, с Шапошниковым советовались, невзирая на должность, которую он в тот момент занимал. Или вообще не занимал: Борис Михайлович сильно болел, поэтому иногда просто не мог продолжать работу в нормальном ритме. Хотя даже в эти дни связь с Генштабом держал постоянную и фактически, так или иначе, участвовал в разработке всех важнейших операций Отечественной войны. Вспоминают, что, принимая в Ставке от кого-либо, даже от Василевского, доклад из Генштаба, Сталин сначала непременно интересовался, советовались ли предварительно с Борисом Михайловичем.
После финской истории вторично Шапошников возглавил Генштаб вскоре после неудачного для нас начала войны с Германией. Сталин очень нервничал, от рекомендаций Генштаба зло отмахивался, не говоря уже о том, что не давал генштабистам спокойно заниматься своим делом. В первые недели войны сотрудников Генштаба Сталин то и дело посылал на фронт, надеясь таким образом закрыть брешь то на одном, то на другом участке.
Жуков, командовавший тогда Генштабом, в конце концов не выдержал и предложил Сталину отправить его «в поле» к войскам, поскольку там он, имея командный опыт, принесет больше пользы. Подумав, Сталин принял правильное решение: Константин Георгиевич направился на фронт, а в Генштаб вернулся Шапошников. Все воспоминания подтверждают, что с приходом в Генштаб Бориса Михайловича обстановка там коренным образом изменилась, все успокоились и началась планомерная работа. Изменилось и отношение Сталина к предложениям Генштаба. Все встало на свои места.
Разумеется, отправную точку на пути к победе в Великой Отечественной войне можно определять по-разному. Но мне кажется, что, несмотря на массу жесточайших испытаний, которые еще предстояло перенести в войне нашей стране, тот факт, что все наконец заняли свои места, успокоили нервы и начали планомерную работу (Жуков на фронте, Шапошников за картой в Генштабе, Сталин в Ставке), и есть та самая отправная точка.
Здесь и начался путь на Берлин.
Святитель Лука – архиепископ, «враг народа», лауреат Сталинской премии
Впервые столкнувшись с именем Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (он же православный архиепископ Лука), подумал, что жизнь порой закручивает сюжеты круче любого романиста. Настолько необычна судьба этого человека, спасшего тысячи людей, не сломленного пытками в ЧК, тюрьмой, ссылками и даже слепотой, которая настигла его в последние годы жизни. Доктор медицинских наук и доктор богословия. «Враг народа» и сталинский лауреат. Автор целого ряда блестящих научных работ и крупный духовный писатель.
Епископ Лука (1877–1961) из белорусских дворян. Вероятно, с польскими корнями, если судить по фамилии. Однако из дворян настолько обедневших, что его дед, согласно семейным воспоминаниям, жил в курной избе (топилась по-черному) и ходил в лаптях. Вообще, прошлое семьи и жизнь будущего архиепископа связаны не сильно. Разве только тем фактом, что отец епископа был человеком верующим, но все же не православным, а католиком. И он же (отец) года два работал в аптеке, что вряд ли объясняет выдающиеся способности хирурга Войно-Ясенецкого.
К моменту исторического перелома в 1917 году Войно-Ясенецкому стукнуло ровно сорок. К этому периоду он уже был, разумеется, человеком зрелым, с вполне устоявшимися взглядами на мир.
Хотя процесс созревания прямым не был, в юности его бросало в разные стороны. Хотелось быть и врачом, и художником: даже закончил в Киеве, помимо гимназии, художественную школу. Поначалу пересилила медицина, но будущее светило хирургии вступительные экзамены в университет сдал средне, поэтому ему предложили на выбор вместо медицины что-то другое. Поколебавшись, выбрал юридический факультет, откуда, однако, через год ушел, опять увлекшись рисованием.
Кстати, именно рисование во многом и определило дальнейший путь Войно-Ясенецкого: решил сделать портретную галерею людей с улицы, а в результате своими глазами увидел нищету и страдания простого человека, что произвело на юношу огромное впечатление. Хотя дома и жили очень скромно, но нищета… С ней он так плотно столкнулся впервые.
Первая реакция была чистой, однако наивной: ударился в толстовство, спал на полу, ездил за город косить рожь с крестьянами, писал Льву Николаевичу, просясь под его крыло. Впрочем, прочитав работу своего кумира «В чем моя вера?», быстро в толстовстве разочаровался.
Но самое главное – стремление помогать другим – осталось с ним на всю жизнь. Потому, уже всерьез поразмыслив, Войно-Ясенецкий и пошел снова на медицинский. А блестяще закончив университет, из всех возможных вариантов выбрал самый скромный – путь земского врача. А тем, кто высказывал недоумение, так и отвечал: «Я изучал медицину с исключительной целью: быть всю жизнь земским, мужицким врачом».
Во время Русско-японской войны 1905 года работал в госпитале Красного Креста, спасая раненых, причем уже тогда брался за самые трудные операции. А после войны – снова земские больницы, причем в самой глубинке. В Калужской губернии работал в недостроенной больнице села Верхний Любаж, поэтому принимал тогда больных везде, где мог: на выездах, у себя дома. Во времена, когда в губернии свирепствовали брюшной тиф, корь и оспа, не колеблясь ездил в самые горячие очаги эпидемии.
И уже в те времена, задолго до большевиков, Войно-Ясенецкий начал конфликтовать с властью. Исправник-черносотенец добился отставки врача и объявил его революционером за то, что тот не бросил тяжелого больного, чтобы поспешить к самому исправнику по какому-то пустячному поводу.
К 1917 году за плечами Войно-Ясенецкого уже был богатейший опыт практической работы в самых разных условиях, сложнейшие операции, научные работы. Особенно его интересовали те области, где в хирургии ощущалось отставание: гнойная хирургия и анестезиология. В 1909 году на заседании хирургического общества в Москве Войно-Ясенецкий сделал свой первый научный доклад, который принес ему широкую известность в медицинских кругах. В 1915 году издал в Петрограде книгу по анестезии с собственными иллюстрациями, а на следующий год защитил докторскую диссертацию по этой же теме.
Бурные революционные события застали Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого в Ташкенте, куда он переехал из-за климата, чтобы помочь больной туберкулезом жене. И встретил революцию уже не романтическим юношей-толстовцем, а с мужеством зрелого человека, который не раз смотрел в лицо смерти и в тифозных бараках, и в операционной.
Когда в городе начали свирепствовать революционные «тройки», под каток репрессий попал и хирург, на которого донесли, что он укрывает у себя дома тяжело раненного казачьего есаула. Дело объяснялось вовсе не совпадением политических взглядов есаула и хирурга, а просто врачебной этикой. На что «тройке» было, разумеется, наплевать.
На этом история могла бы и закончиться, поскольку после трехминутного допроса «тройкой» каждый из арестованных, как правило, отправлялся во двор на расстрел: приговор приводили в исполнение немедленно. По воспоминаниям задержанного вместе с ним человека, Войно-Ясенецкий, ожидая, казалось, неминуемого, проявил удивительную выдержку и всячески поддерживал других.
К счастью, врачу тогда фантастически повезло. Через комнату, где ожидали своей участи арестованные, случайно проходил один из крупных местных большевиков, который узнал врача и, видимо, понимал, что такими талантами не разбрасываются: даже «железные» чекисты все-таки тоже болели. А потому не только освободил его и отправил назад в больницу, но даже до клиники на всякий случай проводил, объяснив, что «времена теперь беспокойные». А хирург, оказавшись в больнице, тут же, как будто ничего не произошло, распорядился готовить пациентов к операции.
Сам Валентин Феликсович свой арест пережил хладнокровно, а вот его и без того больная жена потрясения не выдержала. Две ночи после ее кончины будущий архиепископ читал над гробом Псалтырь. Верующим врач был всегда, но после смерти жены его религиозные взгляды укрепились. Рассказывают, что сразу же после смерти жены перед началом очередной операции хирург неожиданно для всех перекрестился, перекрестил ассистента, операционную сестру и пациента. Тот – по национальности татарин – удивленно заметил: «Я ведь мусульманин. Зачем же вы меня крестите?» Войно-Ясенецкий ответил: «Хоть религии разные, а Бог один. Под Богом все едины».
Священником врач стал в самые трудные времена. В конце 1920 года он присутствовал на епархиальном собрании, где произнес речь о ситуации в Ташкентской епархии. Под впечатлением этого епископ Туркестанский и Ташкентский Иннокентий (Пустынский) предложил Валентину Феликсовичу стать священником.
В своих воспоминаниях Войно-Ясенецкий пишет: «Когда кончился съезд и присутствовавшие расходились, я неожиданно столкнулся в дверях с Владыкой Иннокентием. Он взял меня под руку… Мы обошли два раза вокруг собора, Преосвященный говорил, что моя речь произвела большое впечатление, и, неожиданно остановившись, сказал мне: „Доктор, вам надо быть священником!“…У меня никогда не было и мысли о священстве, но слова Преосвященного Иннокентия принял как Божий призыв и, ни минуты не размышляя, ответил: „Хорошо, Владыко! Буду священником, если это угодно Богу!“»
Согласился сразу, хотя, конечно, прекрасно понимал, какой тяжкий крест взваливает на свои плечи. Уже через неделю он был посвящен в чтеца, певца и иподиакона, затем – в диакона, а 1921 году – в иерея. С тех пор и в больницу, и в университет отец Валентин стал приходить в рясе, с крестом на груди, установил в операционной иконы Божьей Матери и стал молиться перед началом операции.
А уже летом того же года новое противостояние с ЧК. Обвиняли, правда, не самого Войно-Ясенецкого, а другого – хирурга Ситковского – во вредительстве. А Валентина Феликсовича пригласили среди прочих в качестве эксперта. Здесь он и столкнулся с главой следственной комиссии – известным в нашей истории чекистом латышом Яковом Петерсом. Речи эксперта чекисту очень не понравились. Эксперт не только, опираясь на науку, убедительно доказал, что все обвинения против коллеги являются безграмотными, но и на прочие вопросы отвечал, с точки зрения новой власти, вызывающе дерзко.
Когда Петерс спросил: «Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?», то услышал в ответ следующее: «Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?» Или такой обмен ударами: «Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы его видели, своего Бога?» – «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил». Ну и так далее в том же роде.
Следует ли после этого удивляться, что священник и хирург стал для советской власти врагом? Тем более что обвинение против Ситковского после ответов эксперта провалилось. Вместо расстрела Ситковский и его коллеги были приговорены к шестнадцати годам тюрьмы. Но уже через месяц их стали отпускать на работу в клинику, а через два – совсем освободили.
Какое-то время священника и хирурга не трогали. Видимо, дел у новой власти хватало и без него. В 1923 году Валентин Феликсович был тайно пострижен (в собственной спальне) в монахи, с именем Лука. А вскоре наречен епископом Барнаульским. Поскольку для присвоения епископского сана необходимо присутствие двух или трех епископов, Валентин Феликсович поехал в город Пенджикент, недалеко от Самарканда, где отбывали ссылку два архиерея – епископ Волховский Даниил и епископ Суздальский Василий.
Так у православной церкви появился новый епископ Лука, он же известный врач, а у советской власти – блестящий хирург в сане епископа. Церковь к появлению в своих рядах врача отнеслась спокойно, а вот власть к появлению в Стране Советов врача-епископа – с нескрываемым раздражением.
Тут же, в Ташкентском университете, где преподавал Лука, состоялся студенческий митинг, который потребовал немедленного увольнения профессора-епископа. Надо отдать должное руководству университета, которое воспротивилось этим явно спровоцированным требованиям и даже предложило Валентину Феликсовичу руководить еще одной кафедрой. Но он, чтобы не ставить порядочных людей в трудное положение, сам написал заявление об уходе. Ну а вслед за митингом, что не удивительно, в «Туркестанской правде» появилась статья: «Воровской архиепископ Лука», а еще через пару дней профессора арестовали.
Перечислять разнообразные обвинения в адрес архиепископа не буду. Их слишком много, поскольку потом его арестовывали еще не раз. Да и сама абсурдность обвинений лишает их всякого смысла. Однажды его обвиняли в связях с англичанами, которые он осуществлял якобы через турецкую границу, и участии в казачьем заговоре на Урале. Причем все это якобы происходило в одно и то же время. Рассказывая позже о нелепости обвинения, Владыка даже улыбался: «Все мои попытки объяснить им, что для одного человека это физически невозможно (действительно, где Турция и где Урал?), ни к чему не приводили».
В общей сложности он провел в заключении и ссылках, включая Таганскую тюрьму и знаменитый Туруханский край, где бывал и в деревне, в которой когда-то отбывал ссылку Сталин, одиннадцать лет. И пыткам подвергался. Например, не давали спать тринадцать суток! И длительную голодовку не раз объявлял.
И все-таки выжил, причем везде, где только мог, лечил и выполнял свой долг священника. Лечил и проповедовал в самых жутких условиях, иногда делая операции простым ножом, а вместо хирургической нити используя простой женский волос. В ссылках крестил крестьянских детей в полутьме при лучине, окуная ребенка в простое корыто, чувствуя рядом с лицом дыхание коровы. Помогал людям и в тюрьме, и в ссылках, не говоря уже о небольших временных «окнах» между ссылками. Причем лечил всех, невзирая ни на что. Лечил бандитов и жуликов, лечил и большевиков.
Однажды на Памире во время альпинистского похода заболел бывший личный секретарь Ленина Николай Горбунов. Состояние его оказалось столь тяжелым, что вызвало смятение у советского руководства. Для его спасения в Сталинабад был срочно вызван Войно-Ясенецкий. После успешной операции Валентину Феликсовичу в качестве благодарности предложили возглавить Ста-линабадский НИИ. Он согласился, но лишь при условии восстановления городского храма. Разумеется, архиепископу отказали. Отказался и он.
И еще: при любой возможности Валентин Феликсович брал в руки не только скальпель, но и перо. Голова у этого человека работала в любых условиях. Первую часть своей знаменитой монографии «Очерки гнойной хирургии» Валентин Феликсович закончил в ташкентской тюрьме.
Читая его биографию, отчетливо понимаешь, в какое нелепое и сложное положение он постоянно ставил власть, поскольку одновременно ее бесил и был ей необходим. Почему не расстреляли, как других? Думаю, что священника расстреляли бы с удовольствием, но он же был еще и великим врачом.
Войно-Ясенецкий никогда не пытался скрывать своих политических и религиозных убеждений: наоборот, при первой же возможности на допросах излагал их подробно и четко. Вот выписка из одного протокола: «Я являюсь идейным и непримиримым врагом Советской власти. Это враждебное отношение у меня создалось после Октябрьской революции и осталось до сего времени… так как не одобрял ее кровавых методов насилия над буржуазией, а позднее, в период коллективизации, мне было особенно мучительно видеть раскулачивание кулаков… Большевики – враги нашей православной церкви, разрушающие церкви и преследующие религию, враги мои, как одного из активных деятелей церкви, епископа».
И в то же время в начале Великой Отечественной войны Лука отправляет телеграмму Михаилу Калинину: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий… являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука».
Местные власти, а он тогда отбывал очередную ссылку в Красноярском крае, телеграмму в Москву не передали, а решили использовать профессора сами: эвакуированных и тяжелых раненых хватало и здесь. С октября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. Он работал по восемь-девять часов, делая три-четыре операции в день, что, учитывая его возраст и здоровье, подорванное постоянными преследованиями, было уже далеко не просто. Тем не менее каждое утро он начинал с молитвы в пригородном лесу (в Красноярске в это время не осталось ни одной церкви), а потом шел к операционному столу.
В феврале 1945 года РПЦ наградила архиепископа правом ношения на клобуке бриллиантового креста. В декабре 1945 года Лука был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». А в начале 1946 года постановлением СНК СССР с формулировкой «За научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах» профессору Войно-Ясенецкому была присуждена Сталинская премия первой степени. Почти все деньги от премии он передал на помощь детским домам.
Работал до последних дней. Воспоминания о своей столь неординарной судьбе архиепископ Лука, выдающийся русский хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий диктовал, уже ослепнув.
О реабилитации этого выдающегося человека, который без устали врачевал тело и душу человека, да и само больное общество, задумались почему-то совсем недавно – лишь в 2000 году. В том же году Архиерейским собором Русской православной церкви он прославлен как исповедник (святой) в сонме новомучеников и исповедников Российских.
И наконец, только в 2000 году (ждали, похоже, официальной реабилитации) был опубликован его труд «Наука и религия», где хирург и архиепископ попытался объяснить, как ему самому удавалось соединять материализм с идеализмом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































