Текст книги "Теории всего на свете"
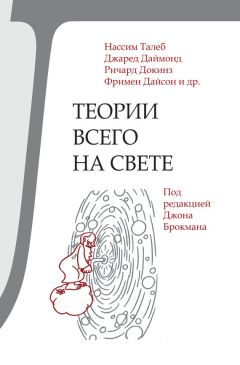
Автор книги: Ричард Докинз
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Как подвести научную базу под психотерапию: пять простых уроков
Эрик Р. Кэндел
Психотерапевт, профессор Колумбийского университета; автор книги The Age of Insight: The Quest of Understand the Unconscious in Art, Mind and Brain, from Vienna 1900 to the Present («Эпоха открытий. В поисках понимания бессознательного в искусстве, уме и мозге, от Вены 1900 года до наших дней»)
Каким образом психоанализ, некогда служивший основным средством для борьбы с непсихотическими душевными расстройствами, мог так низко пасть в мнении и врачебного сообщества, и общественности в целом? Как вернуть ему утраченную репутацию? Позвольте мне попытаться ответить на эти вопросы, поместив проблему в исторический контекст.
На старших курсах Гарварда я увлекся психиатрией, в особенности психоанализом. В годы моего обучения (1960–1965) психотерапия служила главным методом лечения психических заболеваний. Этот метод, по сути, вырос из психоанализа. Его главная идея такова: симптомы душевной болезни необходимо рассматривать сквозь призму детства пациента, где и коренятся причины недуга. Лечение нередко растягивалось на годы, и ни его результаты, ни механизмы никогда не подвергались систематическому изучению, поскольку считалось, что это слишком сложная и трудоемкая задача. Психотерапия и психоанализ в случае успешного применения позволяли пациентам работать чуть-чуть лучше и чуть-чуть любить, а эти сферы – работы и любви – считались тогда не очень-то подвластными количественному измерению.
В 1960‑е годы Аарон Бек все это переменил, предложив несколько важнейших нововведений – вполне очевидных, но от этого не менее элегантных и красивых.
Первое: он разработал инструментарий для количественной оценки душевных недугов. До работ Бека психиатрическим исследованиям препятствовала нехватка методик измерения параметров различных заболеваний и их остроты. Бек создал целый ряд инструментов: шкалу депрессии, безнадежности, склонности к суициду. Эти шкалы помогли объективизировать психопатологические изыскания и улучшить клинический результат.
Второе: Бек предложил новую краткосрочную доказательную терапию, которую назвал когнитивно-поведенческой.
Третье: он сделал методы лечения более доступными, написав учебник для врачей. В принципе, мы с вами тоже можем научиться проводить сеансы когнитивно-поведенческой терапии.
Четвертое: с помощью нескольких коллег Бек провел ряд экспериментов (степень контролируемости опытов неуклонно повышалась), показывавших, что когнитивноповеденческая терапия при лечении слабой и умеренной депрессии действует эффективнее разного рода плацебо и столь же эффективно, как антидепрессанты. При острой депрессии ее эффективность меньше, чем у антидепрессантов, однако ее действие суммируется с действием лекарств, тем самым дополнительно способствуя выздоровлению.
Знамя Бека подхватила Элен Мэйберг, тоже принадлежащая к числу моих психиатрических героев. Обследуя методом функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) мозг пациентов, страдающих депрессией, она обнаружила, что при депрессии бродмановское поле мозга оказывается средоточием аномальной активности. Далее она выяснила, что эта аномальность приходит в норму, лишь когда пациент откликается на когнитивно-поведенческую терапию или на введение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина.
После такого экскурса в историю я расскажу, какое изящное и глубокое объяснение Аарон Бек привнес в свою работу: оно-то и позволило ему стать по-настоящему выдающимся исследователем.
Бек увлекся радикальной идеей, согласно которой основная причина многих психических расстройств – не какой-то бессознательный конфликт, а искаженный рисунок мышления. Он пришел к этой новаторской идее, выслушивая (критически и непредвзято) своих пациентов, страдающих депрессией. Ее источник, решил он, – «гнев, проецируемый внутрь». В рамках этой гипотезы утверждается, что пациенты, страдающие депрессией, испытывают глубинную враждебность и гнев по отношению к кому-то, кого они любят, кто им важен. Однако больные не могут позволить себе питать недружественные чувства к таким людям, а потому подавляют свой гнев и направляют его внутрь – на себя. Бек проверил эту гипотезу, сопоставляя сновидения (пролагающие широкую дорогу к бессознательному) пациентов, страдающих депрессией, со снами людей без депрессии. Он обнаружил, что в своих снах депрессивные пациенты показывали меньше враждебности к другим, чем те, кто депрессии не испытывал, и очень часто видели себя «неудачниками».
Бек рассматривал такой искаженный рисунок мышления не просто как симптом (отражение конфликта, таящегося где-то в глубине души), а как важнейший этиологический агент, подпитывающий заболевания. Это позволило ему разработать системную методику психологического лечения депрессии. Такое лечение как раз и было сосредоточено главным образом на борьбе с «искаженным мышлением». Он обнаружил, что рост объективности пациентов по отношению к интерпретации различных жизненных ситуаций или к их когнитивным отклонениям или негативным ожиданиям приводит к значительным сдвигам в характере мышления и к последующим улучшениям в реакциях и поведении.
Занимаясь проблемами депрессии, Бек уделял особое внимание суициду. Он впервые подвел рациональную базу под классификацию и оценку типов суицидального поведения. В результате оказалось возможным заранее выделять людей с высокой степенью предрасположенности к самоубийству. Его обследование 9 тысяч пациентов позволило вывести алгоритм предсказания будущих самоубийств, который, как выяснилось, обладает большой прогностической силой. Особенно полезными для предсказания будущих самоубийств оказались методы идентификации таких клинических и психологических параметров, как ощущение безнадежности и беспомощности. Эти факторы оказались более эффективными для предсказания суицида, чем клиническая депрессия сама по себе. Суицидологические исследования Бека (и других ученых, в том числе Джона Манна из Колумбийского университета) демонстрируют, что кратковременное вмешательство при помощи когнитивной терапии может существенно понизить вероятность последующих попыток пациента свести счеты с жизнью.
В 1970‑е годы Бек провел уже упомянутые жестко контролируемые опыты. Позже в Национальном институте психического здоровья США осуществили аналогичные испытания. В результате удалось утвердить когнитивную терапию как первую методику психологического лечения, зарекомендовавшую себя эффективной при борьбе с клинической депрессией.
Едва когнитивную терапию сочли эффективной для лечения депрессии, Бек обратился к другим психическим отклонениям. В ходе контролируемых клинических испытаний он показал, что когнитивная терапия эффективна при борьбе с паническими состояниями, посттравматическим стрессом и маниакально-депрессивным психозом. Собственно, еще до работ Элен Мэйберг в области депрессии Льюис Бакстер из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, проводя сканирование мозга страдающих маниакально-депрессивным психозом, обнаружил аномалии, которые начинали сглаживаться под действием когнитивно-поведенческой терапии.
В последнее время Аарон Бек стал заниматься пациентами, страдающими шизофренией, и выяснил, что когнитивная терапия помогает улучшить ситуацию с их когнитивными и негативистскими симптомами, особенно касающимися недостатка мотивации. Что ж, еще одно замечательное достижение.
Так что пресловутый «закат психоанализа» может объясняться не ограниченностью фрейдистской мысли, а нехваткой глубокого, критического научного подхода у последующих поколений психотерапевтов. Я почти не сомневаюсь, что когнитивная терапия – чрезвычайно полезный метод лечения. Проведены многочисленные исследования, подтверждающие мое мнение. Однако изящное, глубокое и красивое доказательство требует совмещения целого ряда проверенных и надежных подходов, чтобы по-настоящему убедительно выступить в защиту этого метода и, быть может, даже подарить нам идею о том, каким же образом достигается его терапевтический эффект.
Переходные объекты
Шерри Тёркл
Профессор социальных исследований в науке и технике Массачусетского технологического института; автор книги Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other («Вместе, но в одиночестве: почему мы все больше ожидаем от технологии и все меньше – друг от друга»)
В середине 1970‑х, в мои студенческие времена, я изучала психологию в Гарварде. В частности, я занималась у Джорджа Гоуталса. Он рассказывал нам о страсти в мышлении и о логической структуре, лежащей в основе страсти. Гоуталс, психолог, специализировавшийся на периоде полового созревания, вел семинар по психоанализу. Главное внимание он уделял одному из его направлений – британской теории объектных отношений. Соответствующая психоаналитическая традиция постоянно обращается к обманчивопростому вопросу: как мы воспринимаем окружающих и что они значит для нас «внутри» нас. «Объекты» в названии теории – это, собственно, люди.
Несколько занятий посвящались работам Дэвида Винникотта и выработанному им понятию переходного объекта. Винникотт называл «переходными» предметы из детства – мягкие игрушки в виде животных, кусочки шелка из детского одеяльца, любимую подушку, – которые ребенок воспринимает и как часть себя, и как часть внешней («расширенной») реальности. По Винникотту, такие объекты – своего рода посредники между детским ощущением связи с телом матери и растущим осознанием, что ты являешься отдельным существом. Переходные объекты детской обречены на то, чтобы их рано или поздно забросили. Однако, утверждает Винникотт, они оставляют следы, которые сказываются на всей оставшейся жизни человека. В частности, эти объекты влияют на то, насколько легко у человека развивается умение радоваться, ощущать эстетические переживания, заниматься творчеством. Переходные объекты, принадлежащие и нашему Я, и Другому (внешней среде), показывают ребенку, что объекты окружающего мира можно любить.
Как полагает Винникотт, на всех этапах жизни мы продолжаем искать объекты, которые ощущались бы нами как находящиеся одновременно и внутри, и вне нашего Я. Мы вырастаем из детского одеяльца, но продолжаем поиск того чувства цельности, которое оно нам дарило. И находим его в моменты ощущения единства с миром: Фрейд называл это «океаническим чувством». Мы переживаем такие моменты, чувствуя свое единение с произведением искусства, с прекрасным видом, с сексуальным партнером.
В качестве научного предположения теория переходного объекта имеет свои ограничения. Но как способ мышления о разного рода психологических связях она представляет собой мощный инструмент. В частности, она позволила мне начать понимать те новые взаимоотношения, которые люди завязывают с компьютерами: изучением этих проблем я занялась в конце 1970–1980‑х годов. С самого начала, обратившись к исследованию нарождающейся цифровой культуры, я увидела, что компьютеры – отнюдь не «всего-навсего инструменты» (как утверждали тогда многие). Это машины весьма интимного свойства. Человек воспринимает их как часть себя: они одновременно и отделены от нашего Я, и связаны с ним.
Так, один романист, использовавший текстовую программу, отмечал свое «особое эмоциональное взаимодействие с машиной. Слова текут из меня наружу. Я делю экран со своими словами». А один архитектор, разрабатывавший с помощью компьютера свои проекты, пошел еще дальше: «Я не вижу будущее здание в своем воображении, пока не начну играть с формами и контурами на компьютере. Конструкция оживает где-то в пространстве между моими глазами и экраном». Пройдя курс обучения программированию, одна тринадцатилетняя девочка сказала, что, работая на компьютере, она чувствует, как «небольшой кусочек твоего ума становится небольшим кусочком ума компьютера, так что ты начинаешь видеть себя по-другому».
Один программист уверял, что его сознание «сплавляется с компьютером воедино, словно в пламени вулкана».
Когда я начала изучать эту особую силу воздействия компьютера на человека, мне вспомнились занятия у Джорджа Гоуталса и наш кружок старшекурсников-гарвардцев, погруженных в изучение Винникотта. Компьютеры служат своего рода переходными объектами. Они возвращают нам ощущение единства с миром. Музыканты часто внутренне слышат музыку, перед тем как ее исполнить: ощущение музыки приходит к ним и извне, и снаружи. Сходным образом и компьютер часто воспринимается как объект, находящийся на границе между Я и не-Я. Подобно тому как музыкальные инструменты могут служить продолжением нашего внутреннего процесса создания звука, и компьютеры могут являться продолжением нашего внутреннего процесса создания мысли.
Такие размышления о компьютере как о «вдохновляющем объекте» подводят нас к одной изысканной шутке, доступной лишь посвященным. Ведь когда психоаналитик толкует об объектных отношениях, он всегда имеет в виду людей. С самого начала люди воспринимали компьютеры как «живых» или «вроде как живых». А с приходом компьютеров психоанализ объектных отношений можно распространить и на объекты в прямом смысле слова. Люди чувствуют собственное единение с видеоиграми, со строчками кода, с аватарами, под которыми выступают в виртуальном мире, со своими смартфонами. Классические переходные объекты должны быть рано или поздно оставлены, и в дальнейшей жизни они задним числом вновь обретают силу лишь в моменты особенно острых переживаний. Но когда наши нынешние цифровые устройства (наши смартфоны, мобильники и прочее) приобретают силу переходных объектов, вступает в действие новая психология. Эти цифровые объекты вовсе не обречены на то, чтобы их оставили в прошлом. Выходит, нам суждено стать киборгами.
Естественный отбор – вещь простая, но системы, которые он формирует, невообразимо сложны
Рэндольф Нессе
Профессор психиатрии и психологии Мичиганского университета; автор книги Why We Get Sick: The New Science of Darvinian Medicine («Почему мы заболеваем: новая дарвинистская медицина»)
Принцип естественного отбора необычайно прост. Если у каких-то особей в популяции есть наследуемая черта, позволяющая иметь больше потомства, по мере смены поколений эта черта обычно становится более распространенной в данной популяции.
А вот плоды естественного отбора сложны. Они сложны не только в том смысле, в каком сложны машины: они изначально сложны, поскольку принципиально отличаются от продуктов, придуманных и сделанных человеком. Поэтому нам непросто полностью описать их или понять. А значит, приходится прибегать к великой уловке человеческого понимания – метафоре. Итак, уподобим тело машине.
Эта метафора позволяет легче представлять системы, обеспечивающие деление клеток, иммунный отклик, регулирование уровня глюкозы в организме и т. п.: мы рисуем квадратики для тех или иных деталей машины (органов тела) и стрелочки, дабы показать причинные связи. Подобные схемы позволяют сжато излагать важную информацию так, чтобы мы сумели ее ухватить. Учителя вычерчивают их на уроках. Студенты старательно запоминают их. Однако такие схемы совершенно неверно представляют природу сложности органического мира. Как отмечал Джон Скотт Холдейн в своей пророческой книге 1917 года, «живой организм в действительности обладает лишь небольшим сходством с обыкновенной машиной»[71]71
John Scott Haldane, Organism and Environment as Illustrated by the Physiology of Breathing (New Haven, CT: Yale University Press, 1917), 91.
[Закрыть]. Машины обдуманно конструируются; они состоят из отдельных деталей, и каждая выполняет определенную функцию. Обычно машины не меняются после того, как их выключают. Идентичные экземпляры любой машины производят по одному и тому же чертежу. А вот организмы эволюционируют. У них есть компоненты с нечеткими границами и с множественными функциями, и эти компоненты взаимодействуют с огромным количеством других частей и с окружающей средой, в результате чего возникают самоподдерживающиеся размножающиеся системы, выживание которых требует постоянной активности и сотрудничества тысяч взаимозависимых подсистем. Индивидуальные организмы развиваются из уникальных комбинаций генов, эти гены взаимодействуют друг с другом и со средой, создавая фенотипы, и двух идентичных фенотипов нет.
Представление о теле как о механизме стало огромным шагом вперед в XVI веке, предложив альтернативу витализму и смутным концепциям жизненной силы. Теперь же этот взгляд устарел. Он искажает наше восприятие биологических систем, побуждая нас считать их более просто и разумно «сконструированными» по сравнению с реальным положением дел. Специалисты давно знают, что эта метафора неточна. Они понимают, что природные механизмы, регулирующие тромбообразование, лишь очень грубо и приблизительно представлены аккуратненькими диаграммами, которые заучивают студенты-медики: в системе тромбообразования большинство молекул взаимодействуют со многими другими. Специалисты по мозжечковой миндалине знают, что у нее множество функций, а не одна или две, и что сигналы от миндалины идут в другие области мозга через огромное число путей. Серотонин существует главным образом не для того, чтобы регулировать наше настроение и уровень тревожности: он играет ключевую роль в поддержании сосудистого тонуса, регуляции перистальтики кишечника и процессах отложения различных веществ в костях. Лептин – далеко не только «гормон жира»: у него много функций, и в разное время он выполняет разные (даже в одной и той же клетке). Увы, живые системы не похожи на машины. Ум человека способен интуитивно понять сложность живого мира не лучше, чем квантовую физику.
Последние достижения генетики дают возможность попытаться справиться с этой проблемой. Сейчас становится все очевиднее, что на большинство черт организма влияет не один ген, а множество, к тому же почти каждый ген влияет не на одну, а на несколько черт. Так, примерно 80 % случаев изменчивости такого параметра, как рост человека, относят к изменчивости генетической. Напрашивается вывод: ищите соответствующие гены. Однако этот поиск показал, что 180 локусов (местоположений гена в хромосоме) с наиболее сильным воздействием отвечают лишь примерно за 10 % случаев этой фенотипической вариативности. Недавние открытия в области медицинской генетики еще больше обескураживают. Всего лет десять назад мы очень надеялись, что вот-вот найдем генетические вариации, отвечающие за часто передающиеся по наследству заболевания и отклонения, такие, как шизофрения или аутизм. Но исследования генома показало, что для этих заболеваний не существует каких-то одних и тех же аллелей, которые обладали бы сильным эффектом. Некоторые говорят, что мы должны были знать это заранее. В конце концов, естественный отбор стремится устранять аллели, вызывающие болезни. Представление о теле как о машине заставило многих питать несбыточные надежды…
Отдельные нейробиологи ставят себе грандиозную задачу – проследить за каждой молекулой и биологическим маршрутом, чтобы охарактеризовать все физиологические цепи в нашем организме и окончательно понять, как работает мозг. Молекулы, локусы и нервные пути действительно выполняют отличающиеся друг от друга функции. Мы это знаем, и такое знание весьма важно для лечения людей. Однако, по-видимому, следует оставить надежды, что мы когда-нибудь поймем, как работает мозг, всего лишь нарисовав схему, где отображены все его компоненты, их взаимосвязи и функции. Проблема тут не только в том, чтобы уместить на одной странице миллион элементов. Главное в том, что никакая подобная диаграмма в принципе не в состоянии адекватно описать структуру органической системы. Такие системы – продукт мельчайших изменений (разнообразных мутаций, миграций, переноса генов и отбора), из которых постепенно складываются системы с не полностью дифференцированными частями и с непостижимыми внутренними взаимодействиями – системы, которые, тем не менее, работают очень даже неплохо. При попытках провести инженерный анализ мозговых систем основное внимание обращают на функциональную значимость, но этот подход грешит изначальной ограниченностью, ибо мозговые системы никогда никем не были «сконструированы».
Естественный отбор формирует системы, чью сложность невозможно описать в доступных человеческому уму понятиях. Кому-то покажется, что это нигилистический взгляд на вещи. Он действительно лишает нас надежд на отыскание простых и специфичных описаний для всех на свете биологических систем. Однако признание задачи безнадежно-сложной часто лишь служит толчком к дальнейшему прогрессу. Холдейн писал об этом: «… Структура живого организма по своему поведению не имеет реального сходства с поведением машины… В живом организме… “структура” является лишь видимостью, которую формирует то, что поначалу кажется нам постоянным потоком особого материала – потоком, который начинается и кончается где-то в окружающей среде»[72]72
Haldane, Organization and Environment…, 99.
[Закрыть].
Если тела не похожи на машины, на что же они тогда похожи? Они больше напоминают дарвиновский «заросший берег» с его «изощреннейше устроенными формами, столь отличными друг от друга и столь сложным образом зависящими друг от друга»[73]73
Charles Darwin, On the Origin of Species. (London: John Murray, 1872), 429.
[Закрыть]. Очень мило. Но может ли экологическая метафора прийти на смену метафоре, уподобляющей тело механизму? Едва ли. Вероятно, когда-нибудь понимание того, как естественный отбор формирует сложность органического мира, станет настолько глубоким и всеобщим, что ученые смогут сказать: «Организм похож… на организм» – и все сразу с полной отчетливостью поймут, что имеется в виду.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































