Текст книги "Тихие яблони. Вновь обретенная русская проза"
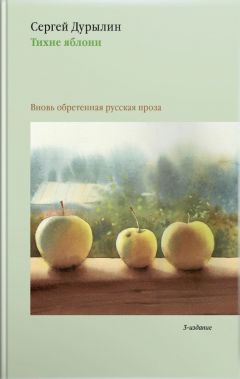
Автор книги: Сергей Дурылин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
В монастыре на пожертвованный одним купцом-лесопромышленником капитал поновляли всю стенопись в соборе, золотили заново иконостас, промывали иконы, чинили деревянные полы в алтаре, служба шла в маленькой старинной церкви Иоанна-воина, а в соборе с утра до вечера работали плотники, столяры, старались не шуметь, не говорить громко – как было строжайше им велено игуменьей и подрядчиками.
Но как не шуметь, когда работало на лесах, под куполом, на стенах, на полу, в алтаре – всюду – несколько десятков человек, и как не говорить, когда народ был молодой, веселый на язык, скорый и ловкий на смешащее слово, привыкший за работой петь во всю грудь? Поэтому в соборе было и шумно, и говорно, и суматошно, а иной раз и песня прорывалась, и смехотно бывало. Игуменья морщилась от неудовольствия, сидя в своих покоях, окнами смотревших прямо на собор, и говорила келейницам:
– Что это маляры так шумят! Поди, скажи матери Ларисе: чего она смотрит, им не скажет?
Мать Лариса, очень маленького роста, добродушная, полная монахиня, плохая рукодельница, большая чаевница, была наряжена на послушание в собор: быть все время там, пока идут работы, смотреть за благочинием и напоминать, коль забудутся, что это храм Божий, страшное место. Мать Лариса и напоминала добрым, высоким своим голоском, а с лесов, из-под самого купола, какой-нибудь голосистый малярок – они были первые озорники из всех – ей отвечал:
– Вяжи, бабушка, вяжи чулок. Ничего, вяжи.
А все-таки народ был добрый – притихали, только ненадолго. Мать Лариса опять останавливала, а малярок с левого крыла, подновлявший «6-й Вселенский Собор», отвечал со вздохом:
– Эх, не торопи, матушка: помрем – замолчим! А вздох был веселый. Ответ на него – тоже не печальный – слышался то с иконостаса, оттуда, где двое золотили деревянного херувима с крестом, то от «Страшного суда» над западной дверью, где суриком подновляли адское пламя.
Мать Лариса, в конце концов, махнула рукой: села на стульчик под куполом, под лесами, и стала вязать чулок и творить молитву. Впрочем, народ всюду был славный и ладный, и шутить шутили, но ни грубости неподобающей, ни непристойности какой-нибудь и в помине не было. Пришлет игуменья келейницу с выговором – мать Лариса станет под куполом, постучит клюкой о пол и скажет погромче:
– Беда мне с вами, молодцы. Мать игуменья на меня из-за вас гневается. А что я с вами сделаю? Где тихомон на вас найду? – И вновь посошком постучит.
Попритихнут, а потом работа и молодость свое опять возьмут.
Все шло хорошо, только случился большой грех. Плотники, как стали чинить пол в алтаре, приметили, что мышей под полом живет множество; мышиный дух даже слышен, но мышь хитра и наружу не выходит.
Мать Лариса посмотрела, подумала, сообразила: самое бы время теперь кота позвать: ему в алтарь вход позволен, а пока пол чинят и половицы вскрывают, он бы великое опустошение произвел в подполье. Мать Лариса решила найти кота самого чинного и умного, чтобы не кидался куда не нужно, понимал бы, в каком месте находится, а делал бы исправно и скоренько свое котово дело.
Мать Лариса думала-думала, припоминала всех монастырских котов и нашла, что один только подходящ и пригоден для дела и места – Васька матери Иринеи: не молод, не резв, не баловлив, но на мышей еще лют. Бабушка не с охотою его отпустила, а кот не с охотою шел в неведомое место, но дело было важное, и рано поутру, еще до прихода маляров, мать Иринея передала матери Ларисе кота на руки, погладила его, поуспокоила его, наказала матери Ларисе беречь кота – и отпустила. Кота нарочно не кормили, чтобы охотнее пошел на мышей.
Мать Лариса отнесла его прямо в алтарь. Кот обнюхал все углы, все щели между половицами, ямочки, дырочки – и, принизившись, поуменьшившись ростом, весь истончившись, тихонечко спустился в подполье. Там он принялся самым исправным образом за свое котово дело: скорей бы, не теряя времени, справиться с мышами – да и на слона спать. Мать Лариса, спустив кота в подполье и видя, что ни в чем не ошиблась относительно своих надежд на его благочиние и мышеловство, спокойно пошла на середину собора, села, как обычно, под куполом на стуле и принялась за вязанье чулка. Пришли рабочие, разошлись по лесам, закипела работа. Кот был все в подполье, никто его не видел. Но время шло. Кот, устав от своего котова дела в подполье, вышел из-под половицы, оглянулся, потянулся и спокойно, неторопливо пошел из алтаря по собору. Ему хотелось скорее лечь на слона и спать. Он был сыт и утомлен.
Тут-то и случился грех. Первым из маляров кота завидел с лесов веселый парень-балагур с медной серьгой в левом ухе. Он и слыхом не слыхал, что кошкам разрешается вход в церковь. Завидев кота, он вообразил, что кот в церкви – все равно что поганый пес, завопил на весь собор с лесов:
– Кот! Кот! Братцы, кот! Держи! Держи!
И, не дожидаясь, пока «братцы» станут «держать», пустил в кота с лесов куском кирпича. Кусок попал коту прямо в ухо. Кот повалился, как подрезанный, на пол, глаза у него сразу помутнели, из носу потекла маленькая струйка крови. Мать Лариса присела от ужаса. Опомнившись, бросив чулок на пол, она побежала с криком «Убили кота! Убили кота!» к бабушке.
Когда бабушка прибежала в собор, кот был уже мертв. Он лежал на левом боку. Около мордочки натекла маленькая лужица крови. Бабушка подняла кота – он еще был чуть теплый – и понесла к себе, а мать Лариса кинулась за водой – замывать кровь. Маляры глядели с лесов; парень с серьгой виновато вздыхал.
– Эх, какое дело вышло! Я его прогнать хотел. Думал, церковь поганит.
Старый золотильщик с укоризной отозвался с иконостаса, от «Золотых скрижалей завета»:
– Кошку со псом смешал! Глупый человек: кошке везде ход. За чистоту.
А через несколько минут все были за работой. Мать Лариса, замыв пол, опять села на стул. Она успокоила себя мыслью: «Все равно собор святить будут».
Бабушка велела закопать кота за огородом, на чистом месте. Параскевушка закопала и поплакала над ним.
А бабушка не плакала, но отметила про себя: «Это к моей смерти. Без меня не хочет оставаться».
Кот не выходил у нее из головы.
Получился к Рождеству конверт: «Ваське от Васьки на молоко». Бабушка всплакнула над ним.
В это Рождество мы, дети, были у нее, но почти ее не видали; ей нездоровилось, она лежала в постели, худенькая и сильно поморщившаяся. Нас угощала и принимала не бабушка, а Параскевушка. Скамеечка со слоном была пуста. Брат допытывался у Параскевушки:
– А где теперь Васька?
– В земле, под снежком.
– А еще где?
Параскевушка не знала где и отвечала только:
– Бог знает!
Нас скоро отвезли от бабушки, говоря, что мы беспокоим ее. Бабушке было худо. Однако к Масленице она встала с постели и Великий пост встретила на ногах.
На первой неделе она говела. Силы у нее как будто прибыло. Так прошла вторая, третья недели, началась средокрестная. Бабушка вновь принялась было говеть – в Великом посту она говела трижды, – но уже во вторник почувствовала себя так худо, что не могла идти к вечерне, слегла и до полуночи не могла заснуть. А заснув, видела сон нехороший, тягучий, липкий: ворочалась во сне, хотела отстать ото сна, а он все лип к ней.
Виделось ей, будто горница давно не метена; сорно, стены давно не белены, известка отлупилась, и на полу валяются белые кусочки. В горнице пусто, на столе некрашеном свеча горит – с нее сало оплывает прямо на стол. А дверь тесовая, крепкая, будто колеблется: вот-вот кто-то войдет, вот-вот, сдается, дверь отворится. А никто не входит. И бабушка видит: будто половица приподнимается – и выходит из подполья кот, волос рыже-белый на нем еще гуще, но только он худ: бока ввалились, – вышел из подполья и говорит кот: «Я – покойник» – и важно так по известке, что на полу, прошел, ткнулся мордой в самоварную трубу, полизал стену – и пропал. А свеча в горнице совсем догорела, чад синий поплыл, срезал все углы, закрутился, закрутился и в дырочку четырехугольную в полу стал уходить.
Тут бабушка проснулась. Лампадка погасла, и в келье чадно пахло фитильным нагаром. Было темно. Бабушка лежала с открытыми глазами. Вдруг она ясно услышала, что где-то в углу мяучит кот. «Забежал чей-нибудь. Не Евстратии ли?» – подумала она. Она окликнула Параскевушку. Та крепко спала, но бабушка окликнула другой, третий. Келейница пришла и, ничего не соображая со сна, смотрела на бабушку. Та толковала ей:
– Кот забежал чужой. Посмотри, пожалуйста. Где-то в углу мяучит.
Параскевушка ткнулась в один угол, в другой, но кота нигде не было.
– Нет кота, – объявила она.
А бабушка тихо возразила:
– Мяучит!
Параскевушка с досадой махнула рукой и вышла. А бабушке до утра слышалось, как кот мяучит в углу.
Утром она велела позвать священника, исповедалась, причастилась, а келейницам своим, когда они пришли ее поздравлять с принятием Святых Тайн, сказала:
– Умру я скоро. Молитесь.
Келейницы заплакали, но она строго на них посмотрела и прибавила:
– Перестаньте. Я не жилица. Вам жить. Скажите, как без меня жить будете?
– Не знаем! – плакала Параскевушка.
– А ты знай, – опять строго сказала бабушка, – ты старшая. Друг за дружку держитесь. Попрошу игуменью вас в келье оставить. А не оставит – смиритесь.
Келейницы еще пуще заплакали.
– С вами не сговоришь! – махнула рукой бабушка и ласково-ласково наклонилась над Параскевушкой, стоявшей на коленях возле постели: – Глупые! Богу молитесь, людей любите, тварь жалейте. Считайте себя худой травой, крапивушкой, полынькой горькой, последней травой, никому не нужной, – и спасетесь! Легко это. Одно это-то и легко на свете.
Ей трудно было говорить. Она рукой дотянулась до головы Марьюшки – и, переведя дух, сказала:
– Простите меня обе, Христа ради…
– Матушка, нас прости, – завопила было Марьюшка в слезах, но бабушка рукой остановила ее и сказала:
– Мой черед. Погоди. – И продолжала: – Простите меня, худую старуху, – земно прошу, хоть поклониться земно не могу, – в чем согрешила перед вами: делом, словом, помышлением. Да еще вот сколь я жадна не прощенья только прошу от вас, а еще молиться обо мне, грешной, прошу, да еще и о родителях моих, Прокопии и Федосье, да о рабе Божием Петре прошу молиться…
– Будем, – всхлипывая, сказала Параскевушка.
– Спаси вас Господи за то. А я, коли обрету дерзновение, там за вас помолюсь…
Келейницы поклонились в землю перед бабушкой, она благословила их, при себе велела открыть сундук и приказала поровну разделить между собою одежду. Когда это было сделано, бабушка тщательно наказала Параскевушке, в чем ее хоронить, как устроить помин в церкви, кому читать Псалтырь по ней и сколько и что дать читальщицам, что на поминальный обед сготовить для сестер, для родных и для нищей братии. Бабушка заставила келейниц не раз повторить все свои приказания и, убедившись, что они точно их запомнили, послала Параскевушку оповестить игуменью, что она хочет проститься с нею и со всеми сестрами, потому что отход ее недалек.
Игуменья скоро явилась к бабушке, и они долго беседовали наедине. Игуменья обещала бабушке постричь Параскевушку в мантию и оставить ее с Марьюшкой в бабушкиной келье. Она просила также бабушку сказать племяннику, моему отцу, чтобы тот помог закончить ремонт собора: денег, пожертвованных лесопромышленником, не хватило. Бабушка обещала.
После игуменьи приходили прощаться с бабушкой все сестры – от казначеи до последней чернорабочей послушницы. Бабушка всем раздавала на память иконы, крестики, одежду, рукоделье, келейные вещи. Прощание очень утомило ее, и Марьюшка все просила ее прекратить и благословить всех сообща, но бабушка не хотела прерывать и довела до конца, благословив и дав крестик и пряничек последней девочке из монастырского приюта.
Тем временем Параскевушка была послана к нам в дом сказать, что бабушке худо и она просит при ехать проститься. Тотчас же послали в лавку за отцом, а нас, детей, стали собирать к бабушке. Параскевушка сидела в столовой и в слезах рассказывала матери:
– И не поверила я, родная моя, про кота-то, как ночью она позвала меня. Не было его, не было по углам, и даже дерзко ей ответила, а теперь вижу: дура я, дура, да ведь это сударь кот приходил – звать ее в земельку, а душеньку – на небеса!
– Что ты, Параскевушка, – усомнилась мать, даже с некоторым неудовольствием, – как же это так? Кошка – тварь неразумная: как она может звать старицу?
Параскевушка, не осушая слез, стояла на своем:
– Я уж и сама, матушка Анна Павловна, сбираюсь к вам, а сама слышу: мяучит в келье. И голос-то его, сударев котов.
Мать не пыталась больше разубеждать горевавшую Параскевушку.
Когда нас привезли к бабушке, отец был уже там. Его глаза были заплаканы. Он сидел на стуле в ногах у бабушки и еле посмотрел на нас, когда мы вошли. Параскевушка вошла с нами и обмерла: как после она изъяснила, она сразу заметила, что бабушка уж одним только мизинчиком стояла на живом месте – вся уж почти перешла на мертвое.
Мы плакали – и я не помню хорошо прощанья с бабушкой. Поразило нас, что она была так мала, так худа, так бела, что будто лежала под одеялом фарфоровая куколка-старушка. Отец поднес ей два небольших образа, взяв их по указанию Параскевушки с божницы, и она благословила нас ими, еле-еле имея силы на минуту удержать их в руках. Потом она перекрестила нас, и мы целовали ее руку, белую и холодную, перекрещенную крест-накрест синими высокими жилками. Показалось мне, что она прошептала нам:
– Растите. Радуйте.
Глаза ее – в них больше всего оставалось жизни – с лаской и грустью остановились на нас.
Затем Параскевушка отвела нас от постели, поставила рядком перед божницей и велела молиться за бабушку.
Мать стала на колени перед бабушкой – и что-то шептала ей на ухо. Отец отошел в это время от кровати и стал сзади нас, лицом к иконам.
Мы слышали, как мать плакала, сдерживая рыданья. Младший брат громко заплакал. Тогда нас увели в комнату келейниц и усадили за стол. С нами была Марьюшка. Прошли священники в комнату бабушки. Отец и мать оставались там. Бабушку соборовали. До нас доносилось тихое, грустное, нежное-нежное пение молодых женских голосов. Пение сменилось чтением, чтение – опять пением.
Мы не притронулись к яблочкам, положенным перед нами на тарелке Марьюшкой. Брат спросил:
– Что теперь с бабушкой?
– К бабеньке теперь ангелы слетаются, – сказала Марьюшка.
– Зачем?
– Чтобы душеньку ее взять, – ответила Марьюшка и заплакала, но, видя, что и мы плачем, остановила нас и себя: – Не надо, не надо плакать. Надо радоваться, что ангелы тут.
В комнате бабушки давно уже не пели. Читал что-то мужской голос. Вдруг и чтение оборвалось – наступило короткое, глубокое-глубокое молчание, – и затем из комнаты бабушки послышались уже не сдерживаемые рыданья. Отворилась дверь, появился отец. Слезы текли по его лицу. Он отрывисто сказал нам:
– Бабушка скончалась. Подите к ней.
Мы вошли с ним к бабушке. Она лежала неподвижно на постели. Лицо ее было светло и прекрасно, уста застыли с улыбкой. Параскевушка стояла уже перед божницей и читала первую кафизму по усопшей.
В келье стояла легкая романтическая синь от ладана. Перед божницей еще горели восковые свечи. И в руке бабушки была еще свеча, та, которую она держала во время соборования. Даже огонек – маленький, золотой – еще не потух. Старая монахиня подошла к ней, поклонилась, осторожно вынула свечу, не загашая огня, передала ее другой монахине, а сама стала складывать руки бабушке, как у покойницы. Другая монахиня поставила свечу к божнице и не удержалась сказать:
– В последний раз свою свечу Богу зажгла!
Нас подвели к телу бабушки, велели поклониться, приподняли и приложили губами к ее руке. Мы с братом впервые видели мертвого человека. Но нам было не страшно. Мы не плакали. Около бабушки было жутко и торжественно, как в храме.
На девятый день после бабушкиных похорон мы были в монастыре у заупокойной обедни, а после обедни пили чай у Параскевушки в бабушкиной келье. Прощаясь с нами, она протянула мне серебряный портсигар с портретом кота на слоновой кости и сказала:
– Примите от бабиньки. Она, как прощались со всеми и вещами каждого оделяли, приказали мне подать портсигар, и рассматривали его, и наказали, как умрут, вам передать. Старшему, сказали, внуку-с. – Параскевушка смахнула слезу – и попыталась улыбнуться: – С сударем котом-с.
Но улыбка не улыбнулась ей. Я раскрыл портсигар: там ничего не было.
Портсигар бабушкин доселе у меня цел. Я никогда не держал в нем папирос.
Я иногда забываю, что он у меня есть, но, найдя его, смотрю на слоновую кость и вспоминаю бабушку и детство: «Кот на слоне! Сударь кот!» – и мне делается грустно и легко.
Челябинск, 1924 г.
Сладость ангелов
I
Архиерей служил всенощную под Введение, в храмовый праздник, в слободке, в пяти верстах от города, и из-за распутицы согласился на предложение церковного старосты заночевать у него, так как утром должен был служить в слободке же позднюю обедню. С архиереем вместе пригласили ночевать и сослужившего ему архимандрита, которому было еще дальше ехать до своего монастыря, стоявшего за городом, в противоположной стороне от слободки. Церковный староста был ценитель хорошего истового пения, а архиерей Пахомий был известный знаток и любитель уставной службы, поэтому за всенощною пел архиерейский хор, и богослужение окончилось поздно. Архиерей отказывался от ужина. Худой и высокий, в вишневой шелковой рясе, с топазовой панагией, он долго не сдавался на усиленные просьбы старосты-купца с золотой медалью на аннинской ленте.
– Нет уж, вы, Потапий Васильевич, отведите меня поскорее на место упокоения, – разумеется, не окончательного, – пошутил владыка. – Нужно готовиться к литургии, а вот отец Евфросин возглавит стол.
Он указал на архимандрита, стоявшего поодаль. Архимандрит, толстый, тяготящийся своей полнотою, еще не старый человек с добрыми серыми глазами, с небольшой бородкой и большой лысиной, отмахнулся рукою, а хозяин поспешил заметить:
– Его высокопреподобие своим чередом, архимандричьим, а вы, ваше преосвященство, своим путем, владычным. Не обессудьте. Единожды в году празднуем.
Он низко поклонился. Через раскрытые в зальцу двери был виден накрытый стол, обильно уставленный яствами, и толпа ожидавших ужина. Видно было, что заминка с архиерейским пришествием, затягивавшая начало и без того позднего ужина, была неприятна гостям и хозяину. Владыка, сообразив это, сделал шаг в зальцу и сказал с усталостью:
– Видно, ничего с вами не поделаешь. Устал я очень.
– Претерпевый до конца – той спасется, ваше преосвященство, – пробасил из зальцы протодиакон, выступая навстречу к архиерею.
Архиерей ничего не ответил и прямо прошел к переднему углу. Протодиакон, откашлявшись в руку, зачитал молитвы. Архиерей благословил стол. Между архиереем и архимандритом посадили местного старожила, отставного генерала, у которого в слободке был дом, а под слободкой – имение. Генерал слыл любителем духовного чтения. Хозяин не садился за стол, а потчевал, сам накладывая на тарелки почетным гостям. Ели молча.
Генерал решил начать разговор, почитая неприличным молчание. Намазывая на хлеб икры, он улыбнулся и заметил:
– Вот вы, ваше преосвященство, признанный знаток устава…
– Полноте, – попытался остановить его архиерей.
– Нет, позвольте, ваше преосвященство, – прервал генерал. – Suum cuique[8]8
Каждому свое (лат.).
[Закрыть]. Я латыни не учился, но твердо это усвоил. Я вот к чему веду. Вкушаем мы у нашего любезного хозяина, между многими прочими и сие яство, – он указал на икру, которою покрыл ломоть хлеба, – а, оказывается, и ему определено свое место в уставе. Все предусмотрено. Я всегда любопытствую узнать в точности каждой вещи ее место. Привычка-с: то, что у нас, у военных, – дисциплина, то у духовных – чин. «Вся по чину вам да бывают». Какое же место сему продукту отведено уставом?
– Да какое же место! – улыбнулся протодиакон. – Ешь во спасение.
Архиерей сухо заметил:
– Действительно, в уставе указано, когда вкушается икра.
– На наш, мирской взгляд выходит, – продолжал генерал, – и осетрина есть рыба, и икра есть рыба – устанавливается, таким образом, некое единство или тождество вкушения, ан нет: тождество по-мирском у, а по-духовному – различие.
– Ну, ваше превосходительство, – в третий раз прорвался протодиакон, – это и по-мирски различие глубокое: икра – это, так сказать, едение предварительное, а осетрина – в ней существенность есть.
За протодиаконом все так охотно и добродушно засмеялись, что и архиерей улыбнулся и сказал, обратившись к хозяину:
– Предложенное нам предварительное едение, как выразился отец протодиакон, столь обильно и так затянулось, что не признать ли нам в нем существенность и не ограничиться ли им одним?
– Что вы, что вы, ваше преосвященство, – возразил протодиакон, – помилуйте! Да ведь это все равно, как если бы одной литией ограничиться за всенощной, без полиелея. Не по уставу.
Архиерей покорился тому, что ужин неотвратим, и, обернувшись к архимандриту, который все молчал, заметил со вздохом:
– Вот, ваше высокопреподобие, что значит почитаться уставолюбцем: получаю здесь себе достойное возмездие – это уставное вкушение. Вам не грозит эта опасность.
Архимандрит сидел, не принимая участия в беседе и мало в нее вслушивался: он не любил обеденных разговоров и не умел их поддерживать, но слова архиерея ему были неприятны. Он не понял, была ли это простая шутка или некоторый обличительный намек на многим не известную особенность архимандрита: он тяготился долгими службами, с трудом им выстаиваемых и еще в академии был признан «гностиком» и «ересиархом» за свою любовь к богословскому отвлечению и философствованию. Они были далеки с архиереем, и молва даже преувеличивала дальность их отношений. Говорили, что ученый архимандрит был назначен настоятелем второклассного бедного монастыря под некоторый неявный полунадзор архиерея за то, что в магистерском сочинении своем отрицал будто бы вечность адских мук и почитал справе дливость и правосудие Божие понятием более юридическим и даже не православным, а католическим. Утверждали, что архимандрит и в проповедях не раз будто бы учил, что Бог, любя безмерно творение Свое, принес иные Свои свойства в жертву любви Своей, – и делается ради любви к человеку как бы уже и не Богом. Заметили, что архимандрит никогда не произносил проповедей за архиерейскими служениями, тогда как при прежних архиереях проповедовали обычно архимандриты. Однако за доброту архимандрита любили в монастыре и в городе. Более строгие, тяготевшие к архиерею, прибавляли: «Не за доброту, а за слабость».
– Если не грозит эта опасность, – ответил Евфросин, – то, значит, грозит какая-либо другая. Обычно так бывает. Это некий закон мира сего.
– Конечно, грозит, – встрепенулся генерал, – грозит опасность нашего ученого любопытства, которою мы частенько все досаждаем его высокопреподобию. Вот, например, любопытствуя о путешествиях апостола Павла, вычитал я в некоем ученом сочинении, что, когда апостол был в Писидии и Киликии…
И генерал зачастил именами из библейской археологии. Недовольный протодиакон шепнул своему соседу, молчаливому старичку благочинному:
– Ну, пошла теперь Киликия! А мы с вами лучше, отец протоиерей, вот эту жирную Киликию из чухонского моря отведаем, – и он, прицелившись издалека, ткнул вилкой в коробку с кильками.
Архимандрит односложно отвечал генералу, видимо скучая.
– Совопросник вы, ваше превосходительство, – усмехнулся архиерей, вслушиваясь в неотвязные вопросы генерала и короткие, суховатые ответы Евфросина.
– Любопытен, действительно, о многом, – отвечал генерал и, откинувшись на спинку стула, хотел что-то сказать, но заметил, что около архиерея стоит старичок в длиннополом старом сюртуке и кланяется: – Владыка, вас спрашивают.
Архиерей обернулся. Старичок, низко склонившись, подошел под благословение.
– А, Иван Архипыч, раб Божий, – сказал архиерей с видимым удовольствием. – Добрый вечер. Что опоздал?
– Храм запирал, ваше преосвященство. Облачения складывал.
– Садись, Архипыч. Вон твое место, – сказал хозяин. – Не занято. Нагоняй, что до тебя вкусили.
Но старичок кланялся архиерею и протягивал ему серебряную церковную тарелочку с двумя хлебцами.
– Это, ваше преосвященство, благословенные хлебы. Простите, вовремя не подал: к началу трапезы не поспел. Не прогневайтесь.
Архиерей принял тарелочку и поставил на стол перед собою, и еще раз благословил псаломщика.
– И еще погрешил, ваше преосвященство: сильно погрешил, простите Христа ради.
– А что такое? – сказал владыка, и что-то ласковое и умиленное прошло по его строгому, худому лицу. – Да ты сядь, Иван Архипыч, на свое место, кушай и кайся, в чем еще погрешил.
Старичок-псаломщик поклонился и сел за стол.
– Ну, в чем же погрешил? – с улыбкой приставал архиерей.
– Сами небось изволили заметить, ваше преосвященство.
– Заметил, заметил. Не тот на «Светильне» «Богородичен» спел: погрешил зело против устава.
– Погрешил, владыка: надо было Богородичен праздника, а я из октоиха спел «Сладость ангелов».
– Верно: «Богородичен» перепутал, – закивал архиерей, – а я на него надеялся: поручил левому клиросу «Светилен», а не своим поющим и вопиющим. А он подвел меня. Придется на поклоны ставить. Стою в алтаре, жду светилен Введенскою и вдруг слышу: «Сладость ангелов, скорбящих радость, христиан предстательнице, Дево Мати Господня».
Архиерей обернулся к архимандриту:
– И до чего мне было сладостно, что он ошибся и «Сладость ангелов» запел. Признаюсь, порадовался, что он устав нарушил. Не взыщите, ваше превосходительство, – кивнул владыка генералу, – это ведь, по-вашему, будет нарушение дисциплины?
– Нарушение, ваше преосвященство.
– Да-да, и вот все-таки я его на поклоны не поставлю, как хотите, а перепутай он и спой не «Сладость ангелов», а что-нибудь другое, может быть, и поставил бы. Поставил бы, Архипыч, а? Что бы ты тогда стал делать? – улыбнулся архиерей псаломщику.
– Постоял бы, ваше преосвященство.
– Приидите – поклонимся, – вставил протодиакон.
– А потому, ваше превосходительство, что я эту «Сладость ангелов» с детства, с самого раннего, особенно люблю, и, должно быть, ты хитрый человек, Архипыч: как ты это узнал, эту единственную, кажется, ошибку в уставе я готов кому угодно простить?..
– Какой он, ваше преосвященство, хитрый, – заметил хозяин, – самый он простой человек: семью прокормить на свой страх не может. Божья овца на Божьем корму.
– Не соглашусь с вами, Потапий Васильевич: не только хитрый, но и хитрейший он человек: не только спел мне «Сладость ангелов», но и принес эту сладость сюда. Вот она передо мной лежит на серебряном блюдце. – Владыка указал на благословенные хлебцы.
Архимандрит с любопытством взглянул на него с каким-то внутренним, обращенным к нему вопросом, столь явным на открытом полном лице, что архиерей и этот взгляд заметил, и вопрос этот прочел.
– Не понимаете, ваше высокопреподобие? Вы ведь не из нашего брата, не из поповичей?
– Я из купцов.
– Значит, понять вам все-таки легче: купец к попу всегда ближе дворянина стоял. Простите, ваше превосходительство, – обернулся на мгновение архиерей к генералу, – я не в осуждение. Я только то хочу сказать, что с детства я не могу без слез слов этих слышать «Сладость ангелов». Еще в детстве сердце при этих словах трепетало. И я это биение за единственное доброе дело своей жизни почитаю. И вот услышал я сегодня «Сладость ангелов» – и все детство предо мною встало. Шел я сюда, в эту витальницу, и думал: «Неужели и дальше будет, как в детстве было?» И я «Сладость ангелов» не только услышу, но и увижу? И вот, действительно, и увидал.
Никто не понимал, о чем говорил архиерей; впрочем, генерал из почтения делал вид, что оценил признания архиерея и глубоко ими заинтересован. Архимандрит отклонил усердно подставляемое ему хозяином блюдо с разварной рыбой и внимательно слушал архиерея. Слушал и Архипыч на конце стола.
Архиерей полуобернулся к отцу Евфросину и говорил, придерживая рукой панагию:
– Далекое-далекое детство вспоминается, ваше высокопреподобие. А все через него, – он кивнул на Архипыча. – Мой отец был псаломщик из самых обыкновенных, из бедного сельского прихода и, как водится, из многосемейных. Где именьем пусто, там ребятами густо. Хлеб насущный был у нас – именно насущный: на сутки всегда было, а на другие – только предполагался.
– Довлеет дневи злоба его, – густо шепотнул протодиакон благочинному.
– Отец был слабогрудый, кашлял, и голос неважный, но устав знал отлично и благоговеен был воистину. В некоторые праздники, особенно в богородичные, помню, он точно болен делался от радости: поет и поет, бывало, целый день стихиры и ирмосы и по приходу ходит с батюшкой, – а все поет, даже батюшке надоест. «Какой ты, скажет, Иван Евстигнеев, неупеваемый: мало тебе храма Божия – никак упеться не можешь!» – «Не могу, отец Евлампий, – ответит. – Пою Богу моему дондеже есмь».
Я маленький еще был – и перенял у него эту охоту к пению, и уставу, и благообразию церковному. И вот что замечательно: мы, поповичи, служим Богу верою и правдою, – что бы наши недоброжелатели ни говорили, – но, признаться без суда, та́к к алтарю и святым привыкаем, что мним там, в алтаре, не Божию, а своему дому быти, поповке нашей. А мой родитель покойный нас, мальчиков, даже в алтарь не пускал, сам прислуживал с благоговением, и ежели у меня, недостойного, есть страх Божий к алтарю Господню, то он весь отселе. Стою, бывало, малолетком – и на алтарь взираю со страхом радостным. «Что там, тятенька?» – спрошу отца. «Там ангельское, – скажет, – место. Престол Божий. Стан добра». – «А ангелы, – спрошу, – там живут?» – «Обитают и Господу служат непрестанно». И вот, в какой-то блаженный день впервые услышал я душою «Сладость ангелов», светилен обычный октоиха, – и затрепетало мое сердце. И все мне стало ясно: ангелы служат там, в алтаре, и подается им некая «сладость ангелов». Ваше высокопреподобие! Знаю теперь, что под «сладостью ангелов» Богородица разумеется, но до чего сладостно это детское богословие!
– Оно не только сладостно, оно, может быть, и наиболее истинно, владыка, – тихо, почти не слышно для других сказал архимандрит.
– Не знаю, не знаю, ваше высокопреподобие. Это вот Архипыч меня к детскому богословию вернул. Спаси его Господь. С него взыскивайте. А я уж доскажу, что начал. Стою, бывало, в храме – и трепещу детским правым сердцем: что там деется за таинственной завесой алтарной? «Сладость ангелов» совершается. И слезами тихими и благовонными незримо орошается душа. И не высохли, должно быть, до сих пор эти слезы.
– И не высохнут! И не дай Бог, чтобы высохли, – еще тише произнес архимандрит.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































