Текст книги "Тихие яблони. Вновь обретенная русская проза"
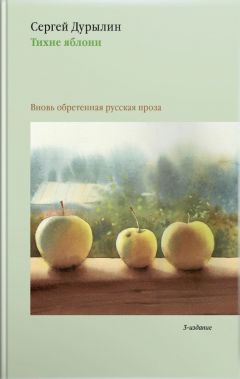
Автор книги: Сергей Дурылин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Я ничего не понимал.
– Да к кому ж она уходит?
В моей юной и немудрой голове пронеслась мысль: она уходит к кому-то, кого любит и по ком томится, здесь, в Николичах, – и кто это? И как она может возвращаться от него назад? И почему не останется с тем?
Но няня остановила мои мысли.
– Ни к кому не уходит. И нехорошо, что ты это спрашиваешь. Грех это.
– Да я, няня, так, я ничего не знаю.
– Не знаешь – и не надо. Она просто уходит. И два раза уже уходила: в первый-то раз, как Коля их умер. Она по нем и не плакала, почитай, а был он единственный. И больше-то не было детей. Хороший был мальчик, только не жилец: у которого ребенка ум ранний и слово раннее, тому это Бог нарочно дает, потому что недолго ему на земле жить. Бог и посылает ему ранний ум да раннее слово: знает, что скоро к нему вернется, пусть родителей хоть здесь мало потешит разумом да младенческим словом своим. Так и Коля был. Наглядеться на него не могли. В рубашечках синих ходил. А матушка ему все: ты василек мой полевой! – и целует, бывало, целует. Отец-то Василий возьмет у нее мальчика на руки, ласкает, она к себе назад просит или оба сразу его возьмут, сядут на диван рядком, обнимутся, посадят Коленьку к себе на колени: одно колено – отцовское, другое – материно, и ласкают, и милуют. А пришла на деревню болезнь – и помер, в сутки не стало. Отец Василий навзрыд плакал, сам отпевать не мог, а она – ничего, молчит и все на мальчика в гробу смотрит: запомнить хотела, какой он был. И схоронили возле церкви. Справили сороковой день, помянули, она после этого и ушла. Никому ничего не сказала. Пошла на могилку – а было после Вознесения – и ушла. Батюшка на требе был, в Смурове, за пять верст, приехал – нет матушки. Мужик сказывал, пажитневский, что видел ее: едет на телеге, будто в город, а более не видали. Отец Василий очень сокрушался, руки на себя наложить хотел: должно быть, вздор это сказывают, хотел искать ее ехать, а отец благочинный остановил: «Сама, – говорит, – вернется, должно быть, к родным поехала или на богомолье, чего ты будешь искать? Священнику это не подобает». И правда ведь, к осени вернулась.
– Где ж она была? – вырвалось у меня.
– Где? Разве узнаешь – где?! Она, чай, сама, сердешная, не помнит. В Киеве была, у сестры была, у дальней, под Харьковом, да это уж к осени, под конец, оттоле и домой вернулась. Спрашивал ее отец Василий, где была, а она молчала, молчала, а потом: «Я чиста перед тобой, Вася, – говорит, – а где была, сама не помню». И бабиньке так отвечала – бабинька-то Колю ихнего крестила: чиста, мол, перед мужем, а где была, не помню. Не сама ходила: должно быть, ноги мои меня несли.
И когда домой вернулась, все дома сидела; даже на могилку к Колюшке не ходила: должно быть, к дому себя приучить хотела. А по весне опять ушла. И опять не сказалась… К Покрову только вернулась, и просил отец Василий бабиньку с попадьей поговорить.
Бабинька ее призывали к себе. Я при них была в спальной. «Мужа-то не жаль, – говорят, – тебе, непоседа?» А та плачет. «Жаль, – говорит, – так жаль, что и себя теперь из-за того ненавижу». – «Переломи себя», – ей бабинька говорит. «Не могу, – отвечает, – словно кто берет меня от дому. Перед Васей я чиста». – «Верю, – говорит бабинька, – но отучи ты себя от этого, а то это и чистоту нарушить может; пока чиста, пере ломи себя. Он у тебя один перед Богом». – «Да, – отвечает, – он у меня один. Я о другом и не думала никогда, а Васю люблю». – «Ну, и слава, – говорит, – Богу, переломи себя». – «Молитесь вы за меня», – отвечает. «Молюсь, – ей бабинька-то, – вы у меня, как родные, и ты Бога проси, чтобы Он тебя на месте утвердил». Тут они меня из спальни за делом услали.
Няня вздохнула.
– И весна пришла, отец Василий с бабинькой опасались, что она опять уйдет, а она себя пересилила. А вот теперь опять на поле заглядывать что-то стала. Не к добру. Бабинька и хотят предупредить: в путь их снаряжают к угоднику. Дай-то Бог.
Няня села на кровать.
– Ложись-ка ты спать, да и мне пора к господину храповицкому.
Она перекрестила меня. Я поцеловал ее и вышел.
* * *
У нас в доме собирали на другой день кое-что из снеди для дяди Александра в Воронеж: накладывали баночки вареньем – особенно славилось бабушкино дынное с имбирем, – доставались короткие пузатенькие бутылочки с маринованными рыжиками, кое-что отлагалось в сторону с приговором: «А это батюшке на дорогу». Это тоже были баночки и коробочки, и бутылочки с грибками, и сушеная пастила, и смоква. Все это укладывалось и уносилось в батюшкин дом. Бабушка сама побывала там. Все шло хорошо. Ранний батюшка, отец Прокл, известил, что через два дня будет в Николичах. Благочинному был послан бабушкин поклон с письмом и большой связкой сушеных белых грибов. Я не видел эти дни ни отца Василия, ни попадьи.
На третий, кажется, день после моего разговора с няней я пил с бабушкой утренний чай в столовой, когда вошел отец Василий. Он был в одном подряснике, под мышкой у него была прижата шляпа, и волосы упорно лезли на лоб, и он не оправлял их. Он остановился посреди комнаты и смотрел на бабушку, около которой на столе стояли полные и початые баночки с вареньем, пестрые коробочки с пастилой. Он не говорил ни слова. Бабушка глянула на него и тихо спросила:
– Ушла?
Отец Василий кивнул головой и не переменил позы.
– Когда?
– Проснулся к заутрене, а ее уж нет. Ушла через сад. Ничего не оставила.
– Будешь искать?
– Нет, – ответил он, подошел к столу, сел на край стула, уткнулся лбом в скатерть и зарыдал.
IV
Прошло полгода. Я приехал к бабушке на Рождество и затеял писать поэму в подражание «Манфреду», которым тогда увлекался: горные духи и всякие тени философствовали у меня в самом приподнятом тоне и решительно отбивали у меня охоту быть с простыми людьми.
На первый день праздника пришел отец Василий с причтом славить Христа, и, когда он пел «Дева днесь», часто крестясь и кланяясь перед родовым нашим образом Николая, мне вспомнилось лето, и я подумал: «А воротилась жена его или нет?» Впрочем, мои философствующие герои столь меня занимали, что я только через несколько дней удосужился спросить няню:
– Няня, а где теперь попадья? Вернулась?
Но няня, вязавшая мне носки и считавшая вслух петли, на этот раз ворчливо отозвалась:
– А тебе до всего дело? Не вернулась.
Я попытался продолжить разговор.
– А отец Василий что?
– Ничего. О всех неправильных не наплачешься. И няня опять замолчала. Видно было, что она совсем сердита на попадью и не хочет говорить. Я ушел. Через несколько дней бабушка позвала меня и, подавая незапечатанный конверт с надписанным адресом, сказала:
– Вот, мой друг, у меня есть к тебе просьба: съезди, будь добр, в город и пошли по почте деньги. Тут пятьдесят рублей. Адрес надписан. Я бы не затрудняла тебя – ты все пишешь, – бабушка улыбнулась на меня, – но я не хочу никому этого доверять: будут болтать, а тебя прошу, чтобы это осталось entre nous[13]13
Между нами (фр.).
[Закрыть]. Ты ведь обещаешь?
– Разумеется, бабушка, – отвечал я и начал собираться в город.
На почте я запечатал конверт, в нем были вложены одни деньги без письма. Я прочел адрес, по которому посылал деньги: там стоял не помню уж какой город и фамилия и приписано было: «Для передачи милостивой государыне Наталье Егоровне».
«Что ж, бабушка в переписке с ней, что ли? – подумал я. – И почему посылает она, а не отец Василий?»
Я положил поговорить с няней: с бабушкой я не решался заговорить на эту тему. Я ей только сказал, что все сделал. Я выбрал время, когда няня пила чай, и спросил ее:
– Няня, а попадья батюшке пишет?
– Прислала два письма, да одно он не принял, назад отослал, а другое, не прочитавши, бабиньке передал.
– Отчего же он так?
– Ожесточился. Бабиньке при мне говорит: «Я не хочу, знает Бог, говорить о ней. Я ее не сужу, насильно мил не будешь. Она в стороне, и я буду в стороне».
– А бабушка?
– А бабушка на это ничего не сказали. Он – муж. И что сказать-то? Сама его до этого довела.
V
Я приехал к бабушке после экзаменов, перед Троицыным днем. Все цвело у нас в Николичах. Я забыл про своих философских героев. Мой «Манфред» лежал где-то среди старых тетрадок по фортификации. Я уходил на целые дни в поле, в лес. Я ложился на траву, заложив руки под голову, и часами мог смотреть на небо или, повернув голову, рассматривать, как пестрые радужные буканы ползут по стеблям трав, как неподвижно сидит на былинке божья коровка, круглая, как кусочек красного коралла. Возьмешь ее на палец и, как в детстве, при няне, скажешь ей: «Божья коровка, божья коровка, где моя невеста?» Дунешь на нее – она полетит, и следишь лениво за ее полетом, сам улыбаешься себе на эту «невесту» и опять, в какой-то растительной полудремоте, лежишь на одном месте, пока не захочется есть. Тогда встанешь и пойдешь домой. Сперва я не брал в свои прогулки даже книги, потом прихватывал томик какого-нибудь поэта, но почти не читал. Вешний лист я очень любил, сорву, бывало, разотру между ладонями и нюхаю эту зелень. От нее запах особый, только весной он бывает, и идет он от каждого листа. Поле пахуче: молодыми ржами пахнет. В это время ничего не помнишь, ничего не нужно: молодость одна себя помнит, а весенняя память коротка. Беспамятливое, блаженное время!
Перед Троицыным днем – он был поздний в этом году – сидел я раз у старой мельницы, верстах в трех от нашего дома. Там давно прорвалась плотина, и все было заброшено, густая трава да густой ольховник, а над водой – толстые пузатые ветлы, кое-где треснувшие от старости. Я сидел у плотины на груде бревен, остатков какой-то сторожки, и смотрел, как низко шныряли взад и вперед по воде крутогрудые стрижи и уносились под кровлю мельницы, и вскрикивали мелодично и весело, как играющие дети. Я отложил в сторону томик Алексея Толстого, который был со мною, и пытался сочинить стихи на все, что было кругом меня: на эту тихую и веселую весну, которая была на всем и сверкала во всем – на листьях и твари, на живой мелкоте и ясном и бледном умиренном небе. Но стихи не шли, и их было не нужно при этом небе, при этих стрижах и листочках. Я слышал, как зашуршало в ольховых кустах, – я скомкал бумажку и бросил в воду. Вдруг кто-то подошел ко мне и спросил:
– Что вы писали?
Голос мне показался незнаком. Я быстро обернулся. Передо мной стояла Наталья Егоровна. Она была без шляпы, в белом платье, в руках у нее был пучок лесных фиалок. Она подносила их к носу и долго не отнимала.
Я поклонился ей в изумлении. Наталья Егоровна подала мне руку. «Когда же она вернулась?» – пронеслось у меня в голове, должно быть, к Пасхе, бабушка писала, что у батюшки радость, но я не задался вопросом, какая.
– Так, стихи, вздор, – ответил я.
– А зачем вы их кинули в воду?
Она села рядом со мною на бревна. У ней не было в лице той грустной отчужденности, которую я заметил год назад, но она как будто постарела, и показалось, что на левом виске у ней мелькнул седой волос.
– У меня ничего не вышло, – ответил я.
– А вы пишете стихи?
– Да.
У нее был приятный низкий голос. Она часто дышала, устав продираться через кусты; невысокая, совсем девическая грудь ее мягко облекалась холстинковым платьем.
– А я вот не люблю стихов, – тихо промолвила она. – Зачем стихи? Разве про это скажешь, как надо?
Она указала рукой на запруду. Там ветер морщил слегка воду, мелькали низко-низко от воды стрижи, где-то неумолчно цокотали стрекозы. Небо без малейшего облачка трепетало в воде.
Мы оба молчали.
– Нет, не скажешь, и никто этого не скажет. Надо с этим быть, а что́ писать. Вот стрижи летают – и хорошо, вот берег листом пахнет, и вода с плотины бежит – и хорошо, и никому, никому не расскажешь, что́ хорошо.
Опять помолчали, и опять она прервала.
– А в степи теперь… Там как сказать? Вся степь ведь поет. Вы любите жаворонков?
– Да, – сказал я, – даже больше, чем соловьев, особенно поутру хорошо поют.
– Вот и я. И это хорошо, что их не видишь, как они поют. Вольная птичка и простая. А еще хорошо, когда колокола гудят на Пасхе – и из поля слушать. Плывет, плывет звон, и все дальше уходит, и словно на тебя льется, как водой чистой обливает. А сидишь в поле, слушаешь – и хочется уйти за ним.
Она подняла с травы моего Алексея Толстого, не смотря, рассеянно перебирала листы.
– В степи далёко слышно. И степь всегда зовучая. Когда я была маленькая, мы в селе на приходе жили возле большой дороги. И любила я со странницами беседовать. Вынесешь, бывало, хлеба с солью, с огурцом и спросишь: «Ты куда, бабушка, идешь?» – «А к Сергию, либо в Киев», – и начнешь расспрашивать про путь-дорогу. Она расскажет, отдохнет на лавочке перед домом, и пойдешь ее провожать за околицу. Раз я так далеко в степь зашла. Вышла, помню, с бабой – молодая была, мужа лишилась, пошла в Киев, по обещанию, вышла я ее проводить. Идешь во ржах, перепела тренькают, один перед другим плескают. Васильки синими глазками из гущины ржаной выглядывают, и рожь волнуется, куда ни посмотри, – волна волной. Идем мы. Молодуха мне про житье-бытье свое рассказывает. Верста за верстой меряем, и не хочется мне от нее уходить: все бы шла да шла. До глубокого лога дошла – опомнилась. «Прощай, – говорю, – я домой пойду». Попрощалась я с ней и побрела назад. Смотрю на столб верстовой: пять верст с ней прошла. Остановлюсь, погляжу: нет, уж и не видно ее – только ржи перегибаются, точно поклон отвешивают. И до слез мне жалко идти не с ней путь за путем. Дома меня сильно побранили, а я ничего, молчу, все степь вспоминаю: как ветер-то там гудит, и всякий звук вольно несется, и птицы поют, за песней песня, без угомону. Вслушаешься их – как далеко не уйти?! Сами ноги идут.
Книжка упала у нее с колен на траву. Она подняла ее, поправила волосы, протянула мне руку.
– Ну, прощайте, – сказала она. – Мне еще надо цветов нарвать к завтрашнему дню для церкви. Вот ваша книга.
И она пошла по тропинке, выводящей на проселок к Николичам.
Фиалка со сломанным стеблем лежала на траве. Я поднял ее, она издавала слабый и сладкий запах. Я развернул книгу и положил в нее цветок и пошел домой лесом. Я хожу быстро и непременно догнал бы попадью, если б пошел проселком, а мне показалось: ей было бы неприятно возвращаться со мной.
VI
В Троицын день я пришел к обедне поздно, к Апостолу. Церковь была полна. И не узнаешь ее: точно молоденький лесок в ней вырос, вздрагивали тонкие березки у икон и хоругвей от невольного напора толпы: будто ветром колыхало бледно-зеленые, живые листочки. Пахло скошенной травой, весь пол был мягко-зеленый и живой: нога не ощущала камень, точно на сенокосе шли по завороженной траве; над Царскими вратами была длинная гирлянда из полевых цветов. Я вспомнил Наталью Егоровну: должно быть, она сплела.
Окна были открыты с правой стороны, где у церкви стояли пять старых берез, уцелевших от пожарища, истребившего старую церковь. Они тоже раскачивались полными, как груди, пышными ветвями и, казалось, прислушивались, наклоняясь, к пению. Отец Василий служил в зеленой с серебром ризе, служил, как всегда, спокойно, неторопливо, грустно. У него не было радостных служб: как-то всегда у него в возгласах и чтении запоминалось больше всего грустное и скорбное, должно быть, виной тому был самый его голос – низкий тенор. Народ любил его служенье: он служил истово, без всякой торопливости, почти как служат хорошие иеромонахи в монастырях: кланялся в пояс в выработанном веками благоговении.
Бабушка стояла у клироса. Я не захотел пробираться к ней, а встал недалеко от выхода, перед иконой Страшного суда. Обедня кончилась.
Началась долгая Троицкая вечерня с коленопреклоненными молитвами. Я с детства их любил и помнил. Как хорошо было, стоя на коленях, отстранив рукою траву, чтобы не зазеленить панталоны, класть земные поклоны и поминать всех, всех: умерших отца и маму, и всех живых, и грешного себя; становится больно в сгибах ноги, ноют коленки, но стоишь вместе с народом, и какое-то общее счастье молитвы, неразрывное со счастьем молодости, весны, и вот этого духа березового, смешанного с тонким запахом ладана, охватывает всего тебя до конца, и ты плачешь, и благодаришь, и радуешься, что Бог дал эту весну, что разлита всюду за окном и здесь в церкви, эти березки и старую няню в милых морщинках, и тебя самого, – и просишь Его, чтобы все это было, было, чтоб не отзеленела эта зелень, не отошла эта милость бытия. И строгие, тихие славянские слова, доносящиеся с амвона, от коленопреклоненного священника, кажутся милующими без предела и сильными все сохранить, все обрадовать, все возвратить к безуходному счастью. И хочется крикнуть в окно, чтобы все слышали, и поле, и березы, и могилки на погосте: «Прав Ты, Господи! Прав и благословен!»
Сзади меня, плечо к плечу, кто-то плакал. Я обернулся. Плакала Наталья Егоровна. Она была в темном, каком-то точно нелетнем платье, с покрытой платочком головой, что-то было у нее в руках, кроме маленького букетика фиалок. По лицу ее катились безустанно слезы, она смахивала их рукой, часто-часто крестилась и кланялась, и опять не могла удержать слез. Она наклонилась в землю, уткнулась лицом в букетик и не поднималась так несколько секунд. Она плакала. Отец Василий прочел первую молитву. Наталья Егоровна поднялась с колен и обвела платочком лицо. Оно было заплаканно и грустно, как никогда. Она отошла несколько влево от меня, где был проход, и долго и пристально не отрывала глаз от отца Василия: он стоял перед Царскими вратами, лицом к алтарю, и спокойным и грустным голосом читал ектенью. Она словно дожидалась, что он повернется лицом к народу, но он все читал, не меняя позы.
Она не дождалась и, торопливо крестясь, пошла из церкви.
Я безотчетно через минуту или две вышел за ней.
Было тихо и безмолвно кругом. Весь народ был в церкви. Только лошади крестьянские привязаны к церковной ограде да ласточки с веселым гомоном взлетали и низлетали с колокольни. Из церкви доносилось пенье. Я остановился у угла ограды, откуда загибала дорога и видны были зеленые полосы ржи. Облака сбежались вперегонку в небе, одно другого легче и моложе.
Наталья Егоровна шла по дороге, прочь от Николич, маленькая и молоденькая, как девушка. Простой и нежный очерк ее фигуры, с тонким девическим станом, долго виднелся на дороге. Она шла не спешно, но ходко и прямо, как ходят привычные ходоки, как ходят богомольцы. Было видно, что так она может много идти, пройти не устав. Она уходила и уходила.
Мне вдруг захотелось пойти и догнать ее и крикнуть ей что-то, и воротить ее дослушать то, что было в церкви, и сказать, что она не поняла чего-то самого важного, единственно нужного, которое если понять, то уж ничего не будет нужно, и не нужно будет идти, и все минует, и останется одна радость, и так легко, и так легко под это пенье и у этих березок понять все и остаться со всем этим милым и вечным. Но я не пошел за ней. «Она никогда теперь не придет», – подумал я и остался у ограды. А она шла и шла, все так же ходко, не оглядываясь и не останавливаясь. Она делалась все меньше и меньше, уже не девушкой, а маленькой девочкой казалась она. Вот она скрылась за поворотом, вот прошла мимо далекого верстового столба, который последний виден от церкви, вот густою зеленою волною ржи захлестнуло ее, вот еще видно белый головной платок. Вот уже ничего не видно. Одни ржаные волны тихо ходят в поле, из стороны в сторону, неуемные и широкие. А в церкви кончилась служба, начал выходить народ, и празднично и бодро звонили на колокольне.
1917 г.
Сказание о невидимом граде Китеже
I
Тихо плещется озеро. Оно, как горсть живого, светлого серебра, брошено между желтеющих полей и темного леса, и тихо играет на солнце, и зыблется серебряной мелкой рябью. В одну сторону от него золотыми узкими полосами расходятся поля и пропадают где-то далеко на горизонте; за полями большое торговое село, через которое идет дорога на реку Ветлугу, а там уж и до Волги недалеко. Три холма подступили к самой воде с другой стороны. А они заросли лесом. Густой лес, тихий, чистый, и прохладно в нем, и пахнет смолой: жирными наливными янтарными каплями сочится она по розовым стволам сосен. Земляника выглядывает, как рассыпанные алые драгоценные камешки, в густой траве, из-под папоротника. А там на опушке, на пригреве, где солнце не уходит целый день, там она краснеет, как алый разостланный атлас, сплошными коврами.
С озера тянет прохладой и тишиной. Оно глубокое и чистое, как слеза: никто не мутит его чистую глубь – в озере не купаются, на лодке по озеру не ездят, рыбы не ловят. Верят старые люди и передают свою веру молодым: если в озере купаться, оно зарастет травой и осокой, обмелеет, усохнет.
Прежде, в старые годы, ни зверь, ни человек вовсе не погружались в озерную глубь – и еще чище, еще светлей сияло и играло озеро, и глубина была в нем неизмеримая. Стали кое-кто – мало ли всякого непокорного, неразумного люда на свете? – стали купаться в озере, и берега, – не все берега, а краешком, – зазеленели осокой, заболотились, затинились, точно не пускает озеро никого притронуться к его чистым водам и ограждается от неразумных людей болотом да колючей осокой, как забором. «А если начать рыбу ловить в озере, – учат старые люди, – всю Волгу рыбы лишишь. В озере том проток есть – подземный, глубокий, а людям невидимый – в самую Волгу. По протоку рыба из Волги в озеро приходит погостить: нагостится, нагуляется, наплодится на воле, без всякой опаски, и опять в Волгу уйдет. В озере рыбе ход вольный: никто ни вершей не ставит, ни удочкой не ловит, ни сетями не берет. А если рыбу озерного покоя лишить, ей отдыха вовсе не будет: всю выловят, до последней рыбешки, от стерляди востроносой до последнего пескарика. Только в озере, в Светлояре, и воля рыбная есть; опричь него везде рыбе неволя». Так говорят старые люди. А если спросить старых людей: «А купаться-то отчего же нельзя в Светлояре?» – ответят так: «Вода чистая, ровно как в купели, где младенцев крестят, ну, с нашими-то телами, с грехами-то нашими бесчисленными как в чистоту такую войти? Сами не просветлеем, а чистоту нарушим, грехом замутим. Вот водицы испить из Светлояра-озера – хорошо и можно, и пей на здоровье: стань на коленки, наклонись над озером, зачерпни горсткой, лицо себе водой омочи – лоб, и очи, и уста. Чиста вода светлоярская! Горе с лица человеческого смывает, скорбь прогоняет, а из очей слезная вода водой светлоярской бесследно смывается. Да когда к озеру придешь, обойди его трижды – оно невелико: всего верста в окружности – помолись, перекрестись, посмотрись в него: чище чистого, светлее светлого играет оно, и солнце радуется в небе на него, и лес древний засматривается в его тихие глуби, и рожь желтая, что подошла к самым бережкам, ему песенки поет тихие, нежные, длинные и кланяется ему ниже пояса. Птица крыла в озере не замочит, зверь воды не испьет. Облака с неба белые засматриваются, а ночью звезды лучами в его водах играют».
II
Жил в старой Руси – еще до татарского нашествия – князь Георгий, по отцу Всеволодович, а по родине – из славного вольного Пскова, и был он жития тихого, радостного, святого, а собой прекрасен: ростом высок, телом статен, русоволос, с очами серыми, ясными и светлыми, поступью быстр и величав, а душою был поистине князь благоверный: великая тишина и радость были в душе князя Георгия.
Была у него верная дружина – в князе души не чаяли, князево добро помнили и своим добром ему платили, были у князя отроки прекрасные, верные прислужники, тихие и ликом светлые, был у князя друг верный и славный – князь Михаил Черниговский.
Вот поехал князь Георгий по всей земле Русской, по просторам ее и раздольям, по дремучим чащобам, по лесам непроездным, по полям пологим, по селам и городам. Ехал князь и на вороном коне с серебряной уздечкой, ехал князь и в санях с полостью медвежьей, на высоких полозьях, ехал князь и в дубовом белом струге[14]14
Ладье.
[Закрыть] многовесельном с белым камчатым парусом, ехал князь по озерам и рекам, ехал и в летний зной, и в осеннюю беспутицу, и в ростепель весеннюю, в зимнюю студь-непогоду. И на каждом привале, на каждом отдыхе, на полянке ли, на пригорочке ли, на берегу ли речном – везде князь ставил крест деревянный, а где подольше с дружиной стоял постоем или место князю было по душе, там закладывал князь Георгий церковь Божию. И в Ростовской земле, и в Новгородском краю многоозерном, и в малом и бедном княжестве Московском – всюду поставил князь церкви Божии и молебны отпел, чтобы прошло имя Христово по всей Русской земле от края до края и чтоб Сам Христос в сердца людские сошел, всех Своей правдой обрадовал.
И доехал князь Георгий долгим и трудным путем-дорогой до города Ярославля, сел с дружиною и отроками в новый струг и сплыл вниз по Волге. Широка Волга и светла – и краса кругом непочатая: леса и дубравы в воды засматриваются, от птичьего пения по зорям сон отходит – поют птицы непуганые, нестреляные, вольные. Простор кругом: людей за редкость встретить можно, а зверя в лесах – видимо-невидимо.
Князь Георгий Божьему миру, приволью речному и лесному дивуется. Вся тварь Бога хвалит: кто – песней, кто – словом, кто – шумом древесным, кто – тихой красотой да светом мирным. Поутру, от сна встав, долго молился князь на восток; встанет на корме струга и молится. А птицы ему в небе откликаются, да леса шумят над водами.
И приехал князь к городу Малому Китежу. Стоит город на самом берегу Волги, церквами Божьими красуется, а дома все сосновые, в лапу рублены, крепко-накрепко.
Жители в городе ласковы, князю рады, дары несут: мед чистый, янтарный, из дремучего леса взятый от пчелок, от Божьих работниц, и меха соболиные, лисьи, бобровые, горностаевые. А в церквах к молебнам звонят. Отслужил князь Георгий молебен Владычице, поклонился за ласку, за привет горожанам, потрапезовал, отдохнул с дружиною – и в путь. А путь князю дальний, неведомый, непроходимый: лесами темными и частыми.
Едет дружина княжая конь за конем, впереди идут пешие люди – топорами путь прорубают, сучья да еловые лапы рубят. Зверь непуганый в лесу: на людей смотрит, впервые их видит, диву дается. Волки стороной дружину обходят, лисы из нор подсматривают, горностай белобрюхий с ветки глядит. Гущина в лесу непроходная. Свет мелькнул, простор глянул – к реке выехали: река светлая и глубокая, Керженец. Переехал князь реку вброд, помолился на другом берегу, велел крест срубить и далее поехал. И много ему рек и речек на пути встречалось, а такой красивой да быстрой не видывал. И опять лес пошел, еще гуще прежнего, еще темней старого: сосны – человеку не обхватить, а лапы у елей – шире медвежьих.
И глянуло озеро из-за чащи лесной – точно кто серебро обронил там светлое. Обрадовался князь озеру Светлояру. Слез с коня, на колени стал, нагнулся, зачерпнул не серебряной чарой – княжеской рукой воды испить. Вода светла, вода чиста, вода холодна.
И увидел князь, что место то необычайно прекрасно и чудно: воды серебряные, лес многошумный, холмы кругом высокие, и пала дружина княжая, отроки и бояре, на колени и молят князя: «Быть здесь, княже, граду великому, а тебе, господине, град тот строить».
И по просьбе их повелел князь Георгий Всеволодович строить город именем Большой Китеж, ибо место то было красы неописуемой.
Начали рвы копать, и лес рубить, и пни корчевать, начали класть церковь во имя Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста, а вторую церковь – во имя Успени я Пресвятыя Богородицы, а третью – во имя Благовещения, а в этих трех церквах повелел князь приделы делать иным праздникам Господним и Богородичным и образа всех святых написать, чтобы был тот град Большой Китеж всех градов славней и праведней, и верою сильней.
Три года Большой Китеж строили. Работа спорилась. Днем люди строят: лес пилят, бревна рубят, стены кладут, кровли кроют, колокола льют, а ночью ангелы ту же работу делают: плотничают, столярничают, образа пишут, колокола льют. Утром люди встанут, на работу придут, дивуются: работа далеко ушла, и, помощь незримых работников видя, еще прилежней работают. Люди и ангелы трудились, а Христос с небес за трудом надзирал и труды благословлял.
И вышел город Китеж Большой – град из градов: храмы Божии золотыми крестами в синее небо смотрят, колокольный звон над городом, как облако густое, плывет, в храмах службы идут чинные, благоговейные, верные, палаты княжеские, как жар, златоверхой кровлей горят, стены белые город хранят – стены с башнями неприступными, с зубцами, ходами и переходами. А выше всех храмов, башен и палат с собора Воздвиженского крест золотой над всем городом воздвигается. Издалека крест виден: из-за леса, из-за озера; по кресту и путь в город узнают, и кто на крест путь держит, тот в лесах не заблудится, на звериную потайную тропку не свернет.
Увидел благоверный князь Георгий созданный им Китеж – большой град, пал на землю и со слезами Бога возблагодарил и прославил. И освятили город, и водой святой окропили, а воду из озера брали в чанах серебряных, из Светлояра. Чуден засиял и прекрасен град Китеж! Помолился князь Георгий в китежских церквах и велел дружине излюбленной в путь собираться, в дальний родимый Псков.
А путей в Китеж был всего один путь – в глухом лесу, и только китежанам одним ведом: тем, кто в Малом Китеже жил, и тем, кто в Большом. Врагу не найти пути к граду Большому Китежу: про него и зверь лесной не знает.
III
Семьдесят пять лет красовался Великий Китеж в лесах заволжских, и слава о нем разнеслась далеко по Русской земле. Не богатством, не воинской силой, не торговой казной славился Большой Китеж, а красой своей несказанной, церквами Божьими златоверхими, звоном Успенским радостным, а больше всего – чистою жизнью мудрой и праведной, китежской. Беззлобно жили китежане и неленостно молились Христу Господу и Его Пречистой Матери.
И стал князь Георгий глубокий старец: к ста годам приблизилось его праведное житие. А ликом князь еще посветлел, и краса не отнялась от него: был он старец благообразный и мудрый.
Настало на Руси тяжкое время. «Попущением Божьим, – так в древних летописях повествуется, – ради грехов наших пришел на Русь воевать нечестивый и безбожный царь Батый, и разорил грады, и огнем пожег, людей же предал мечу, а младенцев ножом заколол, молодых в плен увел, и плач был великий».
Застонала Русская земля. Широчайшей волной разлилось татарское плененье по всей земле Русской. Плачем исходила Русь, а горя столько, что и слез не хватит его оплакать. Помощи нет ниоткуда. Князья между собой враждуют, соединиться вместе и ударить дружно на татар не хотят. Там, где поле ржаное было, теперь степь пустая, где город был, там пожарище черное, где село – там пепел серый.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































