Текст книги "Тихие яблони. Вновь обретенная русская проза"
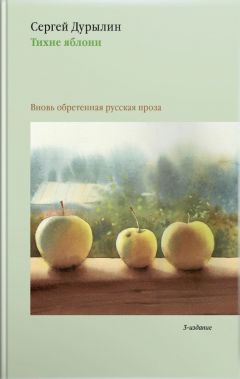
Автор книги: Сергей Дурылин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
– Знаю. Четыре тома написал.
– Вынимаю билет. Что-то археологическое попалось, не помню. Все благополучно уж сошло. Ну, слава Богу. Хочу идти. Ан нет. «А изъясните, молодой человек, – архиерей вдруг обращается ко мне, – преобразовательное значение пророчества Ионы». И что́ тут со мной случилось! Я еще, как услышал его славянское «изъясните», так архиерея возненавидел и тут же подумал: «Сейчас он про кита хватит». Так и вышло. Вся моя тошнота к горлу подступила, за все время накопленная. «Ну, – думаю, – „изъясню“ я тебе сейчас. С чего бы только получше начать? С носоглотки, что ли? Или, чтобы посолиднее, с учения о пищеварении и желудочных соках?» Все это во мгновение ока во мне проносится, а тошнота вот-вот прорвется наружу. И вот в ту самую последнюю минуту, как я готовился начать свое изъяснение с носоглоткой и газами, рукой в кармане я просфорочку нащупал материну. Держу ее между пальцами в кармане, и дума думу пересекла: «А ведь если я кита изъясню преосвященнейшему, как мне хочется, то, пожалуй, и просфорочку мне не придется скушать со „сладостью ангелов“, и на родимый погост незачем будет ехать: все этими „изъяснениями“ одними кончится. И вдруг так мне стало жаль моей просфорочки, так захотелось ее вкусить со «сладостью ангелов» и поплакать на отцовой могилке, и погрустить, и помолиться, что вся тошнота моя перед ожидаемой этой «сладостью» разом пропала, и я преосвященнейшему так «преобразовательное значение» хорошо «изъяснил», что он даже привстал в креслах и громко молвил: «Изрядно. Изряднехонько: и православно, и глубокомысленно, и весьма научно». И я скушал-таки киевскую просфорочку со сладостью – и с матушкой вместе на могилке отцовской поплакал и тихо и благодарно монашество принял. Но главное не это: главное то, что я этой «сладостью» хлеба небесного навсегда всякую тошноту из своей головы истребил со всякими носоглотками и соками рационалистическими. Не Яшка их прогнал, а детское дьячихино богословие, по коему на экзамен по догматике, для утверждения в вере и побеждения афеистического рационализма, надо «сладость ангелов» брать.
Вот я кончил и свое «некстати». Теперь давайте спать, высокопреподобнейший, или, точнее, читать вечерние молитвы. Это уж давно кстати. Это действительная, даже и для Яшки, «сладость ангелов». А завтра за литургией благословляется вам проповедовать без Яшкиной цензуры.
– А ежели он будет присутствовать в церкви? – с широкой улыбкой спросил архимандрит.
– А мы сочтем его отсутствующим, – сказал архиерей и подал архимандриту книгу «Келейное иноческое правило». – Читайте, отец архимандрит.
Вл<адимирская> губ<ерния>, 1922 г.
Бабушкин день
Мы росли сиротами, я, брат и сестра, все погодки, все похожие друг на друга лицом, все не выговаривали русского «л», росли с няней, Анфусой Геннадьевной, и француженкой, madame Justine, в трех детских, с лежанкой, со старым шпицом Дидро, которого тетя звала Дидрошкой, у дедушки в именье, за Волгой, и самое милое, самое редкое у нас на свете был дедушка. Мы сходили к нему на низ с антресолей, где были детские, два раза в день, утром и вечером, перед сном, мы целовали его полную, всю в синих жилках руку с большим алмазным перстнем на безымянном пальце, а он гладил нас по голове, усаживал вокруг своего кресла и приказывал лакею Григорию налить нам по маленькой китайской чашечке шоколаду, а сам улыбался, глядя, как мы пили с тминным печеньем, стараясь подольше продлить наслажденье, и на зеленый шотландский плед, укрывавший ноги дедушки, падали крошки сдобного печенья, а пухлый ангорский кот Пальмерстон подбирал их тонким язычком…
Высшее наказание состояло в том, что madame иногда говорила кому-либо из нас: «Vous ne boirez plus du chocolat de grand papa»[10]10
Вы больше не будете пить шоколада у дедушки (фр.).
[Закрыть].
А самое большое горе в детстве моего брата, князя Арсения, было, когда он разбил дедушкину китайскую чашечку: он задел ее локтем, увлеченный разговором с дедушкой, она мягко упала на ковер и, кажется, не столько разбилась, а сломалась от собственной хрупкости, и густой шоколад пролился на белого кота Пальмерстона, и он, сердито замяукав, убежал с дедушкиных колен. Брат рыдал над осколками и все говорил, отходя от слез:
– Я склею ее! Ведь ее можно склеить? Ведь да?
Брата утешали, что все будет склеено. А дедушка послал в город разыскать такую же чашку, но другой такой не было.
Сестру, как маленькую, уводили от дедушки первой, а мы вели разговор за дедушкиным шоколадом. Это было единственное время, когда нам позволялось говорить с дедушкой.
– Дедушка, ты был в двенадцатом году? – спрашивал брат Арсений, который был посмелее меня.
– Был, мой друг, был, – отвечал дедушка и лукаво улыбался.
– А ты воевал?
– Воевал, мой друг.
И брат восторженными глазами начинал смотреть на дедушку, который невозмутимо продолжал:
– Как же! воевал, вот так же, как ты изволил воевать с китайской чашечкой.
Арсений глубоко вздыхал и укоризненно отвечал деду:
– Ах, дедушка, какой ты!
Но дедушка и на это отвечал:
– Седой, мой друг, седой да старый – вот какой.
И тут же привлекал к себе брата Арсения, усаживал на колени, причем белый Пальмерстон недовольно подвигался, чтобы дать место брату, но не сходил с колен, прижимаясь к дедушке… Брат Арсений прощал деду все коварство с 12-м годом и слушал, затаив дыхание, что рассказывал дед. А дед рассказывал со слов своего отца о князе Италийском, как он называл Суворова. Когда я стал учить географию и узнал слово «итальянский», я никак не мог согласиться, что эти два слова об одном и том же: мне все представлялось, что «италийский» – это что-то высокое, что-то единственное, грозное, прекрасное, снег и огонь, а «итальянский» – это что-то скучное и маленькое, с границами, реками и обрабатывающей промышленностью, что-то учебное и противное…
– Князь Италийский был величайший полководец, – говаривал нам дедушка, – и величайший простец, да, любезный, вот что привлекательно, величайший простец.
– Он не учился, дедушка? – перебивал брат Арсений недоуменно.
– Нет, учился, мой друг, и прекрасно при этом изволил учиться, но он был простец сердцем, сердцем простец, что в свете редчайше встречается.
И дед на время обрывал свой рассказ, задумавшись, мы торопили его и слушали, ловя слова на лету, а потом у себя в детской, когда кончался дедушкин час и madame уводила нас на антресоли, мы переживали долго про себя дедушкин рассказ, вспоминая с братом вслух все подробности.
Сестре мы ничего не рассказывали, мы считали ее, как девчонку, недостойной этого, и только иногда брат, став перед ней и ее куклами в воинственную позу, поднимал руку вверх и ребяческим баском своим возглашал:
– Италийский!
* * *
Вечером, перед сном, мы приходили к дедушке прощаться. Он благословлял нас, и опять мы целовали руку, и опять тут было величайшее счастье. Но это уже были не рассказы, а вещи. Дедушка доставал из кармана большую эмалевую, розовую с золотом табакерку с музыкой, и в ней что-то нежно и грустно, слабым-слабым звуком играло и переливалось, будто булькала где-то серебряная вода в саду у мальчиков-с-пальчик.
Сестра, княжна Аня, все хотела найти дырочку, «откуда идет музыка». Она была уверена, что музыка – это маленькая девочка с шапкой-невидимкой. Она выходит из дырочки и звенит маленькими серебряными колокольчиками, и оттого звенит в табакерке, но никогда, никогда не могла она найти эту девочку. Или, может быть, это была не девочка, а мальчик, но и его не нашла княжна Аня.
Иногда дедушка снимал с пальца алмазный перстень и на обратной стороне нажимал какую-то точечку, и там открывалась крохотная круглая дверка, а в ней сверкал маленький, как голубая точка, сапфир.
– Зачем он у тебя, дединька, в колечке? – спрашивала Аня.
И дедушка шутил:
– Ах, мой друг, он такой маленький, такой маленький, что боится выйти на свет божий – вот и спрятался под колечко.
Аня закрывала дверку своими маленькими пальчиками и надевала перстень на палец дедушке.
Иной раз дедушка доставал золотые тяжелые часы и раскрывал нижнюю крышку, и показывал нам механизм, который весь – всеми винтиками, колесиками, валиками и пружинками – изображал двуглавого орла, а дедушка хитро улыбался и приближал часы с раскрытым механизмом к уху брата Арсения и говорил:
– Слышишь, орел-то мой хоть и двуглавый, а живой, летать не может, а ходит, слышишь, как ходит?
Мы уходили от дедушки спать, и какие чудесные сны мы видели! Летел двуглавый орел по голубом небу, синяя точка сияла на голубом поле, как кусочек, отколовшийся от неба, и вокруг нее мальчики и девочки-с-пальчик водили хоровод и пели тихие песенки. А дедушкина розовая с золотом табакерка стояла подле, огромная и важная, и начинала про себя: «Все запомню, все запомню и как-нибудь спою от нечего делать, я ведь очень музыкальна». Мы знали теперь, откуда в табакерке песенки.
* * *
Но был в году один день, когда мы не пили «дедушкин шоколад» и музыка не играла в розовой табакерке. Это был бабушкин день, день памяти нашей бабки, Елены Андреевны. В этот день мы не видели дедушку, он с раннего утра уходил в церковь, к заупокойной обедне, а возвратившись, ел кутью с имбирем и, выпив кофе, уходил на весь день до позднего вечера в бабушкину комнату. Целый год эта комната – крайняя в доме, с окнами в сад, в белую сирень – не растворялась и никто не смел туда входить. Ключ от комнаты всегда был у дедушки под подушкой. И вот в бабушкин день тяжелый ключ с бронзовой шейкой в бронзовом замке в белой двери, и дед на целый день затворялся в комнате. Никто не знал, что он там делал. Он выходил лишь к обеду, который подавался ему в кабинет, весь сразу и так, что лакей не входил уже в кабинет, и, пообедав, дедушка вновь возвращался в бабушкину комнату, и лишь поздно ночью, когда все в доме уже спали, он уходил оттуда. Мы не любили этого бабушкина дня, мы ревновали к нему дедушку, который должен быть наш дедушка и ничей другой, а бабушку мы знали только по портрету: это была дама с розой в волосах, в зеленом бархатном платье, с черной собачкой в руках; она улыбалась на портрете, теперь бы я сказал, грустной и спокойной улыбкой, а тогда нам казалось, что она, как madame, смотрит на нас насмешливо, словно хочет сказать: «Ну, как вы еще думаете нашалить, мой милый?» – и мы не любили ее. Зачем дедушка уходил в ее комнату? И что там?
Однажды брат Арсений, отозвав меня в темный уголок детской, сказал мне:
– А знаешь, бабушка жива!
Я ничего не нашелся ему возразить: он своей решительностью в суждениях всегда озадачивал меня.
– Она целый год спит, – продолжал он таинственно, – а в этот день дедушка ее будит. Чтобы ее не разбудить, туда и не ходят.
– Нет, – отвечал я, оправившись от братней решительности, – это не бывает, так долго не спят.
Но брат возразил мне на это, что спала же долго, гораздо больше бабушки, la belle au bois dormant[11]11
Спящая в лесу красавица (фр.).
[Закрыть], про которую нам читала madame Justine. Однако я нашелся, что ему ответить, и очень обрадовался этому:
– А что она ест?
Брат молчал, а я торжествовал:
– Год нельзя не есть.
Я добавил даже:
– Ведь двери заперты.
Но брат тут-то нашелся:
– А окно?
Об этом я забыл. Окно действительно выходило в сад, и я не знал, было ли оно так заперто, как дверь. Я замолчал, теперь уже торжествовал брат. Он вслух фантазировал:
– В окно приносят ей пищу, и она ест белые яблоки, а дедушка ей заводит табакерку и показывает синий камень, потом она опять засыпает. И ее нельзя будить.
Я ничего не возражал брату, но с этого же вечера положил посмотреть, что делается в запертой комнате в бабушкин день.
И на второй, кажется, год после разговора с братом, когда мне было лет девять, я привел в исполнение свой план.
Дедушка, как всегда, был в бабушкин день у обедни, потом ел кутью и пил чай – обо всем этом я знал от няни – и собирался идти в бабушкину комнату. Было чудесное майское утро. Сирень цвела, и сад был в цвету, лиловый и белый. Я шаркнул к белому кусту, который был около окна в бабушкину комнату, и затаился в нем, притулившись в самой его середине. Сердце мое билось. Я пристально всматривался в бабушкино окно, но ничего не было видно из-за спущенной плотной малиновой занавески. Я ждал несколько минут. Вдруг кто-то отстранил занавеску, и рука с алмазом на пальце распахнула окно: то был дедушка.
У него в руке был белый платок, и он переходил с ним от предмета к предмету, медленно двигаясь по комнате. Он притрагивался платком к мебели, к столу, к книгам и вещам и тщательно проводил платком по ним: я понял, что он стирает пыль.
Внутренность комнаты я видел не всю. Мне были видны лишь угол, дверь и одна из стен. Комната была оклеена голубыми обоями с золотыми сетками, наполненными белыми цветами и тонкой зеленью. У стены стоял туалетный стол с серебряными украшениями. Два амура из темной бронзы держали овальное зеркало, завешанное голубой тафтой. В двух фарфоровых голубых подсвечниках вставлены были наполовину сгоревшие витые восковые свечи. Несколько флаконов и фарфоровых коробочек для пудры стояло возле зеркала, с одной из коробочек снята была крышка, и она лежала тут же, на желтом листке мелко исписанной почтовой бумаги; кое-где по столу были разбросаны булавки и шпильки. Золотой тонкий браслет лежал в раскрытом футляре из фиолетового бархата; маленький перламутровый веер пересекал угол стола. Все было в том виде, как будто только что отошла от туалета бабушка и еще не успели прибрать камеристки туалетные вещи, или, может быть, бабушка еще и не ушла, а тут же она, вот за этой ширмой, расписанной по шелку пастушка́м и и пастушками с овечками?!
Над столиком в толстой золотой раме висел портрет. Я узнал бабушку. Да, это была она, но не та дама с собачкой, которую мы знали; она была молода и улыбалась так нежно, так тихо и ясно, что и мне, ребенку, что-то сказала эта улыбка, чем-то согрела и посветила детскому сердцу, и вдруг мне стало так жаль, до слез жаль дедушку. «Вот ведь она какая, бабушка, – подумал я. – Бедный, бедный дедушка! Что он делает тут?» Бабушка была в палевом тюлевом платье, и ворох красных и белых роз лежал у нее на коленях. Она тихо перебирала розы руками, и крупная, исчерна-красная роза была у нее в левой руке. И тут только, оторвавшись от предметов, бывших в комнате, и бабушкина портрета, я посмотрел на дедушку. Он неподвижно сидел перед туалетным столиком, опираясь на толстую палку с серебряным набалдашником, и смотрел, не отрываясь, на бабушку. Он, мне показалось, шептал что-то, что – я не мог расслышать. На лице его было такое глубокое и явное страданье, что и я, глупый ребенок, приметил его. Я с изумлением увидал, как одна за другой слезы потекли из глаз дедушки. «Дедушка плачет!» – чуть не вскрикнул я.
Да, он плакал, горько, безутешно и тихо, как плачут те, кто знает, что их никто не видит и не слышит, как плачут те, у кого нет и не будет ничего на свете, кроме этих слез, и бесконечно горьких, и бесконечно дорогих одновременно.
Дедушка плакал, а я жался в своем кусте, боясь зашуметь и прервать эти слезы; я обвинял себя, что я заглянул в бабушкину комнату, я просил про себя у дедушки и у Бога прощенья за это, я больно сжимал свою руку между двумя ветками сирени: «Так мне и надо! Так и надо!» – почти шептал я. А дедушка все плакал, не скрывая и не удерживая слезы.
Вдруг он схватил один из флаконов, стоявших на столике, открыл его и стал нюхать, крепко прижимая горлышко к лицу. Он впитывал в себя жадно и страстно последний запах духов, уже чуть слышный, едва сохранившийся в граненом хрустале. Что говорил ему этот запах? Напоминал ли он бабушку? Был ли это запах ее любимых духов, запах ее платья, ее рук и лица – или просто минувшей молодостью веяло от него? Затем бережно, боясь сдвинуть или повернуть, он приник губами к желтому исписанному листку, лежавшему на столике, покрывая его бережными поцелуями, не в силах от него оторваться.
Я не выдержал больше. Я зашелестел сиреневыми ветками, бросился бежать из сада.
Я никогда больше не пытался узнать, что делает дедушка в бабушкиной комнате. Брату Арсению я не сказал ни слова о том, что видел. Я спокойно снес обиду, когда он назвал меня трусом, хвастунишкой; он долго дразнил меня тем, что я из трусости не исполнил обещания подсмотреть, кто живет в бабушкиной комнате.
1917 г.
Троицын день
Памяти Н. С. Лескова
Около бабушкина имения, в версте, была церковь во имя Николы, а при ней село Николичи, небольшое, тихое и дружное. Мужики не ходили на промысел в город, зимою кустарничали: делали деревянные ложки и мастерили нехитрые игрушки: пузатых коняшек и мужика с медведем. Няня наша была из Николич. Она еще близко помнила крепостное время. Мизинца на руке у нее не было.
– Няня, няня, где у тебя палец? – спросишь ее, бывало, а она ответит обычной шуткой:
– Медведю скормила.
– Как скормила?
– А так, взяла да скормила.
А дело было простое: няня была дворовой девчонкой, случилось ей что-то нашалить, ее и заперли в темный чулан. В чулане же сидел на привязи, тоже наказанный, большой медвежонок Барчук, любимец барчонка Семена Ксенофонтовича, моего деда. Про это забыли, когда вели няню в чулан. Еще не успели затворить за ней дверь чулана, как медвежонок, рассерженный неволей, тяпнул няню за мизинец. Девочка завопила и бросилась из чулана. Палец ей пришлось отнять, от перепуга же сделалась с ней горячка.
– Я так тогда, милый, запалилась, – говорила няня, – в таком жару лежала, что думали, Богу душу отдам, и уж отец Олимпий причащать меня приходил, а он был теперешнему-то отцу Василию дед. Их род тут век векует, в Николичах: сын к отцу восходит, а от отца к сыну идет, а от сына к внуку. Все батюшке Николе молебствуют.
Няня полагала, что поповскому корню в Николичах конца не будет, а он на отце Василии и пресекся.
Я его помню, этого отца Василия. Он был еще тогда молодой, когда я приезжал к бабушке на побывку из Петербурга, где учился в корпусе.
I
Поповский дом стоял неблизко от церкви, на взгорочке, четырехоконный, палевый по окраске, с белыми ставнями, с зеленой кровлей; а за домом был сад, большой и пестрый: поближе к дому росли пионы, бабушкин подарок, и пахучий, густой жасмин, а дальше были яблони – славилась батюшкина антоновка: ядреная, крепкая, румянобокая, – а еще дальше уж все путалось: была чаща – дикий хмель обвивал одичавшие кусты смородины и крыжовника, дрожала молодая осинка, как в настоящем лесу, ало-лиловыми шапками пробирался через всякую зеленую гущину стройный иванов-чай, и густо ску́пилась толстая, жирная крапива в глубоком овраге, которым кончался батюшкин сад; а за оврагом начиналось кладбище, тоже густое, заросшее липами и березами, с черными грачиными гнездовьями. За кладбищем и церковью было поле.
Леса наши посторонились и дали место полевому простору, далекому, бескрайнему, уходящему за окоём, как будто обещающему, что он доведет и до настоящих степей, до зеленой русской глади полевой, до хлебных волн этих золотых, докатывающихся, верста за верстой, поле за полем, до южного моря. На окраине кладбища был давно разрытый курганчик, с него далеко было видно поле, в эту вымоину, пробитую ржаными волнами среди лесов, как в окно на простор. И по весне журавли к нам летят всегда с той стороны, а осенью туда пропадают, оттуда прощаются слабеющими тонкими клинами.
Я часто сиживал там, особенно на закате, и любил читать вслух себе самому стихи, всегда почти Лермонтова, а иногда, если было совсем грустно и хотелось плакать так, как хочется плакать в семнадцать лет, без причины, без нужды, от молодости, что ли, или от последней чистоты сердечной, которой уж скоро не будет, – тогда я, глуша в себе слезы, тихо повторял по нескольку раз:
Уже бледнеет день, склоняясь за горою…
Однажды я засиделся на своем месте. Пора было идти домой, я сбежал с курганчика, спрыгнул в овраг, чтобы оврагом, мимо поповского сада, добежать скорее до нашего дома. Уже вечерело. Я прошел несколько шагов, отбиваясь локтями от высокой крапивы, и оглянулся на курганчик. Там, на моем месте, на примятой траве, стояла женская фигура в белом.
Я узнал молодую попадью, Наталью Егоровну. Она смотрела, не сводя глаз, куда только что смотрел я, в угасшую полевую даль. Закат из яркого и багрового стал пепельно-розовым, слабая розовая пелена, складка за складкой, спадала с неба и падала куда-то за дорогу, за полосы зеленого хлеба, тускнея и омрачаясь. Неприметно и ровно яснело небо, но как-то изнутри, из удаленной глубины своей: за редкими еще звездами, зажигавшимися одна за другой в вышине, казалось, был еще какой-то свет, тусклый и тайный. У нас летом ночи светлые.
Было совсем тихо. Это та тишина, когда кажется, что кто-то зовет из поля, из леса, с реки, и только не дослушиваешь слов и не можешь ответить или не знаешь, кому отвечать. Если крикнуть, то в своем голосе почуется чей-то чужой и опять зовущий голос, и лучше тогда молчать, потому что откликается тогда и старому и молодому только одна тоска, отголосная тоска полевая. Какая-то ночная птица выпорхнула из ореховой заросли и полетела к кладбищу. Я глянул еще на курганчик. Белая женская фигура виднелась там неподвижно и все в том же положении.
Я прибавил шагу и вспомнил почему-то про отца Василия. Где он? Спит, должно быть. Овраг мой огибал поповский сад. Поднялся маленький ветерок, зашумели осины, и шелохнулся орешник. Со стороны батюшкина дома до меня донесся тихий звук, мягкий и довольно приятный. Впрочем, он сейчас же потонул в усиливающемся шуме сада. Я вспомнил, что у отца Василия были старые дедовские гусли, некоторые струны были совсем оборваны, но несколько струн уцелело, и он изредка играл на них «Помощник и покровитель».
Ветерок резче и резче перебирал осиновые листочки, и они заворачивались испуганно и дружно на свои белесые изнанки. В саду шумело. Я знал и любил этот шум. Еще далеко гроза, еще и шума не слышно, а уж деревья чуют тревогу и как-то хрупко и нежно вздрагивают. Какой-то пугливый говор бывает тогда между ними, уж слишком сознательно-тих и внятно-скорбен этот шум. И это так грустно и сладостно слушать; впрочем, оттого, может быть, что в семнадцать лет любишь эту тревогу, такую чуткую и нежную, как и всякую другую.
Я пришел домой и разделся, но долго не мог уснуть. Ночью действительно собралась гроза.
II
Бабушка плохо спала ночь: она боялась грозы и прилепляла страстные свечи к божнице и крестила окна и дверь на балкон. Она встретила меня за утренним чаем сухо, дала поцеловать руку и продолжала слушать, что рассказывала ей Лизавета Ивановна, экономка. Бабушка мешала ложечкой кофе в чашечке с портретом турецкого паши в красной феске, а Лизавета Ивановна перекладывала из банки на блюдце сушеную сливу и говорила:
– Ходит и вечером, и как одна идти не боится. Станет и смотрит, и все смотрит, а на что – неизвестно. Или на дорогу выйдет – глядит, не оторвется.
Я вспомнил вчерашнюю женскую фигуру на курганчике и стал вслушиваться.
– Видели, матушка, несколькие видели. Отец Василий выйдет за нею, будто гулять, постоит-постоит, скажет: «Пойдем, дескать, мне завтра утреню служить. Спать пора». А она ему: «Сейчас. Я скоро приду». Он уйдет, а она все смотрит и смотрит, а и несмотренного-то нигде ничего нет: поле да поле.
Бабушка отхлебнула кофе, отодвинула от себя чашку с пашой и молвила, почти про себя:
– Ну, это она уходить собралась.
– Как уходить? – вырвалось у меня невольно.
– А! – досадливо протянула бабушка. – Много будешь знать, скоро состаришься. Напился кофе – и иди к себе.
Я встал, поцеловал у нее руку и вышел.
* * *
Вечером у нас были батюшка с попадьей. Няня разливала чай вместо Лизаветы Ивановны – это всегда бывало, когда бабушка не хотела, чтобы был кто-нибудь лишний. Меня позвали пить чай не сразу, а когда успели порядочно посидеть за столом. Бабушка вязала свое обычное broderie anglaise[12]12
Английская вышивка (фр.).
[Закрыть], батюшка пил чай с блюдечка, а попадья сидела поодаль перед остывшей чашкой. Варенье на блюдечке у нее было нетронуто. Я подошел к отцу Василию под благословенье. Он встал, благословил меня, торопливо подал руку и улыбнулся: у него была хорошая улыбка, широкая и почти детская, очень красившая его лицо, слишком моложавое для его лет, – ему было под сорок, – но какое-то серое и тоскливое, только глаза были хорошие: серые, в голубизну, большие. Я поклонился попадье. Она молча подала руку. Я ее видел много раз и раньше, но только теперь вгляделся в ее лицо: на нем не было ни тени улыбки, ни тени того внутреннего движения, которое обращено к человеку и которое мы зовем приветливостью или ласковостью в лице, но и ничего холодного, неприятного тоже не было. Была какая-то грустная отчужденность в глазах, в складках губ, но все время казалось – она скажет сейчас: «Да, я с вами, я такая же, как вы, вот скину с себя что-то, что и сама не знаю, и буду, как вы. Уж вы потерпите пока, что я такая». Где-то была, может быть, скрыта и ласка в ее лице, но робкая, запрятанная, не верящая в себя. Хорошее, милое русское лицо – и опять скорее лицо девушки, а не женщины. Я теперь, через много лет, так вспоминаю ее, тогда же я просто подумал: какая она славная! На ней было серенькое ситцевое платье горошком, а на плечах белый кашемировый с синими цветами платок.
Няня налила мне чаю, усадила около себя за самовар, и мне были видны лица бабушки, священника и Натальи Егоровны.
Бабушка говорила, обращаясь к ним обоим:
– Вот и поезжайте к Митрофанию. Попа на место твое, отец Василий, найму: есть в городе ранний батюшка, отец Прокл, он пойдет с охотой. Пое́здитесь. Богу помо́литесь. Погода хорошая, путь приятный. За меня, грешницу, угоднику помолитесь. Поедешь, что ли, отец?
Отец Василий отодвинул от себя стакан, положил на него ложечку и ответил:
– Я рад бы, Павла Павловна, только как отец благочинный посмотрят…
– С ним мое уж дело уладить. Твоя забота уехать.
– Так я что же? Я угодника Митрофания с детства чту.
– А чтишь, так и поезжай. У меня ж в Воронеже кузен Александр в отставке живет, рыбу удит да певчих архиерейских слушает; к нему заедешь от меня с поклоном, а тебе, мать моя, – обратилась бабушка к Наталье Егоровне, – презент дам ему отвезть из домашней снеди. Чай, не откажешь старухе, отвезешь, поедешь.
– Отвезу, – молвила попадья. – Я, как Вася.
– Ну, и спасибо, – торопилась бабушка все уладить. – Поезжайте. В степях теперь запах какой от травы идет! Я езживала в молодых годах об эту пору и теперь вспоминаю с удовольствием, травы эти пахучие помню.
– Про это что и говорить, – вставил батюшка, словно чем-то обеспокоясь, – теперь везде хорошо, Павла Павловна: летнее время.
И, слегка изменяя разговор, он обратился к бабушке:
– От угодника о новых чудотворениях в «Епархиальных ведомостях» пишут: слепого отрока исцелил святитель, и при стечении в народе, так что общее уверение было.
И он стал рассказывать бабушке про новые чудеса угодника. Попадья обернулась к няне, с которой я изредка перебрасывался словами:
– Рады, няня, небось, что выходок приехал?
– Рада, матушка, рада, – ответила няня. – Только дома-то его вижу редко, не насмотрюсь, видится, до осени-то. Он у нас дома-то не седун, – кивнула на меня няня, – вот беда.
– Вы любите гулять? – спросила, посмотрев на меня, попадья.
– Люблю, – сказал я и почему-то глянул на бабушку, но та внимательно слушала отца Василия.
– А вы куда любите больше ходить?
Я не ожидал, что она меня еще будет спрашивать, и, смешавшись, назвал первое попавшееся место. Но она живо мне ответила:
– Пчелин овраг я знаю. Как же! Я туда прежде часто ходила. Там земляника самая поздняя бывает: везде сойдет, а там все еще краснеет. И сочная. А если пойти вправо от горелой сосны, то есть место, где малинник по горелому месту идет, и там малина самая крупная, но очень там густо: все платье изорвешь, пока дойдешь. Пчела то место любит – там ведь и цветов множество: медведица есть и иван-чай, и пчела жужмя жужжит. Там пчельник хорошо бы устроить. И тихо там очень. Никого нет… – Наталья Егоровна остановилась. – Впрочем, я теперь туда не хожу.
– И хорошо, что не ходишь, – вставила бабушка. Она не дослушала, что ей говорил священник. – Малины-то и в саду у тебя сколько хочешь, а место там глухое.
– Я с Васей туда раз ходила, когда еще Коля был жив. – Наталья Егоровна повернулась к мужу: – Помнишь, Вася? Мы после вечерни пошли. Кукушки тогда еще все перекликались, одна перед другой перекликалась. Кукушкин день был, должно быть, как бабы говорят.
– Помню, как же, помню! – отозвался отец Василий. – Да ведь это и недавно было. Два года минуло недавно, как Коля помер, а это незадолго мы ходили.
Он улыбнулся жене.
– Благо, лесу у нас много; она у меня лесовица, – кивнул он бабушке на попадью.
– Пустяки говоришь, отец, – строго остановила его бабушка. – Она тебе жена, какая такая лесовица? А жена на невидимой веревочке к дому должна быть привязана; вокруг да около ходи, далеко не заходи, а и зайдешь, так про веревочку помни: она хоть и незримая, да веревочка. Вот как надо.
И, прервав себя, она спросила батюшку:
– А сколько в дорогу возьмешь?
– Да сотню нужно.
– Больше бери: по дороге в Задонск заедете – святитель великий. Если у тебя нет, я дам.
– Нет, спасибо, есть, – отвечал, вставая, отец Василий. – Хватит.
Все стали прощаться. Бабушка поцеловала в лоб попадью и, провожая до дверей, молвила ей:
– Ну, смотри, мать, от Бога милости мне привози, а и сама помолись хорошенько. Где можно, и пешечком пройди, не все ехать. В Задонске к Тихону пойдите, пешком очень хорошо. Степь кругом, жаворонки поют, а по дороге все богомольцы. На меня, старуху, не сердись, добром помяни.
Наталья Егоровна обняла бабушку и заплакала.
– Ну, чего, чего? – засуетилась бабушка около нее. – Все хорошо будет, Бог видит, Бог слышит. Неужели же не поможет?
Наталья Егоровна отерла слезы и поцеловала бабушке руку. Бабушка погладила ее по волосам и поцеловала.
– Эх, слабёна она у тебя, слабёна, – сказала она отцу Василию.
Он ничего не ответил и вышел.
III
В тот же вечер я забрался к няне в комнату и не давал ей спать, – она уже совсем помолилась Богу перед сном, – приставая с расспросами:
– Куда она уходит? Зачем? И зачем бабушка посылает их на богомолье?
Няня сначала отмалчивалась, а потом сказала, оправляя на ночь лампадку перед образом:
– Затем и посылает, что Лизавета ей наговорила.
– Что наговорила?
– А то, что попадья как бы не ушла.
– А почему она знает?
– Потому, что попадья стала гулять уходить далеко, и на поле засматривается, и беспокой ее томит.
– Какой беспокой?
– Чтобы идти ей, идти и идти, – на край света идти безостанно…
– Ну, и что же бабушка? Какое ей дело?
– Бабушке и отца Василия жаль, и попадью жалеет. Ведь это срам-то какой! От мужа, да от священника еще, – уходить! Бабинька и хочет, чтобы поехали на богомолье: может быть, путем-то и уход ее весь пройдет, путь тягу всю ее разобьет… а угодник, гляди, и молитвы услышит: к дому ее обернет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































