Текст книги "Тихие яблони. Вновь обретенная русская проза"
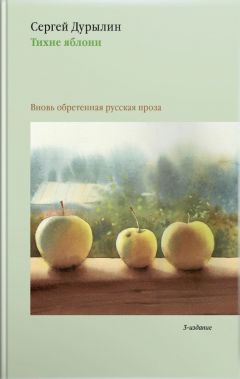
Автор книги: Сергей Дурылин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
– А начнутся, зимнее дело, всенощные. Нас не брал отец, младших, в церковь: холодно, не топлено в ней, и идти далеко – мы ждем, когда отец вернется ото всенощной, на печке лежим в тепле. На ужин мать даст по куску хлеба и по картофелине печеной – голодно. А родитель входит и из платка вынет благословенный хлеб, простой, из муки серой, несеяной, но такой вот прекрасный, что лежит передо мной, маленький, скудный, но для детского богословия это не благословенный хлеб был, это сама сладость ангелов чистейшая была. И вкусишь ее с радостью, со счастьем несомненным, и уснешь спокойно, и сыт, и весел, и счастлив. И в самых снах была – сладость ангелов. И там, на печке, уповаю, – ангельское было тогда место.
Архиерей замолчал, поникнув в коротком раздумье. Он преодолел его, отер платком лицо и шутливо обратился к генералу:
– Ну, как же вы, ваше превосходительство, хотите, чтобы я его на поклоны поставил за нарушение устава?
– Придется отменить взыскание, ваше преосвященство, – поддержал тон генерал.
– Придется, придется.
Хозяин воспользовался видимым концом архиерейского рассказа и стал усиленно потчевать жареной белугой с нежинскими огурцами.
Ужин подходил к концу, когда архимандрит сказал для всех неожиданно и с видимым волнением:
– Вы не можете себе представить, владыка, как мне близок ваш рассказ, и вот вы все изволили винить здешнего псаломщика в ваших воспоминаниях, а мне придется винить вас, ваше преосвященство, что и мне нечто вспомянулось, и не удержусь рассказать нечто в двух словах, если вы примете на себя вину, как, по-видимому, принимает на себя Иван Архипович.
– Придется принять, ваше преосвященство, – с некоторым задором поддержал генерал.
– Видно, придется, – согласился архиерей.
– В рассказе его преосвященства, – начал отец Ефросин, – вот что меня больше всего поражает: «детское богословие», как прекрасно выразился владыка, извлекает Божественное из самого простого и ангелов видит там, где воистину они суть, но никому незримы и недоступны, кроме как действующим богословам, которых, по слову Спасителя, и «есть Царство Небесное». Нечто сходствующее из своего «детского богословия» я и хочу рассказать в дополнение к словам владыки. Хлеб насущный у меня был в детстве в таком изобилии, что довольно его не на сутки, а на полный годовой круг. Я из богатой купеческой семьи, и если б сказали мне, что есть такие мальчики, которым на ужин дают ломоть хлеба с картофелиной, – я бы не поверил. Но я не богатство это вспоминаю, а корочку хлеба, простого, ржаного.
Помню, я забежал на кухню, взял у старшей поварихи Марии Петровны ломоть большой черного хлеба, не с нашей купеческой мелкой, а с их «людской» крупной солью, – я проголодался – и побежал в сад, на ходу жуя, и вдруг увидал, что брат завладел моими красками и рисует солдатиков. Я стал вырывать у него краски. Он был ловчей меня и убежал с красками. А я рассердился, впал в гнев и бросил хлеб на землю и стал топтать ногами со злостью. «Что ты делаешь, баринушка? – вдруг слышу над собой. – Хлеб Ангел Божий сеял, Ангел дождем поил, Ангел в житнице хранил, – а ты ногами, милый, попираешь». Это Арина надо мной стояла, черная, «людская» кухарка. Я остановился, и слезы осеклись. «Как Ангел сеял?» – спрашиваю. – «А так, незримо». – «А мужик?» – «А мужик только семена бросал». – «А кто Ангела видел?» – «А кто свят; кто ангельский хлеб ест». – «А какой ангельский?» – «А животный». И вот до тоски – до первой сердечной тоски, – захотелось мне тогда ангельского хлеба. У меня дружба оттуда пошла с Ариной, хоть ничего больше непонятного ей слова «животный» она мне сказать не умела. Подошла Страстная неделя, – я и узнал, что такое ангельский хлеб. Дворников сын Васька, тайный мой друг – явно нам не позволяли с ним видеться – сказал мне: «А Арина с Великого понедельника по Свят день есть ничего не будет, кроме просфоры». – «Как не будет?» Ужас на меня напал: семь дней не есть! «Не будет». Я не поверил. Я стал подсматривать за Ариной: не ест. И лукавство детское в ход пустил: подаю ей раз калачика, намазанного икрой, и угощаю, а она мне: «Кушай сам, соколик. Спасибо на ласковом слове». – «А ты съешь!» – «Не могу, милый». – «Отчего?» – «Оттого, что тогда на Великий день ангельского хлеба не дадут». – «А кому его дадут?» – «Кто Богу постился». – «А мне дадут?» – «Как тебе, младенцу, не дать!» И погладила меня заскорузлой рукой по голове. Ушла от меня, а я ее догнал и спрашиваю: «А когда будут давать?» – «Сам увидишь», – и улыбнулась.
А Васька мне приносил все более и более чудесные вести: под Великий четверг, как начать Арине пасхи и куличи готовить, она в сарае одна на ранней заре ключевой водой окатилась и долго поклоны клала. Все эти дни только святую воду пила. А в Великую субботу она пришла от ранней обедни, в новом платье, тихая, счастливая, увидал я ее и по лицу узнал, что она ангельский хлеб ела: «сладость ангелов» на лице ее была, определю это по вашему детскому богословию, владыка. Я и спросить ее боялся; но залучил ее как-то в темном уголку и тихо спросил: «Арина, ты ела сегодня ангельский хлеб?» – «Вкусила, милый». И еще тоже, совсем уже тихо, прибавил: «И мне дадут? Я пощусь». – «Дадут, милый. Завтра дадут». И я решил ждать ангельского хлеба. Я не хотел ничего есть: я боялся, что мне его иначе не дадут. Мама заметила, что я ничего не ел за столом. «Что ты сегодня, Женя, не ешь ничего? Заболеваешь, что ли? Вот будет беда к празднику». – «Нет, я здоров. Я ем». К светлой заутрене меня не брали: боялись тесноты, а за поздней обедней приобщали Святых Тайн. И ощутил я сердцем детским впервые до глубины души, что вкусил «хлеба ангельского» – воистину «сладость ангелов» была во мне. Кто же мне открыл впервые и навсегда эту сладость поста, эту радость вечного хлеба ангельского? Кто сумел мне все объяснить двумя словами? Неграмотная, «людская» Арина. Простите, владыка, за неуместное многоречие, но, право, сами вы причиной, что ваша «сладость ангелов» напомнила мне мой «хлеб ангельский». Погрешительно было так долго говорить, но, может быть, погрешительнее было бы вовсе умолчать. Еще раз простите.
Архиерей ничего не ответил, взял один из благословенных хлебов и подал архимандриту:
– Вот вам в дальнее подобие хлеба ангельского, по изъяснению нашего с вами детского богословия.
И, обратившись к присутствующим, сказал громко и как-то весело:
– Вы простите нас с его высокопреподобием. Вижу себе и ему оправдание только в одном: по уставу полагалось бы за трапезой чтение минейное – я сделал упущение, – и такого чтения не было, но все-таки, мню, нечто душе-небесполезное здесь было предложено не нами, а теми, кто в простоте сердца предложил нам это небесполезное во дни нашего младенчества. Час уж поздний, и нам с отцом Евфросином пора на покой. Отец протодиакон, прочтите молитву.
Все поднялись из-за стола.
II
Архиерею на ночлег была отведена одна комната с архимандритом. Он сильно устал, быстро снял рясу и в одном подряснике сел в глубокое кресло, покрытое старым турецким ковром.
– Располагайтесь, отец архимандрит, где удобнее: на кровати или на диване.
– Мне безразлично.
– И мне. При безразличии же вступает в права случайность. Вы случайно сейчас находитесь около дивана, я – ближе к кровати. Так и почивать нам. Ужин после всенощной собственно для нашего брата есть преступление, вернее, себянежаление. Ужинная повинность – одна из самых тяжелых, и душевное беспокойство после нее является, по крайней мере, у меня. Однако разболтался я некстати.
– Мое «некстати» больше вашего, владыка.
Архиерей отозвался с особым оживлением:
– Ну, что там. Не разберешь, что кстати, что некстати! Устав, вот видите, и в церкви не всегда удастся соблюсти, при всем желании. А я еще и «некстати» свое хочу продолжить. Прав ила все на утро отложу, кроме вечерних молитв, а вам хочу один вопрос задать, совсем «некстати», а вы можете на него и не отвечать, если не захотите.
Архимандрит, поправлявший подушки на предназначенном ему диване, с удивлением обернулся, стоя подле дивана.
– Я хочу вас спросить – опять-таки говорю: некстати, – правду ли про вас говорят, что вы, когда назначены в Кругоборск были, где древлехранилище знаменитое, икону Оригена отыскивали, и будто нашли, и молились на нее, а потом оказалось, что это не Ориген, а Григорий Богослов?
– Нет, неправда.
– А я от духовных лиц, причастных археологии, слышал, и даже вам сказать могу, как дело было: будто нашли икону темную, черную, какого-то там давнего века: я в этом ничего не понимаю, – и на ней святой трудно различимый, и греческое надписание: ό αγιος [9]9
Святой (греч.)
[Закрыть]: – это ясно, а другие остались только буквы: ο, ρ, γ, ο, ς, и вы из них вывели, что это Όριγηνος, – уж очень вам Оригенову икону найти хотелось, чтобы его из еретиков сразу в святые повысить.
– Ориген никогда не был признаваем за еретика.
– Ну, за полуеретика. И лампаду будто зажгли и молились.
– Ложь.
– А потом оказалось, что из греческих букв слагается вовсе не не Όριγηνος, а Γριγόριος, не еретик, а великий вселенский учитель и святитель Григорий Богослов. И вот только что не сходятся в одном: лампадку-то вам пожелалось загасить – или оставили? Кто говорит, оставили – это кто подобрее, а кто позлее – те говорят, загасили: не хотели, чтобы перед столпом догматов горела.
Архимандрит, стоя неподвижно, усмехнулся и спросил с некоторою горечью:
– Позвольте, владыка, уж и я буду некстати спрашивать: а вы верите этому сами?
– Нет, не верю, – спокойно ответил архиерей. – Оттого я спрашиваю, что не верю. Уж слишком глупо.
– По-моему, не глупо, а злостно.
– Злость всегда глупа, а вернее, глупость зла. Повторяю: не верю.
– Это все не могут мне простить мою книгу.
– Не читал.
– Я знаю, что не читали.
– Оттого, думаете, и спрашиваю? Не оттого. И не совсем верите, что не читал: не читал, действительно, но с содержанием знаком, т. е. с мыслью с основною, с самыми крепкими местами сочинения, а их ведь в каждом всегда не много: одно, два.
– И находите, что после моей книги, или ее основной мысли, что все равно, можно начать поиски Оригеновой иконы и, найдя, лампаду перед ней зажечь?
– Нет, не то нахожу. В вашей книге много детского богословия, вот того самого, о котором сегодня мы с вами оба некстати много говорили за ужином, а детское богословие и Ориген не одно и то же.
– И какую же главную мысль моей книги вы нашли?
– И детское богословие всегда пахнет Оригеном для тех, в ком или никогда этого богословия не было, или оно задавлено Яшкою…
Архимандрит низко склонил голову, помолчал и тихо молвил:
– Не понимаю.
– Яшку не понимаете? Очень просто. Старец один мне так говорил, чистейшей жизни был и высочайшего детского богословия весь преисполнен. Яшкой он наше «я» пресловутое называл, философствующее, богословствующее, самоутверждающееся, самочинное. «Яшка», говорил, на последнем должен стоять месте, «я» – последняя буква в азбуке, – а у нас Яшка на первое место забрался и все другие буквы вытеснил и зачеркнул. В детском богословии вовсе Яшки нет: там не Яшка, там Ангел богословствует и предлагает нам снедь «ангелов сладость». В духовную снедь, не только в телесную. Яшка же умник известный: он нас с вами непременно бы поправил и объяснил бы нам, что вы – под «хлебом ангельским», а я под «сладостью ангелов» совсем не то, что надо, разумели, и даже оба в ересь впали. Какую – он бы нашел, он в канонах начитан. Это он лампадку Оригенову у вас увидал; он на это зорок.
– Что же он прочитал в моей книге – этот Яшка ваш любопытный, – улыбнулся архимандрит, – и действительно, к сожалению, существующий?
– Прочитал то же, что и все: то, что там напечатано, но понял-то по-яшкину. Вы ведь о чем там писали? О Любви Божественной Господа нашего Иисуса Христа, о некотором тончайшем, правда, на наш слепой человеческий взгляд, как бы поглощении любовью всех иных свойств Божиих – поглощении жертвенном, голгофском, распинательном, ни для кого, кроме Сына Божия, недоступном и нисколько Ипостаси Божией и всей полноты свойств Божиих не колеблющем? И в этом тончайшем и неопределимом почти поглощении жертвенном вы, сколько могу судить, и видите то же, что Апостол любви увидел, когда всю полноту свойств Божиих свел к одной Любви, определив на все времена: «БОГ ЛЮБЫ есть». О сем вы писали? Не ошибаюсь я? Тогда поправьте.
– Об этом.
– А любовь Божия в детском только богословии раскрывается, а для Яшкина богословия она не существует, и где ее Яшка учует, там сейчас же Оригена найдет, – и анафема!
– Я не знал, что вы так думаете! – воскликнул архимандрит. Он в волнении заходил по комнате.
– А я не знал, и не узнал бы, если бы не сегодняшнее отступление от устава, что вы так некстати можете говорить, как за ужином говорили, – рассмеялся архиерей. – Я ведь книги-то вашей все-таки не читал. Но я про Яшку доскажу. Яшка ведь как богословствует? Он портной ведь, Яшка-то, и скверный портной: сошьет платье на все мирозданье – и рад, а платье сшито скверно, не по росту, жмет и коробит отовсюду, обузит Яшка – и где ему шить? Он ведь косой и левша, все мерки переврет – и не замечает, что платье рвется по швам и никуда не годно. Он и на милость Божию и на Любовь Божию свое платье сшил, и все обузил, – и что под его платьем не умещается и рвет его по швам, Любовь Христова, широкая и милующая, – то все у него Ориген.
– Значит, хорошо, что за ужином, при нашем детском богословствовании вашего Яшки не было? – засмеялся в свою очередь архимандрит.
– Хорошо. Оттого мы некстати и разговорились, что его не было. А книгу всякий Яшка может купить.
– Вы ведь отлично кончили Академию. Я всегда не понимал, почему вы не писали магистерской.
– Оттого, что не хотел, чтобы Яшка ее читал и рецензии на нее писал.
– Оттого вы и с философии перешли на устав?
– Оттого. Яшке до устава дела нет. Там «я» последняя буква в азбуке, как мой старец говорил.
– Значит, я неправильно поступил, что написал свою книгу?
– Неправильно. Не надо писать книг. Детское богословие в книгах не выразить, потому что Яшка все книги испортит.
– А в чем же выразить детское богословие?
– В богослужении, в молитве, в разных благих житейских «некстати». Там Яшке делать нечего. Да и вы после своей книги что-то ничего не писали. Ни одной строчки вашей нигде не видно.
– Яшки боюсь, – усмехнулся архимандрит с видимой горечью.
– Пошло у нас на вопросы некстати. Небось, и меня за Яшку считали? – спросил архиерей, вставая с кресла.
– Считал, признаюсь.
– Какой я Яшка! Я не Яшка, я – Пахомий, – я Яшки терпеть не могу.
– Теперь вижу. И знаете, ваше преосвященство, я ведь очень тосковал, – все продолжаю свое «некстати», – что никак и нигде без Яшек говорить и писать нельзя.
– Я уж привык, – ответил архиерей. – И вы привыкнете. Или уставом займетесь – и Яшку туда не пускайте.
– Не могу привыкнуть. Вот время сейчас позднее, – архимандрит посмотрел на архиерейские часы, положенные на ночной столик. – Первый час в исходе. А без Яшки меня тянет к детскому богословствованию. Я очень изголодался.
– Да ведь ужинали только что! – пошутил архиерей. – Я прилягу. А вы говорите. Ничего. Все у нас пошло некстати. Стоило только раз устав нарушить – и дальше пойдут все нарушения. Говорите. Яшки в комнатах нет.
Архиерей, скинув сапоги, лег на постель, а архимандрит ходил из угла в угол, грузно ступая. Он садился на кресле, вставал, вновь садился, опять вставал и ходил, потом подошел к кровати и сел в ногах архиерея.
– У меня тоска бывает. Но я не о ней буду говорить. А еще хочу вспомнить без Яшки страничку своего детского богословия. Я-то уж был тогда не тот мальчик, которому Арина о хлебе ангельском поведывала. Позади были годы младенчества, отрочества, гимназического учения. Я был студент, и мой собственный «Яшка» был очень важный господин, снабженный всеми отрицаниями, полагающимися по штату русскому интеллигенту, как удостоверение его зрелости. В Бога я не верил – до скуки, до пустоты какой-то не верил. Я заметил, что разные неверия бывают…
– Фомино похваляется, – вставил архиерей.
– Мое было не Фомино. Холодом каким-то дрожала душа в пустоте. Вражды к Богу не было, но все без Него, все без Него было в душе, в мире, в природе, в самом бытии, – и все без цвета, без сути какой-то, без запаха, без вкуса. Все на своем как будто месте, но надо всем какая-то невидимая дыра, в которую уплывает все тепло бытия.
– Как, как? – привстал архиерей на постели. – Тепло бытия? Пожалуй, что так. Только вычурно сказали. В безбожии этого-то и нет, все есть, а этого нет. Три градуса морозу. И дров нет, на топку. Ничем не нагонишь тепла. Без тепла жизни нет.
– У меня и не было жизни. Жил я с няней, старой-престарой. Отец умер, и мать умерла. Состоянием нашим управлял холостяк-дядя, наш крестный, а мы с братом и были рады: он у меня географ, и экспедицию сменял на экспедицию. Я философствовал, а няня меня кормила обедами, поила чаем, – день и ночь я его пил и за ним просиживал целые ночи, а она дремала, и все сидела подле меня с чулком, никому не нужным, а под шипенье самовара и нянину зевоту – о, какая мудрая, вижу теперь, была эта зевота! – я читал разных отрицателей, – кого и чего я не читал! Няня уйдет, бывало, махнув на меня рукой: «Ну тебя, тебя не пересидишь!» – ляжет спать, а я один, с самоваром, тоскую. Я ведь отрицателям этим никому не верил и, в сущности, их терпеть не мог, я читал их потому, что в пустоте все мысли их у себя находил: их ведь немного, этих мыслей. Они как пыль: душа давно была ими запылена. Я целую ночь ходил из угла в угол по комнате, и зажмурю глаза, бывало, и в темноте внутренно и внешне хожу. А самовар допевает, допевает – и он был самое доброе и живое, что было около меня тогда. Он замолкнет, и тогда совсем мне худо. У меня был давно уж куплен револьвер. Он лежал в письменном столе. Но он мне был, в сущности, не нужен. Я мог бы убить себя, но мне нельзя себя было убить: меня не было.
– Не понимаю, – сказал архиерей.
– И Бога-то оттого у меня не было, что меня самого не было. Я растерял себя. В чем же Ему было быть во мне, когда я раздробился, разделился на отдельные дроби какие-то, бесконечные и неправильные, и весь ушел в пустоту. Не в пустоте же Ему быть.
– Значит, даже и Яшки своего у вас не было?
– Не было.
– Плохо дело: он хоть и разбойник, но все-таки, ежели на своем месте, то нужен: он бытие наше свидетельствует.
– Вот-вот! – обрадовался архимандрит. – Поняли: я не имел свидетельства о собственном своем бытии – самовар был реальнее меня. Он все-таки пел и шумел, и няня его ставила, и в нем был жар, некая его онтология. А у меня ее не было. И стреляться мне было глупо: умнее было бы в самовар выстрелить – он больше моего существовал.
– Стреляться всегда глупо, – сказал архиерей. – К шуту – не к ночи будь помянут – можно и без стрелянья отправиться.
– Однажды, только однажды, – с какою-то тоскою, почти не слыхав слов архиерея, продолжал Евфросин, – я схватился за револьвер. Я в то время уже забросил книги и только пил свой чай и выхаживал все ночи напролет в какой-то холодной дрожи, и улыбнулся мысли этой: застрелиться мне, не существующему? Да ведь для этого надо сначала существовать. Мне казалось: я выстрелю себе в грудь, и пуля пройдет, куда надо, а я останусь жив, потому что грудь моя сама по себе, а я сам по себе, – «я», т. е. все остальное, что не грудь; я прострелю себе ладонь, в ней будет боль, а все остальное во мне не будет даже знать об этой боли, потому что общего и цельного во мне даже и боли быть не могло: я и болью и кровью своей не мог бы доказать себе, что я существую. И «я» человеческое, существующее, и Бог – они живут в человеке, а не в кусочках человека. На цельного же человека меня не хватало.
– Не хватало! – опять прервал архиерей. – Вы очень темно говорите. Но ничего, я пойму. На человека не хватало. Это страшно, хоть и темно.
– И вот в эту ночь я дома уж ходить не мог. Гнало меня что-то вон. Я оделся и вышел из дому. Я исходил город вдоль и поперек; иногда ловил себя на том, что несколько раз возвращаюсь на одну и ту же улицу. Уйду – и вновь вернусь. Но к утру я, помню, очутился на окраине города, почти за городом. Серенький осенний день начинался. Заря брезжила. Пели петухи. Я очень озяб и проголодался. Набрел на какую-то ночную харчевню, ее запирать хотели: было уж очень поздно, и народ выгоняли. Было в ней сильно накурено и надышано за ночь, и водкой пахло. Водку терпеть не могу. Я сунулся было, хотел что-нибудь поесть, но стало противно, голова закружилась. Я вышел – в харчевне вслед засмеялись: за пьяного сочли. И побрел дальше, совсем за город. Роса лежала на траве, седая, холодная, крупная. Я шел по лугу. Еще когда в слободке был, я будто звон слышал. У нас под городом монастырь известный, годуновских времен. Я и забрел в него: хотел купить просфор, есть очень хотелось: я вспомнил, что целый день не ел. Вошел в Святые ворота; просфоры в окошке в самых воротах продавали. Я с детства это помнил и очень любил есть просфорку с чаем, невынутую.
– Вот-вот, – отозвался архиерей. – За десять копеек, толстую, как протопопица, румяную.
– Постучал в окошко – монах открыл заслонку, старый, борода с зеленью, «аки козлина», как в иконописных подлинниках говорится, значит, небольшая – и не дал мне слова сказать: «Просфорочку, – говорит, – желаете? Удались сегодня просфоры. Святой великомученик Димитрий, его же память ныне совершаем, помог. С румянцем. К обедне успеете. Ничего, что отзвонили. Сегодня служит отец Памва; он медлителен. Успеет е еще вынуть до Херувимской». Подает мне просфоры, в бумажке, и еще подает просфоры: «А это тебе, раб Божий, послушание. Я все поджидал: кого Бог пошлет? Тебя послал. Сии просфоры на обедню ты подай. Грех случился: я не приметил, как отец Питирим, сожитель мой, ушел, и просфоры с ним в церковь не послал, а мне уж год как заказано вечное поминовение за „в неведении сущих и себе спасения не ищущих“»…
– Опять детское богословие пошло! – прервал архиерей. – Такого поминования ни в каких последованиях не указано!
– Вот, я беру просфоры – и свои, и эти, – протягиваю за свои деньги, а монах не берет: – «И не возьму, – говорит, – а еще тебе в ножки поклонюсь, что на обедню отнесешь. Тебя сам Бог принес. Я все сердце себе расстроил: отойти из просфорни не могу, послать некого, а как их без молитвы оставить…» – «Кого?» – «Тех, кто сам себе молитвы не желает и спасения не ищет и без Спасающего живет. А частицы вынут – и сии, сии не молящиеся, как бы ликами своими пред Агнцем кротким предстанут и с Ним на дискосе возлежать будут, как на вечери, и кровию Его честною омоются. Поди, раб Божий, в церковь, поди, подай, помолись за сих немолящихся. Тебя Господь за них спасет». – И взял я просфоры и понес в Церковь. А сам не знаю, как вынимают. Достал из бумажки свою просфору, хотел съесть по дороге в собор, смотрю: на верхушке Богородица выпечена – и так аккуратно, так хорошо, точно икона из кипариса вырезана. Неловко даже есть. Я низок у просфоры отнял, но весь аппетит пропал. Вспомнилась харчевня пьяная – как я там есть хотел. Нет, не могу есть. И вспомнил я, смотря на эту Богородицу на просфоре, вспомнил я…
– Хлеб ангельский?
– Да, его, детский мой «хлеб ангельский», и Арину «людскую», и как я его принимал тогда, тихий мальчик, и то счастье мое, и истину какую-то, несомненно меня тогда живившую. Ведь я же тогда жил, я же не завидовал тогда самовару, что он живее меня, – и где же все это? Я ли перестал быть – или… или я забыл что-то, только забыл живившее меня, и могу вспомнить и, если вспомню, буду опять жить. Тогда я был Женя; это Женя принимал хлеб ангельский, но он, мальчик Женя в синей шелковой рубашке, беседовавший с Ариной, тайком постившийся и знавший какую-то тайну, которую я не знаю, а ей имя: жизнь, – он я ли? Я вот – на паперти глупо держащий просфоры в руках и не знающий, что с ними делать? Или я уже совсем, совсем другой, не он – и Женина во мне уже ничего нет, ни кровинки в теле, ни волосика на голове, ничего, ничего? Нет, я – не другой, вернее: я – и другой, но я – и Женя: другой, потому что не живу, а он жил, но я и Женя: иначе как же бы я помнил о Женином «хлебе ангельском», об этой его истине и святыне? Ведь ее знал только Женя, ведь «хлеб ангельский» был только у Жени – это все не мое, это Женино, но это и во мне, это я помню, это я вспоминаю. Помню!
Вспоминаю! Что же это? Чем же, чем же я помню? Чем-то, очевидно, Жениным, а не моим, что еще осталось во мне от Жени, что и мое, и его вместе, потому что оно во мне, все-таки во мне. Между мной и Женей есть некая ниточка – тонкая, о, совсем тонкая! – но если бы ее не было, я не вспомнил бы Женина «хлеба ангельского». Эта ниточка – память. О, это ясно! Но что она? Наука мне говорит, и она права, что во мне все новое: ни кровинки от Жени не осталось: и кожа, и волосы, и мозг – все новое, значит, не это все помнит о Женином «ангельском хлебе», которым он жил. Что же это помнящее во мне – хранящее в себе «хлеб ангельский»? Безумный, безумный: как же я не понимаю этого? Да ведь это так просто! Это моя бессмертная душа. Она одна, – только она – одна у меня с Женей. Она – это я, и это – Женя. А у Жени был хлеб ангельский, у Жени был Бог. Значит, и у меня…
Я не смел думать дальше. Как хорошо! Я не верил, что может быть так хорошо. И вдруг я заметил, что я все еще стою на паперти у дверей собора с просфорами. «Да, я должен их вынуть. За кого же? Вынимают всегда за кого-нибудь». И я с ужасом заметил, что я забыл, за кого мне монах велел вынуть просфоры. Из собора доносилось пение. Я не знал, что поют, не понимал, что, должно быть, ужасно поздно. «Женя должен знать, за кого вынимают. Он мне подскажет», – подумал я. Я вошел в собор.
Я подошел к монахам, певшим на клиросе, и протянул просфоры. «Чуть-чуть не опоздали. Херувимская начинается, – сказал мне пожилой монах. – За кого вынуть? Записка есть?» – «Не т». – «Ну, на словах можно». И Женя, правдивый Женя, подсказал мне: «За неверующих». – «За неверующих нельзя, – строго сказал монах, как будто даже обидевшись. – За всех православных христиан можно».
– Яшкин перевод! – воскликнул архиерей. – Без Яшки не обойдешься. И тут поспел! Переводчик!
– И мне вынули просфоры, и монаховы, и мои. Я отнес просфоры монаху, а свои понес домой. Я дал их няне. «Обрадованный мой! – всплеснула она руками. – Да никак ты у обедни был?» – «Женя был, няня». – «На-ко, скушай, скушай скорее хлебца ангельского. Ведь ты не ел ничего?» – «Ничего, няня». – И она мне дала просфорку, а я ее унес к себе в кабинет, а там я плакал над ней, как Женя.
Архимандрит замолчал.
– Нет, с вами не улежишь, – сказал архиерей и встал с постели и прошелся по комнате, потирая руки. – Говорите дальше.
– Все сказал, владыка, – отозвался не сразу отец Евфросин. – Я ведь хотел прочесть вам только одну страницу из своего детского богословия.
– А дальше?
– А дальше пошла уже страница за страницей, и целая книга набралась. Но это долго читать, да и не нужно. Ведь вы вот из моей писаной книги только одну страницу прочли – и все верно поняли. Да и поздно. Я не умею хорошо говорить. Интеллигентская привычка.
Архимандрит перешел к своему дивану.
– Поздно, то есть ложитесь, ваше преосвященство! Это вы хотели сказать? Так вот, не лягу, – сказал архиерей. – Еще несколько строк из того же богословия прочту – только не ваших, а своих собственных в виде эпилога. Некстати наше началось с моей «сладости Ангелов», пусть ею и окончится; и тогда к заждавшемуся нас господину Храповицкому отправимся.
Архиерей прошелся крупными шагами по комнате, расстегнул на ходу ворот подрясника и, вплотную подойдя к архимандриту, сказал:
– Я в отрицание никогда не впадал, как вы. Я хуже: я в отвращенье впал. Это уже не Фома. И даже не Дарвин-с. Это – тошнота бесовская. И случилась она со мною на последнем курсе в Академии. Я в Бога не переставал верить. Но что из этого? Ведь и некии веруют, но трепещут и отвращаются. Я самую славянскую букву – из-за ее божественности – возненавидел. И из-за чего это началось – не пойму. Пресыщаемся, что ли, мы, духовные, всяческою снедью духовною, нами не перевариваемою, или окаяшка тут действует самолично – не умею разобрать. Но до чего дошло – до глупости! Еще на русском языке я божественное мог читать, потому что на нем, кроме божественного, и все прочее пишется, но увижу, бывало, страницу славянскую – и тошнит. Видеть не могу. А каково мне это было, когда мне надо было курс кончать, а специальность моя определилась – литургика, устав, – а там гражданской печати вовсе нет. И была у меня особая ненависть, – особая, прямо от окаяшки, – к прообразам… Вы не заснули там, на диване?
– Наверное, и всю ночь не засну.
– Да, к прообразам. Как, бывало, где встречу – в богословском трактате или в богослужебной книге о прообразе нечто – об лестнице Иаковлевой или жезле Аароновом прозябшем, – так хлоп-с книгу: видеть не могу. Тошнит. Глумотворчество некое проявляется: все бы высмеять, выязвить, перековеркать, и не по обычному семинарскому младоизвинительному перековерканию, а злостно, злобно, с кощунством. Особенно ненавистен мне был Иона с китом. Сколько я естественных историй, самых фантастических и фанатических пересмотрел – они, чем фанатичнее, тем фантастичнее, сказать в скобках, – и все для того, чтобы к окончательной нелепости кита привести. До статистического измерения китовых носоглоток доходил, чтобы доказать, что Иона в кита никак не мог пролезть и что лучше бы доказывать, что не кит Иону, а Иона кита проглотил, сообразнее с естествознанием. До чего дошло! Бывало, писать стихиру – а у меня в уме на нее контр-стихира слагается в память Лентяя преподобного или блаженного царя Гороха. Вспоминать теперь противно, до каких гадостей я доходил! Тошнило меня, как неподобную силу, от всякого слова и образа божественного. А курс кончать надо было, и монашество предполагалось. Экзамены начались. Я кое-как крепился: благополучно все сходило. Прошло два-три экзамена, приезжает ко мне неожиданно мать: прослышала от кого-то, что я монашество хочу принимать, приехала поголосить надо мной старая дьячиха моя кротчайшая. Я очень ей обрадовался, домашним теплом повеяло на меня от нее, в сельской церкви надышанным. А она поздоровалась и, через два слова, бух ко мне в ноги. «Что вы, – говорю, – матушка». Поднимаю ее, а она: «Обещай, – говорит, – что послушаешь мать!» – «Да в чем?» – говорю. «А в том, что, не побывавши в родном месте, на отцовской могиле не помолившись, не примешь ангельского образа». – «Ну, хорошо, – говорю, – обещаю. Только встаньте. Еще надо сперва экзамены выдержать». Встала, обняла меня. «А это, – говорит, – Господь поможет. Материнские молитвы услышит», – и вынимает из узелка просфорку, маленькую, сухую. «Вот, возьми. Это я из Киева привезла, от угодников, из пещер, Богородичную вымолила. Держи при себе, и чтобы, как к учителям пойдешь, при тебе была. И все будет хорошо. А потом, как все кончится, скушаешь хлеба небесного, сладости ангельской». Я положил просфорку в карман и позабыл про нее. Пошел на экзамен по догматическому богословию. Как на грех, приезжает архиерей викарный, – покойный Поликарп, – знаете, догматист известный.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































