Текст книги "В переплёте"
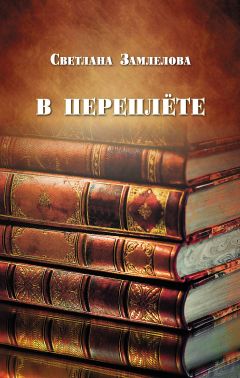
Автор книги: Светлана Замлелова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Узнать и полюбить Россию
Н.С. Лесков (1831–1895)
Присваивая какому-либо явлению эпитет «классический», мы не просто признаём ценность этого явления, но соглашаемся считать его образцовым, ориентируясь на него, мы можем судить о гармонии, о «сообразности и соразмерности», об изяществе и вкусе. Суждения классиков поражают нас непреходящей современностью, даже если высказаны они были сто и более лет назад. В этом нет ничего удивительного – гениальность, особый душевный склад творца, для которого приоткрыта завеса вечности, наделяет крыльями, позволяет оторваться от земли, удел которой – суета, и заглянуть в Высшие сферы, сферы Истины и Духа. А в творчестве выйти на обобщения, понятные и злободневные не только для носителей одной культуры, но для всех времён и народов. Поскольку Вечность – едина для всех.
То, что говорят классики, обращаясь к своему народу, остаётся в веках и превращается в заповеди. Что, очевидно, также вполне закономерно и является частью Высшего замысла о человеке. Сотворил по Образу и Подобию – не значит, наделил руками и глазами. Образ и Подобие – это способность любить и творить. И подобно Творцу-Создателю, творец-создание оставляет после себя заповеди, как предчувствие Гармонии. Формулируя творческие прозрения, художник, жизнь которого была тернистым путём к Красоте и Гармонии, оставляет после себя вехи, следуя которым, его преемники продвигаются на этом пути чуть дальше. В этом, возможно, и есть назначение художника – двигаться в сторону Вечного Идеала и вести за собой других. Нередко, сознательно или нет, преемники такого первопроходца сбиваются в сторону. И тогда, начав прокладывать свой собственный путь, они либо отдаляются от Гармонии, либо застревают в тернистых дебрях, либо усилиями пробиваются на новые стези, параллельные тем, что были проложены раньше.
Как часто в разговорах о русской литературе слышна тревога о русском слове, изгнанном куда-то на окраину языка английскими словами. Но вот читаем у Ломоносова: «Ныне принимать чужих <слов, заимствованных из чужих языков> не должно, чтобы не упасть в варварство…» («О переводах»).
Или у Тургенева: «Берегите чистоту языка как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас» (Письмо к Львовой, 1877 г.)
А вот у Лескова: «…Вообще я не считаю хорошими или пригодными иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи, в которой все вы виноваты сугубо, – сугубо потому, что вам так нетрудно было заговорить на нём хорошо. – Бомондную слабость подхватили пониже, и пошли эти “эвакуации”, “оккупации”, “интеллигенция”, и tutti frutti. Это грешно и даже не сладко» (Письмо к А.И. Пейкер, 1878 г.)
И ещё у того же Лескова: «Новые слова иностранного происхождения вводятся в русскую печать беспрестанно и часто совсем без надобности, и – что всего обиднее – эти вредные упражнения практикуются в тех самых органах, где всего горячее стоят за русскую национальность и её особенности. Так, например, в “Новом времени”, которое пустило в ход “эвакуацию” и другие подобные слова, вчера ещё введено в употребление слово “экстрадиция” <…> Пусть теперь не знающий иностранных языков читатель думает и гадает, что это такое значит – “экстрадиция”?! И.С. Аксаков говаривал, что “за этим стоило бы учредить общественный надзор – чтобы не портили русского языка, – и за нарушение этого штрафовать в пользу бедных”. Теперь это бы и кстати». (Новое русское слово. «Петербургская газета», 1891, № 328, 29 ноября).
Теперь бы, может быть, ещё более кстати…
Н.С. Лесков известен более всего именно как радетель о языке и мастер, кропотливо добивавшийся мелодичности речи, изящно стилизовавший язык произведения в соответствии с эпохой и местом повествования.
«Я добивался “музыкальности”, которая идёт этому сюжету как речитатив», – писал он в письме к С.Н. Шубинскому (1890).
А.И. Фаресов приводит следующие слова Лескова:
«Постановка голоса у писателя заключается в умении овладеть голосом и языком своего героя и не сбиваться с альтов на басы. В себе я старался развить это уменье и достиг, кажется, того, что мои священники говорят по-духовному, нигилисты – по-нигилистически, мужики – по-мужицки, выскочки из них в скоморохи – с выкрутасами и т. д. От себя самого я говорю языком старинных сказок и церковно-народным в чисто литературной речи. Меня сейчас поэтому и узнаешь в каждой статье, хотя бы я и не подписывался под ней…» (А.И. Фаресов «Против течений»).
О языке Лескова, его сказе, о героях, разговаривающих «по-духовному» или «по-мужицки», написано чрезвычайно много. Языковая самобытность Лескова давно уже сделалась общим местом и, конечно, не хочется повторяться. Но невозможно, не вспомнив, не обратив особого внимания, пройти мимо «Левши», наполненного, точно кузовок сладкой малиной, народными словечками и прибаутками, народной фонетикой, всеми этими «мелкоскопами», «преламутрами», «досадными укушетками», «нимфозориями», «графами Кисельвроде» (Нессельроде) и пр.
Самобытен лесковский юмор, основанный не только на гротеске и на правдоподобном описании невозможных ситуаций, но и опять же на языковых приёмах, что проявилось затем у Зощенко, Булгакова, Писахова, Шергина. Истинное удовольствие получаешь, перечитывая «Печерских антиков», о том, как киевский врач Николавра лечил зубную боль способом «повертон». Настоящее имя доктора было Николай, «но так как он был очень знаменитый, то этого имени ему было мало, и он назывался “Николавра”. Здесь значение усиливалось звуком лавра. Николай это было простое имя, как бывает простой монастырь, а Николавра – это то же самое, что лавра среди простых монастырей». Николавра придумал лекарство от зубной боли, которое можно было капать в размере одной капли и только на больной зуб. Если бы лекарство попало на щёку или десну, пациент мог умереть. Вот почему для лечения верхних зубов был изобретён способ «повертон». Особенно этот способ нравился дамам, потому что в этом случае даме связывали руки, подвязывали юбки, вставляли в зубы пробку, после чего переворачивали вниз головой и ставили “в угол на подушку теменем”. Лекарство действовало, даму переворачивали обратно, и, повеселевшая, она только восклицала: «Ах, мерси, – мне всё прошло; теперь блаженство!»
А как не вспомнить ещё об одном антике из Киева – Альфреде фон Юнге, «добрейшем парне, совершенно безграмотном и лишённом малейшей тени дарования, но имевшем неодолимую и весьма разорительную страсть к литературе». Пионер mass media в Киеве, Юнг издавал единственную в городе газету «Телеграф», отличавшуюся невероятными ошибками и опечатками и подвергавшуюся, к тому же, цензорскому произволу. «Случилось раз, что в статье было сказано: “не удивительно, что при таком воспитании вырастают “недоблуды”. Лазов (цензор) удивился, что это за слово? Ему объяснили, что хотели сказать “лизоблюды”; но когда вечером принесли сводку номера, то там стояло: “по ошибке напечатано: недоблуды, – должно читать: переблуды”. Цензор пришёл в отчаяние и совсем вычеркнул поправку, опасаясь, чтобы не напечатали чего ещё худшего». В конце концов, Юнг разорился. «Это был настоящий литературный маньяк, которого не могло остановить ничто, он всё издавал, пока совсем не на что стало издавать».
Мир Лескова населён исключительно чудаками, простецами и вообще людьми крайностей. С этакими людьми происходят самые необыкновенные вещи: они подковывают механических блох («Левша»), живут в плену у калмыков с зашитой под кожу ступней щетиной – чтобы невозможно было убежать («Очарованный странник»), алчут паче всего другого в жизни единыя веры для Святой Руси, ради чего не пьют, не едят и истязают ближних, как старовер Малафей Пимыч из «Печерских антиков». Или как Василий Баранщиков из «Вдохновенных бродяг» скитаются по свету в поисках неизвестно чего. Однажды нижегородский мещанин Василий Баранщиков, нанявшийся в Петербурге в матросы и приплывший в Копенгаген, отправился за покупками. А по дороге, «как свойственно русскому человеку», заглянул в питейный дом. С этого всё и началось. Где только не побывал Баранщиков и в каком только качестве себя не попробовал! То он, омусульманенный, кофешонок в Вифлееме у богатого Маго-меда, то развлекает Магомедовых жён поеданием каши в количествах невообразимых. А вот он уже в Стамбуле и снова христианин, а там опять мусульманин и женат на Ахмедуде. И так без конца и без края.
Чудаки и простаки, святые и грешники – всё это лики России, выписанные Лесковым со тщанием, любовью и скрупулёзностью. Узнать и полюбить Россию можно через творчество Лескова – такой огромной, яркой и необычной он явил её читателю. И, кажется, будто нет в мире другой такой страны, где бы происходило столько чудес, где жили бы такие невозможные люди, где великое так тесно соседствовало бы с мелочным и низменным.
Без скуки и отвращения
А.К. Шеллер-Михайлов (1838–1900)
Когда-то, характеризуя состояние современной ему изящной словесности, М.Е. Салтыков-Щедрин написал:
«Совершенное отсутствие содержания и полное бесплодие, прикрываемое благородными чувствами. Над всем этим царит беспримерная бесталанность и неслыханнейшая бедность миросозерцания». Можно, конечно, состроить кислую многозначительную физиономию, но лучше всё же задаться вопросом: а мы-то, сегодняшние, чего хотим от нашей несчастной литературы? Какой желали бы её видеть? Нам-то чего не хватает? Что ж, никто, наверное, не станет спорить, что хорошая литература должна создаваться при помощи хорошего языка, то есть обильного запаса слов, расставленных красиво и точно.
Вряд ли кто-нибудь возразит, что хорошей литературе надлежит быть интересной, что связано не с занимательностью только, но с наблюдательностью и знанием жизни, с умением при помощи этих качеств создавать на бумаге жизненные модели. При этом модели не рутинные, но почему-нибудь замечательные, заострённые, яркие хотя бы в одном проявлении. И проявление это вовсе необязательно должно отзываться шаблоном.
Едва ли кто-то не согласится, что описание частностей само по себе малоинтересно и никому особенно не нужно, если только эти частности не связаны с целым. Под целым же, конечно, следует понимать не местечковые проблемы, а Нечто, если и не объясняющее всё вообще, то, по крайней мере, дающее понять, что жизнь – это не только финансовые потоки в тех или иных своих проявлениях.
Хотелось бы также поменьше натурализма и побольше тех самых благородных чувств, коловших глаза критикам XIX в. и называемых Салтыковым-Щедриным «самым сильнодействующим ядом нашей литературы». Но именно благородных чувств, а не слюнявости и слащавости, и без того щедро отравляющих современную словесность.
Итак, все, скорее всего, понимают, из чего должна слагаться хорошая литература. А между тем, именно хорошей литературы у нас и не получается. И ведь речь не идёт о высших достижениях! Куда подевались романы, которые хотя бы нескучно было бы читать? А романы, где бы герой, как говаривала Анна Федотовна Томская, «не давил ни отца, ни матери, и где бы не было утопленных тел»? И если в XIX в. над писателями, доказывавшими, что порок и в шелках порок, а добродетель, как ты её ни поворачивай, всё добродетель, смеялись, то нам, пожалуй, впору взывать к таким писателям. Чтобы те явились и развёрнутыми картинами нормальной человеческой жизни прочистили бы общественное сознание.
Среди тех, кого подвергал острой критике М.Е. Салтыков-Щедрин, был и А.К. Шеллер-Михайлов, «чернорабочий» русской журналистики и литературы, как его называли впоследствии. Честный труженик, всего себя отдавший Русскому Слову, Шеллер создал порядка ста произведений, среди которых и стихи, и статьи, и рассказы, и около тридцати романов. Это был тот человеческий тип, что почти исчез в эпоху потребления – человек мечты, человек идеи.
Шеллер не совершил переворота в литературе, не сказал в ней нового слова, не предложил собственной философии. Возможно, поэтому о Шеллере написано не так уж много. А серьёзных трудов, посвящённых анализу творчества писателя, и вовсе не существует. А между тем, даже названия шеллеровских произведений могли бы стать предметом научного исследования. Чего стоят хотя бы «Вешние грозы», «Господа Обносковы», «Над обрывом» и т. д., отсылающие к Тургеневу, Салтыкову-Щедрину, Гончарову. Можно ли в данном случае говорить об интертекстуальности? И каково место творчества Шеллера в этой перекличке названий?
Так, например, использование в заглавии слова «господа» в сочетании с фамилией или любыми другими обобщающими наименованиями, указывает на то, что речь в произведении пойдёт о группе людей, объединённых некими качествами или обстоятельствами. Действительно, и Шеллер-Михайлов, и Салтыков-Щедрин представляют читателю семейства, причём семейства довольно противные, отравляющие жизнь окружающим.
Но только Шеллер описывает, а Салтыков-Щедрин исследует. Исследует миллиметр за миллиметром, поднимаясь на недосягаемую высоту обобщения. И всё же роман Шеллера читается с не меньшим интересом и впечатления дарит самые благоприятные.
Масштаб дарования Шеллера не позволил ему встать в один ряд с великими. Да, порой он повторяет сам себя. Да, порой герои его произносят напыщенные монологи протяжённостью в три страницы. И тем не менее романы Шеллера нескучно читать, они насыщены событиями, добро в них побеждает зло, подлецы и негодяи либо караются, либо встают на путь исправления. И таки исправляются!
Шутка сказать: ещё при жизни писателя романы Шеллера спрашивались в библиотеках чаще, чем романы Тургенева и Толстого. Книги его переиздавались и переводились на многие языки. А общий тираж романа «Чужие грехи» достиг 22000 экземпляров – по тем временам тираж немалый, учитывая к тому же отсутствие системы «раскрутки». Шеллер оказался выразителем чаяний немалого числа людей, нуждавшихся в слове добра и правды. Искреннем и горячем слове писателя, который, не мудрствуя, звал их к лучшей жизни и уверял, что такая жизнь возможна, стоит лишь каждому сделать над собой усилие и превозмочь порок, заняться делом на благо ближним.
В одном из писем, полученных писателем по случаю тридцатипятилетия его литературной деятельности, почитательница Шеллера написала: «…Вы пробуждали в нас душу, будили ум, заставляли вникать в самих себя, в окружающую жизнь, сочувствовать горю ближнего и быть отзывчивым; а Вашей правдивостью, честными взглядами, нравственной чистотой и искренностью Вы всецело завоёвывали и покоряли юные сердца наши…» А подобные признания дорогого стоят.
Впрочем, что же тут удивительного? Ведь Шеллер не кликушествовал и не мямлил, не рыгал словами и не перебирал их, как чётки, сонной рукой.
Он горячо защищает детей, смело заявляя, что зачастую первые враги детей – сами родители: «Не иметь матери – это горе, иметь дурную мать – это глубокое несчастие» («Над обрывом»). И о том же в стихах:
Горе своё я умею терпеть,
Стонам людским я внимаю бесстрастно.
Только на детские слёзы смотреть
Я не могу безучастно.
(«Горе своё я умею терпеть»)
Он вступается за женщин, протестуя против стереотипов и бесправия и утверждая, что «хорошая русская женщина стоит неизмеримо выше хорошего мужчины <…> На вопрос: что делала хорошая русская женщина в то время, когда мужчина проповедовал, служил, бил баклуши, создавал воздушные замки преобразования людей и ругал настоящее положение дел? я ответил бы: работала» («Гнилые болота»).
Он ратует за образование и воспитание, ненавидит безделье и ложь. Его горячие призывы к честности и порядочности, к красоте и благородству, неприятие нытья и проповедь жизненной активности, его способность «внушения нравственного», дар увлечь и заставить сопереживать – всё это, возможно, именно то, чего не хватает современной словесности. Кто это решил, что современному читателю не нужно, чтобы в нём пробуждали душу и будили ум? С чего бы это литераторы вообразили, будто могут кормить читателя грязью и пустотой?
Шеллер незаслуженно забыт. Книги его, выходившие в советское время, сегодня не переиздаются. А между тем, его живое, искреннее, увлекательное повествование не просто пришлось бы по вкусу читателю, но вполне могло бы послужить образцом для появления беллетристики, которую можно читать без скуки и отвращения. Где уж нам мечтать о вершинных образцах! Как говорится – не до жиру…
Живой прообраз символизма
В.С. Соловьёв (1853–1900)
Искусство – это Ад, из которого художник выводит свои образы. Такой взгляд на искусство вообще и на символизм в частности Александр Блок изложил в статье «О современном состоянии русского символизма» (1910). Томительное, подчас изнуряющее предчувствие иных миров и прекрасной тайны зовёт и манит. И вот уже до художника долетают первые звуки таинственного мира. Постепенно они складываются в слова, неразгаданный мир обретает цвет и зримые образы. Какой-то Лучезарный Лик, видения которого ждала душа, проглядывает в золотом тумане сквозь пурпурно-лазоревое сияние. Но вдруг пурпур и лазурь начинают таять, и на их место опускается лиловый сумрак. А Лучезарный Лик оказывается лицом мёртвой куклы. Чаемые, но недоступные прежде миры теперь сами хлынули в душу художника и затопили её неясными образами. Так жизнь становится искусством, и художник оказывается в окружении призраков. Быть художником, считает Блок, значит распахнуть свою душу перед таинственными мирами, пустить в неё те самые силы, что способны производить хаос и разрушение. И не каждый может выдержать такое вмешательство.
Блок всего лишь стремился выразить состояния, переживаемые поэтом и поэтом-символистом в особенности. Случайно это или нет, но аллегория Блока похожа на жизнеописание Владимира Соловьёва, которого Блок называл своим учителем. Те ощущения и состояния, те внутренние события, иносказательно описанные Блоком, Соловьёв переживал наяву, в повседневной жизни, без всякого иносказания. Вся жизнь этого необыкновенного человека, создателя первой философской системы в России, зачинателя русского символизма, проходила где-то на грани миров видимого и невидимого, среди пурпурных сияний и лиловых сумерек, о чём сам он писал:
…Близко, далёко, не здесь и не там,
В царстве мистических грёз,
В мире невидимом смертным очам,
В мире без смеха и слёз…
(«Близко, далёко, не здесь и не там», 1876)
Трижды ему являлась София – Мировая Душа, образ Вечной Женственности. Её троекратному видению Владимир Соловьёв посвятил поэму «Три свидания» (1898):
…Не трижды ль ты далась живому взгляду —
Не мысленным движением, о нет! —
В предвестие, иль в помощь, иль в награду
На зов души твой образ был ответ…
Соловьёв утверждал, что видел Фаворский свет. Он слышал голоса умерших людей, видел вещие сны, странные видения преследовали и звали его:
…Въявь слагались и вставали
Сонмы адские духо́в,
И пронзительно звучали
Сочетанья злобных слов.
Мир веществен лишь в обмане,
Гневом дышит тёмный пар…
Видел я в морском тумане
Злую силу вражьих чар.
(«В архипелаге ночью», 1898)
Дьявол являлся ему не раз, и Владимир Сергеевич безуспешно пробовал увещевать его. Как это было во время морского путешествия в Египет в 1891 г., когда, войдя в каюту, он увидел на своей постели мохнатое чудовище. «А ты знаешь ли, что Христос воскрес?», – строго спросил Соловьёв у демона, ибо дело было на Пасху. «Вос-крес-то Он воскрес, – отозвался тот, – но тебя я всё-таки доконаю». И бросился на Соловьёва.
Год 1899 ознаменовался для Владимира Соловьёва появлением на его жизненном пути таинственной особы. Журналистке «Нижегородского листка» Анне Николаевне Шмидт «открылось», что Владимир Сергеевич Соловьёв суть вторично воплотившийся Христос. О чём Анна Николаевна не преминула сложить собственный символ веры: «…И неизменно на небесах пребывающего и вторично на землю сошедшего и воплотившегося в лице Владимира Соловьёва – человека от рождения, ставшего Богочеловеком в 1876 году при явлении ему Церкви в пустыне египетской и скоро грядущего со славою судить живых и мертвых…» Себя же Анна Николаевна сочла воплощением Софии, воплощением Церкви, дочерью Бога Маргаритой. На этом основании сорокавосьмилетняя Анна Николаевна Шмидт забросала Владимира Сергеевича Соловьёва письмами и даже вытребовала свидание.
Андрей Белый, имевший удовольствие встречаться с «воплотившейся Софией» так представил её в «Начале века»: «…Портьера раздвинулась, и в комнате оказалась – девочка не девочка, карлица не карлица: личико старенькое, как печёное яблочко, а явная ирония, даже шаловливый задор, выступавший на личике, превращал эту “существицу” в девочку <…> Чем-то от детских кошмаров повеяло на меня <…> У неё были серые от седины волосы и дырявое платьице: совсем сологубовская “недотыкомка серая” или – большая моль».
Соловьёву его София являлась «в пурпуре небесного блистанья», «пронизана лазурью золотистой». В «Трёх свиданиях» Соловьёв описал свои чувства после встречи с Софией:
…предо мною
Уже лучился голубой туман
И, побеждён таинственной красою,
Вдаль уходил житейский океан.
Ещё невольник суетному миру,
Под грубою корою вещества
Так я прозрел нетленную порфиру
И ощутил сиянье Божества…
И вдруг вместо пурпура, лазури и золотого свечения, вместо «сиянья Божества» – «недотыкомка серая», «существица», карлица; вместо «нетленной порфиры» – серое в дырочку платьице… Чем не дьявольская насмешка, чем не сумрак, описанный Блоком, несущий хаос и опустошение?!
Спустя год после сошествия этого серого сумрака, Владимир Сергеевич Соловьёв скончался в имении братьев Трубецких. На сей раз дьявол исполнил своё обещание…
А. Белый, А. Блок, С. Соловьёв, Эллис – все они испытали сильнейшее влияние как поэзии Владимира Соловьёва, так и его философских идей. Но думается, что влияние Соловьёва на поэзию Серебряного Века не ограничивается идеями и стихами. Личность философа и поэта, явленный им тип жизнестроительства воплотили сущность и состояние русского символизма, став его живым прообразом.
Вспоминая своего учителя, с которым никогда не был знаком и которого лишь единственный раз видел мельком, Александр Блок писал о Владимире Соловьёве как об одиноком страннике, шествовавшем по улицам города призраков. Соловьёв предстаёт рыцарем-монахом, имевшим, как водится, «одно виденье, непостижное уму» и посвятившим себя освобождению Царевны – Мировой Души – из объятий Хаоса. Его мечом стала философия, его щитом – поэзия. Выиграл ли, проиграл ли Соловьёв эту битву? Пожалуй, что проиграл. И когда вместо «Вечной Подруги» пред ним вдруг явилась ухмыляющаяся «существица» в порфире почти истлевшей и бесцветной, он сам понял, что проиграл. И предпочёл уйти. Но его тщание уже взволновало многих. И там, где вчера обитал одинокий рыцарь-монах, образовался целый монашеский орден, устремлённый навстречу Хаосу. Эти встречи, эти сошествия во Ад искусства, противостояния образам, порождённым собственной душой, отдавшейся Хаосу, сложились в русской поэзии в новую эпоху – Серебряный Век.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































