Текст книги "В переплёте"
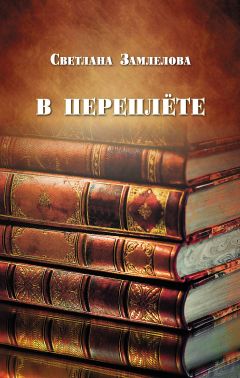
Автор книги: Светлана Замлелова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Дозволить к напечатанию!
И.И. Лажечников (1792–1869)
«Гости стояли перед изображением генерала, глядели на его удивлённые глаза и решали вопрос: кто старше – генерал или писатель Лажечников? Двоеточиев держал сторону Лажечникова, напирая на бессмертие, Пружинский же говорил: – Писатель-то он, положим, хороший, спору нет… и смешно пишет, и жалостно…»
А.П. Чехов. «Невидимые миру слёзы»
Победа над нашествием двунадесети языков вызвала в России всеобщий патриотический подъём и, как следствие, пробудила в русском обществе интерес к отечественной истории. Ещё писатели XVIII в. подходили к русской жизни с европейским аршином, из чего выходило что-то в высшей степени нелепое и неправдоподобное. Но вот выходит карамзинская «История Государства Российского», немедленно снискавшая успех у читателя. И следом, как отклик на умонастроения в обществе, появляется целая плеяда романистов, припадающих к русской истории, как к источнику свежему, вновь открытому и неисчерпаемому.
Усилиями отцов-основоположников русского исторического романа – Нарежного, Загоскина, Погодина, Полевого, Булгарина, Ушакова, Вельтмана, Калашникова, Лажечникова – русская литература не просто устремилась к сближению с действительностью, постижению жизни русской, она стала пытаться отыскивать новые формы выражения, нащупывать свои собственные творческие законы. В этом внушительном списке имён, всё ещё, по слову Белинского, отзывавшихся «переходною эпохою», имя Ивана Ивановича Лажечникова стоит несколько особняком. И тот же Белинский называл его произведения лучшими после пушкинских образцами исторической прозы.
Любопытно, что Лажечников и Белинский каждый на своём месте и в своё время отметили и выделили друг друга. Так, купеческий сын Иван Лажечников, после того, как некогда богатая семья его разорилась, вынужден был службой зарабатывать себе на жизнь. Через несколько лет по окончании войны 1812 г., на которую будущий писатель вопреки родительской воле ушёл добровольцем, он занял должность директора училищ Пензенской губернии. В 1823 г. во время ревизии училища в Чембаре Лажечников на экзамене обратил внимание на тринадцатилетнего мальчика, который «на все делаемые ему вопросы, <…> отвечал так скоро, легко, с такой уверенностью, будто налетал на них, как ястреб на свою добычу (отчего я тут же прозвал его ястребком)». «Ястребком» оказался Виссарион Белинский, писавший, спустя годы, о Лажечникове как о лучшем русском романисте, как о таланте замечательном и высоком.
В самом деле, несмотря на то, что к настоящему времени И.И. Лажечников из первого писательского ряда безвозвратно переместился во второй, его, в частности, усилиями русская литература покинула старую колею, а многие наработки Лажечникова, оставшиеся в своё время незамеченными, обрели силу в творчестве последующих поколений писателей.
Наибольшую славу Лажечникову принесли его романы «Последний новик» (1831), «Ледяной дом» (1835) и «Басурман» (1838), посвящённые эпохе петровских преобразований, правлению Анны Иоанновны и царствованию Ивана III соответственно. Уже в первом романе Лажечников заявил о своём собственном видении исторической прозы, развернув небывало до того в русской литературе широкое полотно, населив роман самым разным людом, перетасовав исторических лиц с вымышленными, заставив их взаимодействовать и влиять друг на друга. Нет ни одной спокойной страницы в «Последнем новике». Всё кипит и бушует. Любовь, месть, алчность, самопожертвование – все крайние проявления человеческой натуры точно с цепи сорвались. Всё затянуто в плотные, тугие узлы. И автор медленно, как будто наслаждаясь нетерпением читателя, распутывает их.
Позже в письме к Пушкину Лажечников писал: «…В историческом романе истина всегда должна, должна уступить поэзии…» Принцип этот лёг в основу литературного кредо Лажечникова, сформулированного им в прологе к «Басурману»: романист «…должен следовать более поэзии истории, нежели хронологии её. Его дело не быть рабом чисел: он должен быть только верен характеру эпохи и двигателя её, которых взялся изобразить. Не его дело перебирать всю меледу, пересчитывать труженнически все звенья в цепи этой эпохи и жизни этого двигателя: на то есть историки и биографы. Миссия исторического романиста – выбрать из них самые блестящие, самые занимательные события, которые вяжутся с главным лицом его рассказа, и совокупность их в один исторический момент своего романа. Нужно ли говорить, что этот момент должен быть проникнут идеей?..» Своему кредо Лажечников оставался безоговорочно верен: определяя «идею» эпохи или характера, он подчинял ей отдельные картины романа, образы персонажей, повествование в целом. Новаторский метод позволил создать Лажечникову лучшие страницы – описание жизни лифляндского дворянства и поморских раскольников («Последний новик»), уродство атмосферы при дворе Анны Иоанновны («Ледяной дом»), образы швейцарки Розы и И.Р. Паткуля («Последний новик») или царя Иоанна III («Басурман»). «Душа отдыхает и оживает, – писал Белинский по поводу образа Иоанна III, – когда выходит на сцену этот могучий человек».
Но, думается, тот же метод играл порою злую шутку с писателем, обращая иных его героев в маски злодеев. Таковы, например, Никласзон или барон Фюренгоф из «Последнего новика». Правда, образ лифляндского барона, развёрнутый и проработанный уже более тщательно, чуть позже вновь объявился в русской литературе, перевоплотившись в русского помещика. Вот описание замка барона Фюренгофа в романе «Последний новик»: «…Видны были на возвышении влево, под сенью соснового леса, бедные остатки замка, и правей его – двухэтажный дом. <…> В то же время и настоящее жалкое положение его выказывали пёстрая штукатурка, выпавшие из углов кирпичи, поросшие из-под кровли кусты и разбитые стёкла, залепленные бумагою или затянутые пузырями».
А вот каким увидел Чичиков дом Плюшкина в «Мёртвых душах» (1841): «Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно. <…> Стены дома ощеливали местами нагую штукатурную решётку и, как видно, много потерпели от всяких непогод, дождей, вихрей и осенних перемен. Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями или даже забиты досками. Эти два окна с своей стороны, были тоже подслеповаты; на одном из них темнел наклеенный треугольник из синей сахарной бумаги».
Сам же барон Фюренгоф предстаёт перед читателем одетым в «кофейного цвета объяринный шлафрок со множеством свежих заплат, подобных клеткам на шашечной доске. Из-под распахнувшегося шлафрока видны были опущенные по икры чулки синего цвета, довольно заштопанные, и туфли, до того отказывавшиеся служить, что из одного лукаво выглядывал большой палец ноги».
Плюшкин же встретил Чичикова в халате, у которого «рукава и верхние полы до того засалились и лоснились, что походили на юфть, какая идёт на сапоги; назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага».
Похожи и комнаты, где обитали Балдуин Фюренгоф и Степан Плюшкин. «По стене, – пишет И.И. Лажечников, – шкапами не занятой, висели лоскуты разных материй, пуками по цветам прибранных, тут же гусиное крыло, чтобы сметать с них пыль, мотки ниток, подмётки и стельки новые и поношенные, содранные кожаные переплёты с книг и деревяшки для пуговиц…»
«На бюре, – повествует Н.В. Гоголь, – выложенном перламутною мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни жёлтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплёте с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки…» Приведённые примеры далеко не единственные и отнюдь не случайные. В конце романа «Последний новик» даётся описание публичной казни И.Р. Паткуля, совершившейся в польском местечке. Уже с первых строк сцена казни вновь отсылает нас к Гоголю, на сей раз к аналогичной сцене в «Тарасе Бульбе»: та же мизансцена, те же бездушные разговоры пёстрой толпы, те же мужество приговорённого и жестокость палача, продлевающего страдания своей жертвы.
А разве девица Аделаида фон Горнгаузен – род приживалки в богатом доме – отягощённая собственным высоким происхождением и помешанная на любовных рыцарских романах, не появилась после в «Селе Степанчикове и его обитателях» (1859), разделившись на под-полковничью дочь девицу Перепелицыну и сумасшедшую Татьяну Ивановну, для которой «кто бы ни прошёл мимо – тот и испанец; кто умер – непременно от любви к ней»?
Даже пушкинское начало «Медного всадника» (1833)
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася.<…>
…И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложён
Назло надменному соседу…
восходит к хорошо известному Пушкину «Последнему новику»: «Он забыл всё, его окружающее; гений его творит около себя другую страну. Остров, на котором он находится, превращается в крепость; верфь, адмиралтейство, таможня, Академии, казармы, конторы, домы вельмож и после всего дворец возникают из болот; на берегах Невы, по островам, расположен город, стройностью, богатством и величием спорящий с первыми портами и столицами европейскими; торговля кипит на пристанях и рынках; народы всех стран волнуются по нём; науки в нём процветают. <…> Пётр встал. Он схватил с жаром руку Шереметева и говорит: – Здесь будет Санкт-Петербург!..»
Романы И.И. Лажечникова, переполненные событиями и персонажами, кипящими и перемешивающимися как в ведьмовском котле, ждала такая же запутанная и бурливая судьба. Выйдя из печати в 1832 г., уже через год «Последний новик» потребовал допечатки. Третье издание появилось в 1839 г. Книги Лажечникова, по слову Белинского, не раскупались, а расхватывались.
Но вдруг, по решению цензурного комитета, романы «Последний новик» и «Ледяной дом» оказались запрещены к изданию. Дважды – в 1850 и в 1853 гг. – от Московского и Санкт-Петербургского цензурных комитетов следовало распоряжение: «Не дозволять этих романов к напечатанию новым изданием». И лишь в 1857 г. не без участия служившего цензором И.А. Гончарова удалось Лажечникову добиться разрешения на переиздание своих произведений.
С тех пор исторические романы И.И. Лажечникова переиздавались неоднократно, подтверждая тем самым слова Пушкина о том, что многие страницы его «будут жить, доколе не забудется русский язык».
От того времени, когда Белинский называл Лажечникова «лучшим русским романистом», русская литература выросла и разбогатела. Но из той плеяды, что создавала в России исторический роман, пожалуй, именно И.И. Лажечников остался наиболее памятен читателю и в большей степени, чем кто бы то ни было из коллег, интересен даже и по сей день.
«Погоня за абсолютным»
А.И. Герцен (1812–1870)
Подобно тому, как В.И. Ленин призывал рабочую партию помянуть Герцена «не ради обывательского славословия», но для уяснения своих задач, так и нам следует помянуть русского писателя и патриота с целью уяснения себе самих себя. Такая цель, несомненно, окажется достойной памяти Герцена.
А.И. Герцен – фигура чрезвычайно интересная для нашего современника. С одной стороны, его биография – это настоящий Клондайк для жёлтой прессы, для журналов типа «Караван историй» и телепередач вроде «Женский взгляд». С какими придыханиями могла бы рассказать Оксана Пушкина о судьбе Натальи Захарьиной, жены Герцена! Мало того, что Захарьина доводилась ему двоюродной сестрой и вся семья была категорически против их брака. А тут ещё увоз невесты, тайное венчание. А позже – уже в эмиграции – роман Натальи с немецким поэтом Георгом Гервегом и странное сожительство семейств Герценов и Гервегов под одним кровом, в доме, именовавшимся «Гнездо близнецов».
С другой стороны, А.И. Герцен – эмигрант со стажем.
И его пример в этом смысле – другим наука. Ведь и он когда-то рвался за границу из «этой страны». С тою лишь разницей, что если и считал свой народ тёмным и невежественным или, как сейчас говорят, «быдлом», то мечтал о его просвещении и освобождении, а не кривился брезгливо.
Это мы, сегодняшние, смахиваем слезу умиления при упоминании о России XIX века и рядимся кто в «казаков», кто в «монархистов», а кто и в «мужиков». Правда, вернее было бы сказать в «mouzhik`ов», потому что о мужике знаем ещё меньше, чем знал о нём барин. Это нам кажется, что Царская Россия – «радость и веселье», «всех сословий дружба» и т. д. в том же роде. Но Герцен думал иначе. Самодержавие и крепостничество представлялись ему не менее ужасными явлениями, чем «нечестные выборы» и «партия жуликов и воров». Доказательством тому – слова самого Герцена о царском правительстве:
«Эта шайка разбойников и негодяев, которая управляет нами». Сложно не заметить сходства между «партией жуликов и воров» и «шайкой разбойников и негодяев».
Однако, пожив немного в благословенной Европе, Александр Иванович переменил о ней мнение.
Что же искал он на Западе? Прогресс? Свободу? Совершенство, которому нет места под Луной? Как и сегодня, многих русских 40-х гг. XIX в. объединяла неприязнь, или даже отвращение, к «властем предержащим», к официальной России. Как и сегодня, устремлялись они на Запад, где, как им казалось, и хлеб слаще, и вино крепче. Как и сегодня, Запад представлялся им землёй обетованной и награждался теми достоинствами, о которых они мечтали и которых им так остро недоставало на Родине. Точно так же говорили они о том, что должны увезти своих детей из «этой страны», чтобы подарить им достойную жизнь и дать возможность нормально развиваться, потому что где как не на Западе и развиться. Словом, это была всё та же вера в Запад, которая, по слову о. Сергия (Булгакова), «является вполне утопической и имеет все признаки религиозной веры». Да и сам Герцен признавал, что «мы верим в Европу, как христиане верят в рай». Сравнение весьма точное, поскольку христиане верят, что, отмучившись в земной жизни, они, с Божьего попущения, войдут в лоно Авраамово и вкусят вечного блаженства. Точно так же и западники всех времён рассчитывают, что отмучившись в рабской России, можно будет с полным правом срывать цветы удовольствия в Западных палестинах. Но – увы! Рая на земле ещё никто не видел. И даже богатые, по слухам, тоже плачут. Так что возбуждённое образами блаженства воображение вынуждено бывает натолкнуться на холодную и непререкаемую обыденность. Даже если нам доводилось слышать о том, что кто-то на Западе вкушает исключительно нектар и амброзию, это совершенно не означает, что вкушают их поголовно все. И уж ещё с меньшей вероятностью это коснётся нас самих, если только мы вообразим, что и для нас припасены капли и крохи с благодатного пиршества.
Как часто можно наблюдать сегодня либо полное перерождение русского человека, который, ломая и уродуя свою натуру, втискивается в чужие формы; либо разочарование в Западе, где, как со временем выясняется, живут самые обычные люди, подверженные самым обычным страстям и порокам. Страдающие, скучающие, ловчащие никак не меньше, чем где бы то ни было на белом свете. Разве что только на свой салтык.
В первом случае приходится смиряться с тем, что и на Западе есть унизительная бюрократия и законы, ограничивающие свободу не только не менее российских, но и зачастую гораздо более. Что обычаи западных людей подчас совсем не близки обычаям русских, а то и просто похожи на совокупность того, что, с русской точки зрения, является откровенно презренным. И что, наконец, Россия не обладает патентом на такие явления, как «преступность» и «полиция».
Второй случай часто связан с перерождением бывшего некогда восхищения Западом в полную свою противоположность, отягощаясь к тому же пристрастностью и несправедливостью. Так было и с Герценом. «…Мы являемся в Европу с своим собственным идеалом и верой в него, – писал он в эмиграции. – Мы знаем Европу книжно, литературно, по её праздничной одежде <…> Всё это вместе составляет светлую четверть европейской жизни. Жизнь тёмных трёх четвертей не видна издали, вблизи она постоянно перед глазами».
Упования русских на заграницу сродни юношеской влюблённости, когда объект обожания представляется полным всяческих добродетелей и очарования, которое рассеивается, как туман в жаркий день, при первом соприкосновении с действительной жизнью. Герцен же уподоблял отношение неискушённых русских к Западу отношению к городской ярмарке деревенского мальчика: «Глаза мальчика разбегаются, он всем удивлён, всему завидует, всего хочет – от сбитня и пряничной лошадки с золотым пятном на гриве до отвратительного немецкого картуза и подлой гармоники, заменившей балалайку. И что за веселье, что за толпа, что за пестрота! Качели вертятся, разносчики кричат, паяцы кричат, а выставок-то винных, кабаков… и мальчик почти с ненавистью вспоминает бедные избушки своей деревни, тишину её лугов и скуку тёмного, шумящего бора».
Очень скоро после знакомства с этой ярмаркой, после оскомины от сбитня и изжоги от пряничных лошадок Герцен испытывает разочарование и делается непримирим к предмету недавней своей страсти. Идеал его оказался разрушен. Вернее, он сам разрушил свой идеал, когда, приподняв эфирные покровы, вдруг вместо величия и грации обнаружил уродство и мизер. Герцен приходит к заключению, что европейским народам суждено было создать великую идею – идею образования, науки, искусства, права – но не дано воплотить её, не дано создать справедливое в своём устройстве общество, объединяющее просвещённых, внутренне-свободных и духовно-богатых людей.
Напротив, люди, встреченные Герценом в Европе, вызвали его раздражение и неприязнь. Они кажутся ему ничтожествами, жизнь которых сводится «на постоянную борьбу из-за денег». Жизненные ценности и цели европейцев Герцен заключил в формулу: «Наживайся, умножай свой доход, как песок морской, пользуйся, злоупотребляй своим денежным и нравственным капиталом, не разоряясь, и ты сыто и почётно достигнешь долголетия, женишь своих детей и оставишь по себе хорошую память».
Современным западникам, пожалуй, есть, чему радоваться – в известном смысле Россия стала вполне европейской страной. Как и в Европе времён Герцена в России победила столь ненавистная Герцену мещанская идея. Ни для кого не секрет, что духовная жизнь в современной России ютится на задворках, тогда как культивируется плотское и низменное. По мнению о. Сергия Булгакова, мещанство олицетворяет сатанинское начало мира, недаром же и чёрт Ивана Карамазова появился в образе мещанина. И таким образом, борьба Бога с дьяволом сводится к борьбе духовного и мещанского начал. Борьба эта, по слову о. Сергия, «ведётся с переменным успехом в пользу то одного, то другого начала, но она никогда не может окончиться совершенно».
В России, увы, любят творить себе кумиров. Кого только не обожествляют у нас время от времени – то Запад, то собственную страну полуторавековой давности. То и дело слышишь слова: «Вот в европейских (вариант – цивилизованных) странах!..» Или: «Вот когда Русь была святой!..» Сейчас ещё стало модным говорить что-то такое о детях, которых-де надо срочно спасать увозом из России на Запад. Потому что только там им можно дать настоящее образование и защитить от педофилов. O sancta simplicitas! – воскликнем мы вслед за Яном Гусом. Ведь они и правда верят, что в Америке хорошее образование и нет педофилов! Как будто педофилы – это белые медведи, живущие исключительно в северных широтах.
Мечтательность и лень, желание пользоваться готовым и нежелание ничего создавать самим, это с одной стороны; и какие-то купеческие ухватки – заработать любой ценой, пустить в глаза пыль, – с другой – вот, что отличает нашего современника и гонит его на Запад. Из всего этого коктейля, пожалуй, только мечтательность была присуща Герцену. С тою опять же разницей, что в основе этой мечтательности была тоска по идеалу или, как назвал это И.С. Тургенев, «погоня за абсолютным», но никак не презрение к соотчичам, какие бы они ни были, и не позыв перенести потомство из одной норы в другую.
Наивно было бы думать, что происходящее и переживаемое ныне никогда прежде не происходило и никем не переживалось. Вспомним слова мудреца: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чём говорят: “смотри, вот, это новое”; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1:9-10).
Меняется что-то снаружи. Человеческие страсти, подобно калейдоскопу, складываются в новые фигуры. Но суть их неизменна всегда.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































