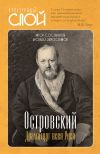Автор книги: Татьяна Москвина
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
«Рука всевышнего отечество спасла» Н. Кукольника
и драма А. Островского «Козьма Захарьич Минин, Сухорук»
Плод многолетнего труда, пьеса о Козьме Минине, не поставленная на сцене, встретила мало одобрения и в критике. С одной стороны, смутил лучезарный патриотизм автора «Грозы», с другой – оба лагеря находили, что пьеса Островского недостаточно народна. Тургенев отозвался так: «… бедноватая хроника с благочестиво-народной тенденцией».[142]142
Тургенев И. С.. Собр. соч. и писем Т. 4. М.; Л., 1962. С. 351
[Закрыть] Остроумно написал о «Минине» Писарев, точно определив тот ориентир, что был в умах критиков. Он сравнил пьесу Островского с известнейшим патриотическим произведением Нестора Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла» (1834), не находя между ними существенной разницы: «И Кукольник и Островский рисуют исторические события так, как наши доморощенные живописцы и граверы рисуют доблестных генералов: на первом плане огромный генерал сидит на лошади и машет каким-нибудь дрекольем; потом – клубы пыли или дыма… потом – за клубами крошечные солдатики, поставленные на картину только для того, чтобы показать наглядно, как велик полковой командир и как малы в сравнении с ним низшие чины. Так, у Островского на первом плане – колоссальный Минин, за ним – его страдания наяву и видения во сне, а совсем позади два-три карапузика изображают народ, спасающий отечество. По-настоящему следовало бы всю картину перевернуть, потому что в нашей истории Минин, а во французской – Иоанна д’Арк понятны только как продукты сильнейшего народного воодушевления»[143]143
Писарев Д. И. Мотивы русской драмы // Писарев Д. И. Избранные сочинения: В 4 т. М.: Художественная литература, 1934. Т. 1. С. 551.
[Закрыть].
Один Писарев был способен влить столько яда всего лишь в несколько фраз. Тут и его постоянная пикировка с Добролюбовым: обличителя «темного царства» он ставит на одну доску с придворным иконописцем самодержавия. Тут и нечто большее: упрекая Островского в недостаточной народности и преувеличении роли личности в истории, Писарев на самом деле метит в Промысел и Провидение, считая Жанну д’Арк, беседовавшую с архангелами, и Минина, призванного к подвигу святым Сергием (так гласят предания), всего лишь продуктами народного воодушевления.
Но исступленный, мистический провиденциализм Кукольника вовсе не близок, а может даже, и противоположен идейному строю «Минина» Островского.
Всевышний Кукольника непосредственно творит историю, пользуясь людьми как орудиями или как оружием, скорее всего. Это мрачный, грозный, ужасный Всевышний, имеющий сильные руки, и человекоподобное оружие, которое он держит в руках, сумрачно и фанатично предано ему. На первом плане не один Минин, но и Пожарский, равный ему по силе.
Зажигая пламенной речью нижегородцев, Минин у Кукольника предлагает:
Казнь извергам! Без строя и вождя
Мы потечем, Москву огнем обымем,
И в ней всю Русь мы Богу предадим.
И Бог судил; приемлет Русь на небо;
А Землю ту, где жило Православье,
Сугубым пеплом покрывает…
Горит земля! Ни одному врагу
Жилья на ней не ставить![144]144
Кукольник Н. Рука Всевышнего отечество спасла. Б. г. С. 156.
[Закрыть]
То есть Минин готов уничтожить Русь, чтобы она не досталась врагу. Под стать ему и князь Пожарский, восклицающий: «Я – ничто. Я только меч твой, Боже!»[145]145
Кукольник Н. Рука Всевышнего отечество спасла. Б. г. С. 197.
[Закрыть] Впрочем, Всевышний может обойтись и без своих марионеток, действуя непосредственно: он убивает ядром Заруцкого, лишает разума Марину Мнишек. При такой исключительной степени всесильности Бог Кукольника мог бы прекрасно обойтись без ополчения, убрав иноземцев из Кремля взмахом руки. Но его игра сложнее: ему надобно доказательств преданности и покорности, только тогда он протягивает своей Руси могучую десницу. Русский Бог в изображении Кукольника, точно самодержавный деспот, нуждается в превознесении, мольбах о пощаде, неукоснительном смирении и полном подчинении.
Конечно, перед нами крайний, примитивный почти до карикатурности вариант исторического провиденциализма. Весьма отличается от него общий колорит драмы К. Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» (1848). Это последовательное и подробное изложение событий 1612 года, точно по летописям и хроникам, с использованием подлинных грамот, прилежное, далекое от художественности, с широко разработанным «народным фоном» и скромными трудолюбивыми героями, которые ничуть не напоминают исступленных фанатиков Кукольника. В народе у Аксакова неторопливо и неназойливо поговаривают, что, конечно, в неурядицах Смуты виден гнев Божий. «Что ни делаешь, все не спорится. Самозванца Гришку свели, – еще хуже стало. ‹…›…да и потом удачи не было ни в чем, ничего Бог не благословлял»[146]146
Аксаков К. С.. Освобождение Москвы в 1612 году. М., 1848. С. 102–103.
[Закрыть]. То ли дело в том, что народ поверил обману Гришки Отрепьева, то ли Василий Иванович Шуйский виноват, то ли, как говорит персонаж по имени Иван: «Да видно, все мы грешны» – неясно, в чем именно, а грешны, и все тут.
О Боге и Божьих делах говорят у Аксакова как о чем-то далеком от человеческого уразумения. Минин и Пожарский справляют обыкновенное воинское дело, без особого даже пафоса, настолько очевидна его необходимость.
«Козьма Захарьич Минин, Сухорук» Островского, действительно, имеет на первом плане «колоссального Минина», князь Пожарский – лицо эпизодическое, Заруцкий и Ляпунов в пьесе не появляются. Заканчивается хроника не избранием Михаила Романова, как пьеса Кукольника, и не освобождением Москвы, как сочинение Аксакова. Закачивается она призванием Козьмы Минина на небывалую службу: «Аксенов. Прими ж такое звание от нас, какого наши деды не слыхали и внуки не услышат, и зовись ты Выборным всей Русскою Землею!»[147]147
См.: Островский А. Н. Собр. соч.: В 12 т.
[Закрыть]
После этого в эпилоге кратко рассказано прощание нижегородцев с ополчением и его выход из Кремля.
Стало быть, все, что творчески интересует драматурга, – как же это случилось, что человек из торгового сословия, земский староста, «говядарь», собрал и одушевил великое историческое деяние – ополчение 1612 года. Центром пьесы становится столь прозаическое событие, как сбор казны, когда нижегородцы в едином энтузиастическом порыве отдают свои «животишки», нажитое добро на правое дело. П. Анненков, усердный почитатель Островского, с восторгом писал, что в хронике Островского дух народа явился воочию[148]148
Анненков П. О «Минине» Островского и его критиках // Денисюк Н. Критическая литература о произведениях Островского. Вып. 2. М., 1906. C. 115.
[Закрыть]. Но дух народа явился, свершив мучительное усилие и преодолев громадную толщу слабостей, привычек, страхов, бытовых раздоров, лени, малодушия, корысти и неверия в собственную силу. Дух народа явился не по мановению руки Всевышнего, а упрямой волей нижегородского старосты.
Минин – не оружие в руках Всевышнего, но скорее тонкий музыкальный инструмент: он сам настраивает, налаживает свою душу на восприятие веры и силы. А почувствовав их, крепко берет нижегородцев в свои руки, не допуская сникнуть воодушевлению.
Вот начало четвертого действия: в соборе читают грамоту из Сергиева монастыря. Народ потрясен, во всем соборе рыдание. Расходясь, народ толкует о происшедшем. «Две женщины. 1-я. Ни в жизнь столько слез не видала! Ни на одних похоронах того не бывает. 2-я. Уж и не говори! Так рекой и разливались. Ангелы-то с небеси, чай, смотрят да радуются». «Старик и женщина. Старик. Гибнет, говорит, все наше государство! гибнет вера православная! Легко сказать – гибнет вера православная! Каково это слово! Скажи ты мне, каково слышать? Женщина. Тяжко-то оно слышать, тяжко, а хорошо, кабы почаще нам эти слова напоминать! А то живем тут, беды большой над собой не видим, никакой муки не терпим; этак не то что своих ближних, и Бога-то забудешь».
Из этого теплого, несколько юмористического, «островского» говора нижегородцев виден привычный, размеренный уклад мыслей и чувств, который может ненадолго поддаться сильному одушевлению, но так же легко и успокоится. Поплакали, подивились своему собственному умилению, и забыли. Потому Козьма Захарьич сразу после этой обедни собирает народ. «Аксенов. Сейчас наказывал Козьма Захарьич сказать народу, чтоб не расходился. Пожалуй, после все и не сберешь, да и сердца-то огрубеть успеют». Ту т же, пока не остыли нижегородцы от пролитых за обедней слез, Минин предлагает им собрать казну на ополчение. Он как будто высвобождает их души из бытовой коросты, заставляет «вылезти из шкуры», и они уже не могут не полюбить его, видя в нем свой собственный душевный порыв.
Но преодолеть корысть мало, надо раззадорить горожан до особого русского состояния, когда с шеи снимается крест, когда все равно, жить или умереть, когда все житейское и суетное враз теряет всякую силу, всякую привлекательность. Этого Минин добивается испугом, отказываясь принять казну (она недостаточна для ополчения), и народ, видя в нем олицетворение своего душевного подъема, идет далее и отдает себя целиком. «А животов не станет – жен с детями имать у нас и отдавать в заклад».
Сила Минина в упорстве, с каким он постепенно раздувает малые искорки воодушевления в очистительный костер всенародного подвига. Ведь поначалу ведутся горестные разговоры о состоянии родной страны, из тех, что можно вести десятилетиями. Между этими искренними, но необязательными разговорами и выходом ополчения из Нижнего лежит подвиг Минина. Одинокой, сосредоточенной думой о всеобщей беде он сам себя вызволил из обыденного строя жизни и наладил свою душу на восприятие «музыки небесных сфер», а затем помог-заставил взлететь и других. «Минин: Молись да жди, пока Господь сподобит тебя такую веру ощутить в душе твоей, что ты не усомнишься с горами речь вести и приказать горам сползти с широких оснований…»
Таким образом, подвиг нижегородцев и святое, кряжистое упрямство Козьмы Минина есть их неоспоримая заслуга, пусть и благословленная свыше. Осуществление Промысла не происходит с тою беспечной легкостью, с какой происходит осуществление иных капризов абсолютных самодержцев в покорных и смиренных странах. Провидение не обращает людей в марионеток, но оставляет за каждым свободу воли.
Следующая пьеса Островского – «Воевода, или Сон на Волге». При всей нежнейшей поэтичности, восхитившей многих придирчивых современников, «Воевода», конечно, густо замешен на мотивах социальной справедливости и социального беззакония. Если рассматривать пьесу в связке с «Мининым», обнаруживаются интересные переклички.
Вот опять – большой торговый город, лет шестьдесят спустя после Смуты. С. Дурылин даже считал, что это Нижний Новгород, но другие исследователи называют Кострому[149]149
См. об этом: Дурылин С. Н. А. Н. Островский. М.; Л.: Искусство, 1949. С. 83.
[Закрыть]. Воевода, посадские – все как в «Минине». Только разве за эту жизнь, говоря несколько иронически, боролся Козьма Минин? Он освобождал Москву, отстаивал православные твердыни. Твердыни стоят нерушимо. Москва, как говорится, в полном порядке – как мать городов и центр Святой Руси, рассылает грамоты и сажает на кормление воевод.
Прошел миг национального подъема, объединившего все сословия, священный подвиг стал достоянием истории, а русская самобытность обрела неколебимые границы. И жизнь пошла своим чередом – с беспредельным самодурством воевод, кляузами подьячих, с общим неважным, негодным строем и с отчаянно сильным и талантливым, но как-то вкривь-вкось, не в полную силу живущим народом.
Все, что касается народной души, народных верований, Островский изображает с трогательной любовью и пониманием. Но его оценка общего строя этой жизни совершенно недвусмысленна. Вот финал пьесы, когда становится известно, что власть самодура-воеводы Шалыгина окончена по царскому указу. «Ну, старый плох, каков-то новый будет», – говорят старые посадские. «Да, надо быть, такой же, коль не хуже», – отвечают молодые посадские. Уморительно, что именно молодые посадские подвержены столь непохвальному скепсису. Эти реплики будто размыкают пьесу, подключая ее и ко всем последующим временам. Моментально образуется сатирическая перспектива русской жизни с вечной заменой плохого еще худшим, чуть ли не по-щедрински.
В ходе Смутного времени народ отстоял свое право на собственную, не покорную ничему инонациональному жизнь. Нет никакой угрозы русской самобытности. Но, предоставленная сама себе, она сама же и сплетается в тугой узел драматических противоречий, когда чудесная поэтическая религиозность сочетается с диким разбоем, а размах душевной красоты и силы – с уродливым беззаконием.
Погрузившись в исторический быт народа второй половины XVII века, Островский совершил затем резкий скачок, вернувшись к началу истории, им уже будто завершенной. Исследование драмы национальной самобытности привело его к созданию удивительного произведения – хроники «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский».
Решительное произведениеКажется, ни за одну пьесу Островский так не тревожился, «Одно из самых зрелых и дорогих моих произведений»; «Все, доселе мною писанное, были только попытки (а написаны уже и «Свои люди сочтемся», и «Доходное место», и «Гроза» – Т. М.) – а это, повторяю опять, дурно ли, хорошо ли, произведение решительное». Так он пишет в письмах. В двадцатипятилетие своей драматургической деятельности ни о каком подарке не мечтает, как о постановке «Самозванца». Видимо, нечто дорогое и заветное было вложено в пьесу о Самозванце.
Для того чтобы понять заветную думу, вложенную Островским в хронику «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», нам придется сделать изрядный экскурс в существо вопроса. Явление на русской исторической сцене мнимого сына Иоанна Грозного, так называемого Дмитрия Самозванца, – одна из самых загадочных страниц русской истории, породившая немало толкований, исторических и художественных. Без ее изучения мы не поймем выбор Островского и мнение Островского.
Дмитрий Самозванец как историческое лицоРассматривая сочинения наиболее авторитетных в XIX веке историков – Н. Карамзина, С. Соловьева и Н. Костомарова (а надобно заметить, вряд ли кто в веке XX их превзошел по авторитетности, своеобразию, слогу и тщательности мысли) – с точки зрения их мнения о причинах Смуты и личности первого Самозванца, скажем перво-наперво, что никто из них не был вне морали, по ту сторону добра и зла. Несмотря на известную дисциплинированность мысли, историки XIX века оценивали то или иное историческое лицо не только в зависимости от той пользы или того вреда, которые они причинили России. Собственное обустройство исторического лица занимало их не менее. Загадка происхождения и миссии Самозванца дополнялись лирической оценкой его образа, даже в какой-то мере созданием такого образа.
Итак, кем же был этот некрасивый собою молодой человек лет тридцати, с печальными и всегда задумчивыми темно-голубыми глазами?[150]150
Так описывает его Костомаров.
[Закрыть]
Карамзин, по-видимому, нигде не отступает от официальной версии, именуя Самозванца «расстригой» и «Отрепьевым». На данном этапе истории он – орудие Провидения, враждебного Борису Годунову. «Как бы действием сверхъестественных сил тень Дмитрия встала из гроба»[151]151
Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 11. Кн. 3. М.: Книга, 1989. С. 73.
[Закрыть]. Он завоевывает Русь без больших кровопролитий, ведет себя ловко и умно. «Думали, что Всевышний несомнительно благоволит о самозванце»[152]152
Там же. С. 110.
[Закрыть]. Наконец бывший дьякон приходит в Москву, после, надо заметить, весьма кратковременного отсутствия. И обнаруживается, по описаниям Карамзина, что поведение его несказанно странно для русского человека, белого инока, что недавно из подмосковного монастыря. «Он хвалился искусством всадника, зверолова, пушкаря, бойца, забывая достоинства Монарха»[153]153
Там же. С. 130.
[Закрыть]. Он упрекал бояр в невежестве, «дразнил хвалою иностранцев и твердил, что Россияне должны быть их учениками, ездить в чужие земли, видеть, наблюдать, образоваться и заслужить имя людей»[154]154
Там же. С. 128.
[Закрыть]. С какой стати вести такие речи русскому дьякону? Самозванец ведет себя вразрез со всеми обычаями Руси, так, будто вовсе их не знает. «Хотел веселья: музыка, пляска и зернь были ежедневною забавой Двора… Всякий день казался праздником»[155]155
Там же. С. 135.
[Закрыть]. Допустим, это можно объяснить молодостью и радостью от удавшейся авантюры. Но Карамзин сообщает один факт, совершенно изумительный: оказывается, Самозванец никогда не делал того, что в российском государстве делали все от мала до велика и во всех сословиях. Он никогда не спал после обеда. «Любил в сие время гулять: украдкою выходил из дворца, бегал из места в место к художникам, золотарям, аптекарям»[156]156
Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 11. Кн. 3. М.: Книга, 1989. С. 129–130.
[Закрыть].
Кажется, историк описывает эту странность несчастного московского царя с известным удивлением – как можно утратить за столь короткий срок закоренелую привычку быта? Да был ли наш Самозванец вообще русским? Точно заезжий турист бегает он к художникам и золотарям.
И по необходимости оправдать анафему, звучавшую и в его времена Отрепьеву, и видя в нем отчасти причину русских бед, Карамзин отзывается о «расстриге» с принятым уничижительным пафосом. И вдруг: «Сей человек удивительный, одаренный некоторыми блестящими свойствами…»[157]157
Там же. С. 145.
[Закрыть] В заключение главы, подробно рассматривая версии о действительном происхождении Самозванца, Карамзин оценивает его так: «С умом естественным, легким, живым и быстрым, даром слова, знаниями школьника и грамотея соединяя редкую дерзость, силу души и воли…» – право, не много было на Руси царей с таким «послужным списком». Рискнем утверждать, что Самозванец, несмотря ни на что, нравится историку. В своей книге он приводит слова о нем некоего углицкого старца, из слуг при дворе: «Убит человек, разумный, храбрый, но не сын Иоаннов»[158]158
Там же. С. 182.
[Закрыть]. Кроме того, Карамзин осторожно добавляет еще одно мнение современников: «Многие считали его поляком, незаконным сыном Батория»[159]159
Там же.
[Закрыть].
Убийство Самозванца в изображении Карамзина, если отбросить явно дежурные слова о возмездии, выглядит мерзостным и преступным деянием. День 17 мая он называет «горестный для человечества день». С отвращением пишет друг человечества о надругательстве над телом Самозванца, об истреблении поляков и той особенной тишине, которая наступила после мятежа. При всей любви к россиянам Карамзин позволяет себе горькие и затаенно-гневные слова в их адрес: «Еще улицы дымились кровью и тела лежали грудами, а народ покоился как бы среди глубокого мира и непрерывного благоденствия – не имея царя, не зная наследника – опятнав себя двукратною изменою и будущему венценосцу угрожая третьею!»[160]160
Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 11. Кн. 3. М.: Книга, 1989. С. 173.
[Закрыть] Не есть ли этот день завязка всех последующих бед? Художественное нутро Карамзина не могло не подвигнуть его на указание следующего факта (об этом никто из последующих историков не писал): с 18 по 25 мая на Русь пришли неслыханно жестокие морозы…
С. М. Соловьев не уделяет почти никакого внимания вопросу о происхождении Самозванца и, как бы не видя способов его окончательного разрешения, выносит за пределы исследования. Соловьев пишет утвердительно: в Самозванце «нельзя не видеть человека с блестящими способностями»[161]161
Соловьев С. М. Сочинения: В 18 кн. Кн. 4. Т. 7–8. М.: Мысль, 1984. С. 391.
[Закрыть].
В Думе он «в минуту, ко всеобщему удивлению, решал такие дела, над которыми бояре долго думали»[162]162
Там же. С. 417.
[Закрыть]. Он не только раздавал обещания, но делал и реальные дела, например в действительности вернул долги служивым людям – «велел заплатить все те деньги, которые были взяты еще Грозным и не отданы»[163]163
Там же.
[Закрыть]. Мятеж 17 мая и убийство Самозванца, по недвусмысленному мнению Соловьева, не несли в себе ничего священного и справедливого. Это было совершено якобы от имени Руси, но совершено особой прослойкой людей, именуемой московской чернью. «Дело было чисто московское, но далеко не все москвичи его одобряли»[164]164
Соловьев С. М. Сочинения: В 18 кн. Кн. 4. Т. 7–8. М.: Мысль, 1984. С. 444.
[Закрыть]. Соловьев не дает никаких оправданий случившемуся. «В народе не могло не быть сознания, что совершено дело нечистое»[165]165
Там же. С. 443.
[Закрыть]. 17 мая, по Соловьеву, началась Смута, поскольку было достигнуто особое нравственное состояние народа: «настоящего, установленного, священного ничего не было»[166]166
Там же. С. 445.
[Закрыть]. К власти уже мог прийти кто угодно – насилием, заговором, но не по закону.
Н. Костомаров – историк, открыто не признающий версию об Отрепьеве. Хотя он предупреждает: «Мы не должны увлекаться блеском тех светлых черт, которые проглядывают не столько в его поступках, сколько в словах»[167]167
Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деталей. Кн. 1. М.: Книга, 1990. С. 630.
[Закрыть], описание Костомаровым краткого пребывания Самозванца на московском троне похоже на апологию. Изящно танцующий, метко стреляющий, работающий на пушечном дворе лично, Дмитрий в изображении Костомарова напоминает некий абрис, предварительный чертеж Петра Великого, по направлению реформ и по их характеру. Хотя все русские реформы и реформаторы в общем схожи, ибо направление реформ одно: быстрая, немедленная европеизация.
В царствование Дмитрия «всем предоставлено было свободно заниматься промыслами и торговлей; всякие стеснения к выезду из государства и въезда в государство и переездам внутри государства уничтожены»[168]168
Там же. С. 618.
[Закрыть]. Думу Самозванец называет Сенатом. «Англичане того времени замечают, что это был первый государь в Европе, который сделал свое государство в такой степени свободным»[169]169
Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деталей. Кн. 1. М.: Книга, 1990. С. 618.
[Закрыть].
Костомаров, видимо, предостерегал от увлечения Самозванцем самого себя. «Всем служилым удвоено содержание, всем должностным лицам удвоено содержание и строго запрещено брать посулы. Два раза в неделю, в среду и субботу, царь лично принимал челобитные»[170]170
Там же.
[Закрыть]. Так значит, не все танцевал и флиртовал, это уже не одни красивые слова и пустые обещания – царь, лично берущий два раза в неделю челобитные, есть слишком диковинное событие в русской истории, чтоб его можно было бы отодвинуть пренебрежительными словами. Откуда же он взялся?
Костомаров сообщает читателю, что Самозванец не умел прикладываться к образам и имел немосковский выговор. Он добавляет к тому же странный факт, на источник которого не указывает: будущий Дмитрий учился в Галиции в школе Гавриила и Романа Гойских, где увлекся арианской ересью[171]171
Там же. С. 611.
[Закрыть]. Арианская ересь, одна из древнейших, зиждется на отзвуке смутных преданий о том, что Иисус Христос был не Богом, но человеком и спасся от распятия, будучи укрыт учениками, а вместо него распяли другого. Сходство с легендой о царевиче Дмитрии очевидно, но кем был тот, кто увлекся этою ересью и, возможно, сочинил легенду о неубиенном Дмитрии, Костомаров не говорит. Речи, которые он вел в Думе, поразительны не только для русского царя, но и для поляка, если он им был, и для человека XVII столетия вообще: «Дмитрий говорил русским: “Считаете себя самым праведным народом в мире, а живете совсем не по-христиански, мало любите друг друга, мало расположены делать добро. Зачем вы презираете иноверцев? Что же такое латинская, лютеранская вера? Все такие же христиане, как и греческие. И они в Христа веруют”»[172]172
Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деталей. Кн. 1. М.: Книга, 1990. С. 619.
[Закрыть].
Заключение Костомарова внятно: «Он для русского общества был человек, призывавший его к новой жизни»[173]173
Там же. С. 664.
[Закрыть]. Заговор, уничтоживший Самозванца, – трагедия, внушающая просвещенному историку чувство брезгливого стыда. «Народ до того перепился, что не мог долго дать себе отчета в происходящем»[174]174
Там же. С. 668.
[Закрыть].
Замечу, забегая вперед, что, на мой взгляд, Костомаров тут упростил суть дела. Как мы поймем из раздумий над хроникой Островского, трагедия 17 мая не сводится к одной лишь отвратительно перепившейся московской черни, уничтожившей идеального европейского государя, предтечу Петра Великого.
Изо всех исторических работ XIX века встает на свой лад захватывающий образ самозваного московского царя. Никто не отказывает ему в блестящих способностях и реформаторских усилиях. Так или иначе историки подмечают его чужеродность русскому быту. С его приходом к власти завязывается мучительный узел, разрешившийся кровавым мятежом. Столкновение загадочного по веротерпимости и свободолюбию Самозванца с укладом русской жизни, перенесшей деспотию Грозного и Годунова, но выкинувшей с неистовой яростью просвещенного реформатора, таило в себе нечто беспокойное, притягательное для размышлений и будившее художественное воображение как готовый прообраз драмы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.