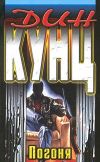Текст книги "Железная маска (сборник)"

Автор книги: Теофиль Готье
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 53 страниц)
– Он не назвался, но заявил, что его имя ничего вам не скажет, – ответил Пьер, распахивая дверь.
На пороге стоял красивый юноша в изящном костюме для верховой езды и серых замшевых ботфортах с серебряными шпорами. Свою широкополую шляпу с длинным зеленым пером он снял и держал в руке, что позволяло ясно видеть тонкие и правильные черты, античной красоте которых позавидовала бы любая дама.
Появление этого безукоризненного красавца, судя по всему, не слишком обрадовало Сигоньяка: он тут же вскочил, бросился к висевшей в ногах кровати шпаге, схватил ее и, наполовину обнажив клинок, застыл посреди комнаты.
– Проклятье! – ошеломленно проговорил он. – А я-то думал, что покончил с вами, герцог! Это действительно вы или ваша тень?
– Это я, Аннибал де Валломбрез, собственной персоной и вполне живой, – с усмешкой ответил молодой герцог. – Верните шпагу на место: я не собираюсь драться с вами, барон. Мы дрались уже дважды и, пожалуй, этого достаточно. Я прибыл сюда не как враг. Если я и докучал вам временами, то вы отплатили мне с лихвой. Следовательно, мы в расчете. А в качестве доказательства моих самых добрых намерений извольте получить подписанный королем указ, согласно которому вам присваивается чин капитана мушкетеров королевской гвардии. Мой отец и я напомнили его величеству о преданности де Сигоньяков его августейшим предкам и об их военных заслугах, а также о вашем нынешнем непростом положении. А я пожелал лично доставить вам эту приятную весть! Итак, я ваш гость, а посему велите свернуть шею кому угодно, насадите на вертел кого попало, только, ради всего святого, дайте чего-нибудь поесть! Харчевни по дороге к вам никуда не годятся, а моя повозка с припасами застряла в песке на изрядном расстоянии отсюда.
– Боюсь только, как бы вы не сочли мое обычное меню коварной местью, – шутливо ответил Сигоньяк, все еще ошеломленный случившимся. – Скажу прямо: то, как открыто и прямодушно вы действовали, ваше заступничество перед королем и ваше появление здесь растрогали меня до глубины души. Отныне у вас, герцог, не будет более преданного друга, чем я. Знайте: что бы ни случилось, я всегда к вашим услугам!..
С этими словами Сигоньяк обернулся к старому слуге:
– А ты, Пьер, беги со всех ног, раздобудь где угодно кур, яиц, свежей телятины и постарайся накормить нашего гостя, который умирает от голода, как можно лучше! В отличие от нас с тобой, он не привык голодать и довольствоваться похлебкой.
Сунув в карман несколько пистолей, старый слуга торопливо оседлал лошадь и во весь дух помчался в ближайшую деревню, рассчитывая запастись там провизией. Ему удалось раздобыть полдюжины цыплят, окорок и оплетенную соломой бутыль выдержанного вина, а местного кюре не без труда удалось убедить расстаться с уже готовым паштетом из гусиной печени – деликатесом, достойным стола самого епископа.
Через час он вернулся, наняв себе в помощь долговязую и оборванную деревенскую девицу – надо же было кому-то вращать вертел над очагом, – а сам тем временем накрыл стол в портретной зале, выбрав лучшую – то есть наименее надбитую и треснувшую – посуду. Покончив с этим, он явился доложить, что «кушать подано».
Герцог и барон уселись за стол друг напротив друга, выбрав по наименее шаткому стулу из шести, имевшихся в зале, и де Валломбрез, которого отчаянно развлекала столь непривычная обстановка, с жадностью набросился на еду. Его великолепные белые зубы мигом разделались с целым цыпленком, а затем лихо вонзились в увесистый ломоть розовой байоннской ветчины и, как говорится, потрудились на совесть. Паштет он объявил пищей богов, а козий сыр, слегка подернутый голубой плесенью, по его словам, отменно разжигал жажду. Удостоилось похвалы и вино, в самом деле хорошо выдержанное, искрившееся пурпуром в старинных венецианских бокалах.
В итоге гость пришел в самое благодушное настроение, а когда Сигоньяк в присутствии Пьера назвал его герцогом де Валломбрезом, едва не лопнул со смеху при виде выражения лица старого слуги. И неудивительно, поскольку Пьер решил, что его хозяин имеет дело с ожившим покойником. Что касается барона, то он все еще продолжал дивиться тому, что за его столом непринужденно восседает тот самый лощеный и надменный вельможа, которые еще недавно был его соперником в любви, дважды побежденный им на дуэли и неоднократно предпринимавший попытки лишить его жизни с помощью наемных головорезов.
Герцог без слов догадался обо всем, и когда старый слуга удалился, поставив на стол бутылку доброго вина и маленькие бокалы, чтобы можно было не спеша смаковать драгоценную влагу, расправил свои шелковистые усы и доверительно обратился к барону:
– Несмотря на вашу учтивость и гостеприимство, дорогой Сигоньяк, я вижу, что мой визит кажется вам несколько странным и неожиданным. Вы наверняка в недоумении и задаетесь вопросом: каким это образом заносчивый и дерзкий де Валломбрез из тигра внезапно превратился в кроткого агнца? Попробую ответить. В те полтора месяца, что я был прикован к постели, у меня было достаточно времени, чтобы подвести некоторые итоги – те самые, о которых человек задумывается перед лицом вечности. Но смерть – ничто для дворянина, к ней мы относимся гораздо беспечнее, чем даже простолюдины. Дело в ином: я понял, насколько низменными и суетными были многие мои стремления, и поклялся жить иначе, если мне удастся выкарабкаться. Любовь к Изабелле превратилась в моей душе в братскую привязанность, а следовательно, исчезли все причины вас ненавидеть. Вы перестали быть моим соперником, а размышляя над этим, я по-новому оценил ваше благоговейное чувство к ней, которому вы ни разу не изменили. Вы первым различили благородную душу в обличье бродячей актрисы. Несмотря на свою бедность, вы предложили безродной комедиантке величайшее богатство, каким обладает дворянин, – имя своих предков. И теперь, став знатной и богатой, она по праву принадлежит вам. Возлюбленный простушки Изабеллы должен стать супругом графини де Линейль!
– Но ведь она упорно отвергала меня даже тогда, когда видела мое бескорыстие, – возразил Сигоньяк.
– В своем ангельском смирении эта самоотверженная душа опасалась стать для вас препятствием на пути к благополучию. Но после того как мой отец признал ее дочерью, положение изменилось на противоположное.
– Да, герцог, вы правы: теперь уже я не достоин ее высокого титула. И смею ли я быть менее великодушным, чем она?
– Но любите ли вы мою сестру по-прежнему? – неожиданно торжественным тоном спросил де Валломбрез. – Как брат я имею право задать этот вопрос.
– Всем сердцем и всей душой! – проникновенно ответил де Сигоньяк. – Я люблю ее так, как ни один мужчина не любил ни одну женщину на земле, на которой нет ни одного существа, более совершенного, чем Изабелла.
– В таком случае, господин капитан мушкетеров, а вскоре, возможно, и губернатор одной из южных провинций, велите седлать коня! Мы с вами отправимся в замок Валломбрез, где я, согласно этикету, представлю вас принцу – моему отцу – и моей сестре, графине де Линейль. Ее руки просили шевалье де Видаленк и маркиз де л’Этан – оба, смею вас заверить, весьма достойные молодые люди, однако Изабелла отказала им. Но я думаю, что она без всяких колебаний отдаст свою руку и сердце барону де Сигоньяку…
Утром следующего дня молодой герцог и барон уже мчались по дороге, ведущей в Париж.
20
Признание Чикиты
Несмотря на раннее время, Гревская площадь[72]72
Гревская площадь – площадь в Париже у набережной Сены, где на протяжении нескольких веков совершались публичные смертные казни. На площади были установлены постоянные эшафот, виселица и позорный столб.
[Закрыть] была запружена народом. Высокие кровли Ратуши – творения прославленного Доменико Боккадоро – серо-фиолетовыми контурами вырисовывались на белесом фоне неба. Холодная тень здания дотягивалась до середины площади, захватывая зловещий дощатый помост высотой в человеческий рост, весь в пятнах запекшейся крови. Из окон окружающих домов то и дело высовывались головы и сразу исчезали, убедившись, что спектакль еще не начался. В мансардном окне той самой угловой башенки, откуда, по преданию, Маргарита Наваррская наблюдала за казнью Ла Моля и Коконаса, выглянула морщинистая старуха – словно красавица-королева состарилась и превратилась в безобразную старую ведьму! На каменный крест, стоявший у спуска к реке, с трудом вскарабкался какой-то мальчишка и повис на нем, перекинув руки через поперечину, а коленями обхватив столб. Висеть таким образом, подобно распятому разбойнику, – дело мучительное, но свое место он не уступил бы ни за какие коврижки, пусть даже и медовые. Оттуда ему были видно все самое главное: колесо, на котором станут вращать осужденного, веревка, чтобы привязать его, и железный брус, которым ему переломают кости.
Но если бы кто-нибудь из толпы зрителей удосужился внимательнее вглядеться в подростка на кресте, то он заметил бы в выражении его лица нечто совсем не похожее на жадное любопытство. Вовсе не стремление наглядеться на чужие муки привела сюда этого смуглого юнца с большими блестящими глазами, окруженными голубоватыми тенями, белыми, словно жемчуг, зубами и длинными черными кудрями. Да и тонкость черт лица подсказывала, что он принадлежит совсем не к тому полу, на который указывала его одежда. Однако всем было не до того, чтобы таращиться на крест – взоры толпы были прикованы к эшафоту и набережной, откуда должен был появиться осужденный на казнь.
В толпе было немало знакомых читателю лиц: по сливово-багровому носу на белой как мел физиономии легко было узнать Малартика, а орлиный профиль на фоне складок плаща, по-испански заброшенного на плечо, явно принадлежал Жакмену Лампуру. Несмотря на широкополую шляпу, надвинутую до бровей с целью скрыть отсутствие уха, оторванного пулей Тордгеля, всякий опознал бы в молодце, который, сидя на тумбе, попыхивал длинной голландской трубкой, небезызвестного Бренгенариля. Тордгель же в это время увлеченно беседовал с Кольруле, а по ступеням у входа в Ратушу прогуливались еще несколько завсегдатаев «Коронованной редьки», обмениваясь философскими замечаниями о превратностях судьбы.
Давно известно, что Гревская площадь обладает для убийц, разбойников и воров какой-то странной притягательной силой. Это зловещее место, на котором, как правило, и завершается их земной путь, действует на них, как гигантский магнит. Им нравится любоваться виселицей, на которой их вздернут, и, наблюдая за судорогами осужденных, они мало-помалу привыкают к смерти и мукам. А это в корне противоречит самой идее правосудия, согласно которой пытки и казни имеют своей целью устрашение преступников.
Впрочем, скопление здесь всевозможных отбросов общества в дни казней объясняется и другой причиной: главный герой спектакля обычно связан с ними родством, приятельскими отношениями, а чаще сообщничеством. Они идут поглядеть, как вешают их кузена или племянника, как колесуют закадычного дружка или сжигают на костре поклонника, которому помогали спустить краденые или фальшивые деньги. Не присутствовать при столь важном событии считается неучтивым. Да и осужденному, знаете ли, приятно видеть у эшафота знакомые лица. Это придает ему бодрости и силы, он не хочет выказать малодушие перед настоящими ценителями, и его гордость пересиливает мучения. При такой публике многие довольно хлипкие и малодушные злодеи умирают, как истинные древние римляне.
Часы на башне Ратуши пробили семь раз, а казнь была назначена на восемь. Жакмен Лампур, сосчитав удары, заметил, обращаясь к Малартику:
– Мы вполне могли бы успеть раздавить бутылочку-другую, но тебе все не сидится на месте. Может, все-таки вернемся «Коронованную редьку»? Что толку торчать здесь и тратить бездну времени только для того, чтобы увидеть, как колесуют бедолагу? Это крайне пошлый и неприглядный вид казни. Будь это какое-нибудь роскошное четвертование, да еще с судейским чиновником на каждой из четырех лошадей или, допустим, прижигание раскаленными щипцами, или вливание смолы и расплавленного свинца в глотку, – словом, что-то замысловатое, исключительное по зверству и жестокости – тогда дело другое. Я бы остался только из любви к искусству, но ради такой чепухи – увольте!
– По-моему, ты недооцениваешь колесование, – ответил Малартик, потирая нос. – У колеса есть свои достоинства, и немалые.
– Ну, о вкусах не спорят. У каждого свои пристрастия, как сказал один латинский поэт, чьего имени я не помню. С поэтами мне вообще не везет – я куда лучше запоминаю имена полководцев. Тебе по душе колесо – ладно, не возражаю и буду сопутствовать тебе до конца. Но все-таки ты должен признать, что отсечение головы с помощью доброго клинка дамасской стали с долом на тыльной стороне и выемкой в теле клинка, заполненной ртутью, представляет собой зрелище не только увлекательное, но и благородное, ибо требует отменного глазомера, силы и проворства!
– Согласен, да только длится-то все это одно мгновение, и к тому же головы рубят одним дворянам. Плаха – их привилегия. А среди казней для простонародья колесо, на мой взгляд, много почтенней виселицы, которая годится только для мелких жуликов. А Огастен не простой вор. Он заслуживает большей чести, чем намыленная веревка, и правосудие в данном случае отнеслось к нему с уважением.
– Ты всегда был слишком снисходителен к Огастену. Я полагаю, тут все дело в Чиките, на которую ты давно уже положил свой блудливый глаз. Но я не разделяю твоего восхищения этим разбойником. Он не годится для деликатных операций на улицах просвещенного столичного города. Его удел – резать проезжих и прохожих на больших дорогах и в горных ущельях. Тонкости нашего искусства ему никогда не давались – он тут же выходит из себя и начинает крушить все подряд. Чуть что не по нему – и он, словно дикарь, хватается за нож. И нечего ссылаться на Александра Македонского: разрубить Гордиев узел – это нечто совершенно иное, чем его аккуратно развязать. Я уже не говорю о том, что Огастену чуждо всякое благородство, поскольку он не пользуется шпагой.
– Огастен пользуется навахой – оружием своей родины. Разве он виноват, что ему не пришлось, подобно нам, годами оттачивать свое мастерство в фехтовальных залах? Но так или иначе, а его стиль отличается внезапностью, отвагой и своеобразием. Его удар сочетает в себе точность огнестрельного оружия с беззвучностью холодного. Без малейшего шума он попадает в крохотную мишень в двадцати шагах. Нет, все-таки очень досадно, что карьера Огастена оборвалась так быстро! При его львиной отваге он мог бы пойти весьма далеко.
– Лично я держусь старых традиций, – возразил Лампур. – Без формы все что угодно может потерять смысл. Прежде чем напасть, я всякий раз хлопаю противника по плечу и даю ему возможность стать в позицию; если хочет и может – пусть защищается. И это уже не банальное убийство, а дуэль. Я бретер, а не мясник. Разумеется, я владею искусством фехтования так, что мне обеспечен успех, моя шпага разит почти без промаха, но быть опытным игроком не то же самое, что быть шулером. Да, я уношу с собой плащ, кошелек, часы и украшения убитого – но кто бы на моем месте поступил иначе? Всякий труд должен быть оплачен. И что бы ты ни говорил об Огастене, возня с ножом не по мне.
– Ох, Жакмен Лампур, ты человек твердых правил, тебя с толку не сбить. И все-таки в нашем деле не повредит чуть-чуть фантазии!
– Ничего не имею против фантазии, но тонкой, сложной, так сказать, изысканной. Необузданная и дикая свирепость не по мне. Огастен слишком легко опьяняется кровью и в кровавом хмелю готов умертвить кого угодно. Это непростительная слабость: уж если пьешь дурманящий напиток, надо иметь ясную голову. Взять хоть это его последнее дело: забрался в дом, который вознамерился обчистить, и зарезал не только проснувшегося хозяина, но и его спящую жену. Бесполезное, чрезмерно жестокое и излишнее убийство. Женщин следует убивать, только если они кричат, да и то проще заткнуть им рот: если тебя схватят, судьи, по крайней мере, не сочтут тебя чудовищем.
– Ты у нас прямо-таки Иоанн Златоуст! – заметил Малартик. – На твои поучения не сразу и ответ подберешь. Однако что же теперь будет с бедняжкой Чикитой?..
Жакмен Лампур и его приятель продолжали рассуждать в том же духе, когда с набережной на площадь выкатилась карета, вызвав замешательство в толпе, которая становилась все гуще. Фыркающие лошади перешли на шаг, отдавливая копытами ноги самым нерасторопным; между зеваками и лакеями тут же вспыхнула ожесточенная перебранка.
Зрители, которым пришлось потесниться, разнесли бы карету, если б их не остановил герб с герцогской коронкой на ее дверцах. Впрочем, здешней публике и это обстоятельство не внушало особого трепета. Вскоре давка достигла такого предела, что карете пришлось окончательно остановиться посреди площади, и, если взглянуть издали, можно было подумать, что кучер на ее козлах восседает прямо на людских головах. Чтобы проложить дорогу через толпу, пришлось бы передавить немало черни, а эта самая чернь здесь, на Гревской площади, чувствовала себя как дома и не стерпела бы такого обращения.
– Эти проходимцы, верно, ожидают какой-то казни и не разойдутся до тех пор, пока приговоренный не отправится к праотцам, – заметил молодой, пышно разодетый красавец, обращаясь к сидевшему рядом с ним в карете молодому человеку, тоже весьма привлекательному, но одетому гораздо скромнее. – Черт бы побрал болвана, который надумал быть колесованным как раз в тот час, когда мы проезжаем здесь! Не мог он, что ли, подождать до завтра?!
– Думаю, что он ничего не имел бы против, – отозвался его спутник, – тем более что это обстоятельство для него куда печальнее, чем для нас с вами!
– Ничего не остается, дорогой барон, как просто отвернуться, если зрелище покажется нам уж слишком отвратительным. Впрочем, это не так-то просто, в особенности, когда рядом происходит что-то страшное. Взять хотя бы святого Августина: как твердо он ни решил держать глаза закрытыми в цирке, где звери терзали людей, а все-таки открыл их, заслышав вопли толпы.
– Как бы там ни было, а ждать уже недолго, – сказал Сигоньяк. – Взгляните, де Валломбрез: толпа расступилась – на телеге везут осужденного!
И в самом деле, телега, запряженная клячей, которой давным-давно было уготовано местечко на Монфоконе, и окруженная конной стражей, громыхая, приближалась к эшафоту между рядами зевак. На доске, брошенной поперек телеги, сидел Огастен, рядом с ним – седобородый монах-капуцин, державший у его губ медное распятие, отполированное поцелуями поколений преступников. Голова бандита была повязана платком, концы которого свисали с затылка. Рубаха из грубого холста и рваные саржевые штаны составляли все его одеяние. Столь скудный наряд объяснялся тем, что палач уже успел воспользоваться своим правом и завладел имуществом осужденного, справедливо рассудив, что для пытки и смерти вполне хватит и этих отрепьев. Издали казалось, что Огастена ничто не удерживает, но в действительности он был опутан множеством тонких и очень прочных веревок, конец которых находился в руках у палача. Подручный палача, сидя боком на оглобле, держал вожжи и погонял клячу.
– Боже правый! – внезапно воскликнул Сигоньяк. – Ведь это тот самый разбойник, который напал на нас во главе отряда соломенных чучел! Помните, я рассказывал вам эту историю, когда мы проезжали мимо того места, где она приключилась?
– Как же не помнить, – подтвердил де Валломбрез. – Я смеялся от души. Но, судя по результату, с тех пор этот малый занялся более серьезными делами. Однако держится он неплохо.
Сквозь темный загар Огастена проступила зеленоватая бледность. Он сидел неподвижно, но все время обводил взглядом толпу, словно разыскивая кого-то. Когда телега поравнялась с каменным крестом, он заметил висевшего на перекладине подростка, о котором мы уже упоминали. Глаза приговоренного вспыхнули радостью, на лице появилась улыбка. Он едва заметно кивнул – в этом кивке было, очевидно, и прощание, и напутствие, и вполголоса произнес только одно слово: «Чикита!»
– Что вы сказали, сын мой? – возмутился капуцин, воздев к небу распятие. – Мне послышалось женское имя: должно быть, так зовут какую-нибудь распутницу, а вам надлежит думать о спасении души, ибо вы стоите на пороге вечности!
– Мне это известно, отец мой! И хоть волосы мои еще темны, вы, несмотря на свою седую бороду, много моложе меня. С каждым оборотом колеса, приближающего эту телегу к эшафоту, я старею на десять лет…
– Огастен ведет себя недурно для малого из гасконской глуши. Не похоже, чтобы его смущала смерть на виду у столичной публики, – заметил Жакмен Лампур, расталкивая локтями ротозеев, чтобы пробраться поближе к помосту. – Вид у него не растерянный, и, не в пример многим, он не выглядит покойником раньше срока. Голова не трясется, держит он ее прямо и гордо. А самый верный признак – он не отводит взгляда от колеса. Уж поверьте моему опыту, он кончит жизнь достойно – не скуля, не барахтаясь, не обещая сознаться в чем угодно, лишь бы оттянуть время.
– Ну, на этот счет можно быть уверенным, – заявил Малартик. – Когда его пытали, то вогнали восемь игл под ногти, а он даже звука не издал и не выдал никого из сообщников.
Тем временем телега подкатила к помосту, и Огастен неторопливо поднялся по ступеням. Впереди него шел подручный палача, позади – монах-капуцин и сам палач. Стражники в считаные мгновения распластали обреченного и привязали к колесу. Палач сбросил свой алый плащ с белыми шнурами, засучил рукава и наклонился за железным брусом.
Близился роковой миг. Зрители затаили дыхание. Даже Лампур и Малартик перестали зубоскалить. Бренгенариль вынул из зубов трубку, а Тордгель пригорюнился, сознавая, что рано или поздно ему не миновать того же.
Внезапно толпа зашевелилась. Девочка, висевшая на кресте, ловко спрыгнула вниз, словно ящерица прошмыгнула между ногами зевак, добралась до помоста и в два прыжка одолела ступени, оказавшись на возвышении. Палач, уже занесший было железный брус для переламывания костей, застыл, увидев прямо перед собой бледное детское лицо, ослепительно прекрасное в своей неистовой решимости.
– Убирайся отсюда, щенок, – опомнившись, гаркнул заплечных дел мастер, – не то я раскрою́ твою голову этим брусом!
Но Чикита не обратила на него внимания: ей было все равно, убьют ее или нет. Склонившись над Огастеном, она поцеловала его в лоб, шепнула: «Я тебя люблю!» – и с быстротой молнии вонзила ему в сердце маленькую наваху – ту самую, которую вернула ей Изабелла. Удар был нанесен такой твердой и верной рукой, что смерть наступила почти мгновенно. Огастен успел только выдохнуть: «Благодарю тебя!»
«От укуса этой змеи не найдешь лекарства в аптеке», – пробормотала девочка, расхохоталась, словно безумная, и одним прыжком соскочила с помоста. Ошеломленный палач беспомощно опустил свой брус, ставший теперь бесполезным. Какой смысл крушить кости покойнику?
– Браво, Чикита! – не удержавшись, выкрикнул Малартик, узнавший девочку в обличье подростка-мальчишки. Лампур, Бренгенариль, Тордгель, Кольруле и прочие завсегдатаи «Коронованной редьки», восхищенные ее поступком, сбились плотной кучкой, преграждая путь погоне. Пока стражники препирались с ними и молотили кулаками, прорывая живой заслон, девочка успела добежать до кареты Валломбреза, стоявшей на углу площади. Схватившись за дверцу, она прыгнула на подножку, мгновенно узнала Сигоньяка и, задыхаясь, проговорила:
– Я спасла Изабеллу, теперь ты спаси меня!
Де Валломбрез, которого восхитила столь неожиданная развязка, крикнул кучеру:
– Гони во весь опор и, если надо, дави эту сволочь!
Но давить никого не пришлось: толпа мгновенно раздалась и тут же сомкнулась позади кареты, чтобы задержать преследователей, которые и без того не слишком усердствовали. Через несколько минут карета уже была у ворот Сент-Антуан, а поскольку отголоски события на Гревской площади сюда еще не донеслись, де Валломбрез велел кучеру ехать медленнее, ведь мчащийся экипаж всегда привлекает к себе внимание прохожих.
Как только предместье осталось позади, герцог распахнул дверцу и втащил девочку в карету. Чикита безмолвно опустилась на сиденье напротив Сигоньяка. Внешне она сохраняла спокойствие, но внутри все в ней дрожало от невероятного возбуждения. Единственными признаками этого были румянец на ее обычно бледных щеках и остановившиеся огромные глаза, устремленные в одну точку и горевшие каким-то почти сверхъестественным огнем.
В душе девочки творилось нечто невообразимое. То страшное усилие, которое потребовалось от нее, чтобы одним ударом ножа избавить от мучений единственного друга и защитника, как бы прорвало оболочку детства Чикиты и превратило ее во взрослую девушку. Вонзив нож в сердце Огастена, она одновременно вскрыла и собственное сердце. Смерть породила любовь, и это странное, почти бесполое существо, не то дитя, не то эльф, стало женщиной, чьей мгновенно вспыхнувшей страсти было суждено жить вечно. Поцелуй и вслед за ним – удар ножом. Только такой и могла быть эта любовь.
Карета между тем продолжала свой путь, и за гущей древесных крон уже виднелись высокие кровли замка Валломбрез. Молодой герцог обратился к Сигоньяку:
– Как только мы прибудем, я проведу вас в мои апартаменты. Вы сможете привести себя в порядок перед тем, как я официально представлю вас сестре. Она ничего не знает ни о цели моего путешествия, ни о том, что вы приедете вместе со мной. Надеюсь, этот сюрприз ее порадует. Опустите шторку с вашей стороны, чтобы вас преждевременно не заметили. Но как нам поступить с этим бесенком?
– Велите отвести меня к госпоже Изабелле, – вдруг проговорила Чикита, выходя из своего полузабытья. – Пусть она решит мою судьбу!
Карета с опущенными шторками въехала во внутренний двор замка. Де Валломбрез тут же взял барона под руку и увел его в свои покои, приказав одному из лакеев проводить девочку к графине де Линейль.
При неожиданном появлении девочки изумленная Изабелла отложила книгу, которую держала в руках, и вопросительно взглянула на нее. Чикита стояла молча и совершенно неподвижно, явно ожидая, пока лакей удалится. Затем она торжественно приблизилась к графине, взяла ее руку и произнесла:
– Мой нож пронзил сердце Огастена. У меня больше нет господина, а я должна кому-нибудь служить. Огастен мертв, а после него я больше всех люблю тебя: ты подарила мне ожерелье и поцеловала меня. Хочешь, чтобы я стала твоей рабой, собачонкой, твоим домашним духом? Только прикажи дать мне какую-нибудь черную тряпку, чтобы я могла носить траур по моей любви. Не беспокойся: я буду спать на твоем пороге и постараюсь не надоедать тебе. А когда я тебе понадоблюсь, только свистни – вот так – и я появлюсь. Договорились?
Вместо ответа Изабелла притянула Чикиту к себе, коснулась губами ее горячего лба и без лишних слов приняла эту душу, которая принесла себя ей в дар.
21
О, Гименей!
Изабелла, уже знакомая со странностями Чикиты, не стала ни о чем расспрашивать, решив выяснить все, когда та немного успокоится. Ей было ясно одно: за этим решением девочки скрывается какая-то жуткая тайна. Но она была стольким обязана бедной малышке, что считала своим долгом приютить ее без лишних слов.
Поручив Чикиту заботам горничной, Изабелла попыталась было снова приняться за чтение, но книга перестала ее интересовать. Пробежав глазами несколько страниц, она поняла, что ничего не понимает в прочитанном, и, заложив томик закладкой, бросила его на столик для рукоделия. Подперев рукой подбородок и глядя перед собой невидящим взором, девушка отдалась привычным мыслям.
«Что сталось с Сигоньяком? – вопрошала себя она. – Вспоминает ли он обо мне, любит ли меня по-прежнему? Должно быть, ему пришлось вернуться в свой жалкий замок. А поскольку он уверен, что мой брат умер, он не смеет тем или иным образом дать мне знать о себе. Несомненно, его удерживает именно это мнимое препятствие, иначе он постарался бы повидаться со мной или написал хотя бы несколько строк. А что, если его останавливает не это, а мысль о том, что я теперь богата? Или все-таки он позабыл меня? О нет! Это невозможно! Но мне следовало бы сообщить ему, что де Валломбрез оправился от раны и совершенно здоров, хотя девушке не пристало намекать возлюбленному, что она нетерпеливо ждет его возвращения… Иногда мне кажется, что уж лучше бы я осталась простой актрисой. Тогда мы могли бы видеться постоянно и я наслаждалась бы его любовью, оставаясь добродетельной и уверенной в его уважении… Ах, как ни радует меня трогательная привязанность отца, мне все равно грустно и одиноко в этом громадном замке! Если бы вернулся де Валломбрез, он смог бы немного отвлечь меня от этих мыслей, но брат все не едет, а я тщетно ломаю голову, пытаясь доискаться, что за смысл вкладывал он в слова, сказанные на прощанье: «До скорого свидания, сестрица! Думаю, вы останетесь мною довольны!..» Иногда мне кажется, что я все понимаю, но боюсь до конца додумать эту мысль – слишком горьким может оказаться разочарование. А вдруг это правда? Тогда бы я просто сошла с ума от счастья!..»
На этом месте мысли графини де Линейль – с нашей стороны было бы неучтиво называть просто Изабеллой дочь сиятельного принца – были прерваны рослым лакеем, который явился осведомиться, сможет ли ее светлость принять герцога де Валломбреза, только что вернувшегося из путешествия.
– Я жду его с радостью и нетерпением, – ответила графиня.
Прошло несколько минут – и молодой герцог легкой и уверенной походкой вступил в гостиную. На его лице играл здоровый румянец, глаза блестели живостью, и выглядел он не менее победоносно, чем до ранения. Бросив шляпу с плюмажем на первое подвернувшееся кресло, де Валломбрез взял руку сестры и почтительно поднес к губам.
– Дорогая Изабелла, я отсутствовал дольше, чем мне бы хотелось, ибо это серьезное испытание – так долго не видеть вас, не слышать вашего чудесного голоса. Но на протяжении всего путешествия меня утешала надежда, что эта разлука не напрасна, и я смогу в конце концов кое-чем вас порадовать!
– Больше всего меня порадовало бы, если б все это время вы оставались в замке рядом с вашим отцом и мною, – с улыбкой ответила Изабелла, – а не скитались бы неведомо где, когда ваша рана едва успела зажить!
– А разве я был ранен? – насмешливо удивился герцог. – Право, если я иногда и вспоминаю об этой царапине, то сама она ничем не напоминает о себе. Никогда еще я не чувствовал себя крепче и здоровее, и маленькая прогулка принесла мне большую пользу. От седла больше проку, чем от кушетки. А вот вы, милая сестрица, немного похудели и бледноваты. Должно быть, вам было здесь одиноко? Впрочем, удивляться нечему: замок наш – место не из веселых, да и одиночество вредно для молодых девиц. Чтение да рукоделие – занятия скучные, и бывают минуты, когда даже самые благонравные особы, наглядевшись из окна на зеленую ряску во рву, предпочли бы увидеть свежее лицо какого-нибудь молодого кавалера!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.