Текст книги "Стекло"
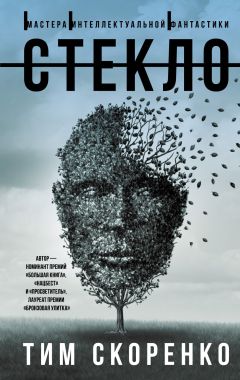
Автор книги: Тим Скоренко
Жанр: Героическая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Потом его привязали к столу – к такому же, какой совсем недавно стоял у него самого в подвале. Он лежал обнажённый, прикованный за руки и ноги, а над ним висело зеркало – он должен был видеть, что делает с ним человек в чёрной одежде с красным воротником. Урр до такого не додумался.
Что ты чувствуешь, спросил знакомый голос. Ничего, ответил Урр. Я изнасиловал и убил твою жену, что ты чувствуешь. Ничего, ответил Урр. Я изнасиловал и убил твоего сына, что ты чувствуешь. Ничего, ответил Урр. Я буду пытать тебя много дней и ночей, много месяцев, а если понадобится, и лет, что ты чувствуешь. Я ничего не чувствую, ответил Урр. Человек в чёрной одежде с красным воротником появился в поле зрения. В руке у него был скальпель. Ты не боишься? Нет, чего мне бояться. Тогда приступим. Давай.
И человек в чёрной одежде с красным воротником приступил. Он был поистине мастером. Тот, кого нанимал Урр, не годился ему и в подмётки. Человек умел причинять невероятную боль, ничего не повреждая и ни на секунду не приближая смерть жертвы. Эта пытка могла длиться часами, днями, неделями, месяцами, и она длилась, длилась, длилась. Урр молчал. Много раз человек в чёрной одежде с красным воротником говорил ему: вот вода с ядом, прими её, и всё закончится, но Урр выливал отравленную воду – и пытка продолжалась. Вечно причинять боль, не разрушая организм, нельзя, и с течением дней Урр терял части тела, кожу, органы; до последнего человек в чёрной одежде с красным воротником оставлял ему только глаза, уши, язык и правую руку – чтобы тот мог самостоятельно принять яд. Потом в дело пошла и правая рука. Теперь Урр был просто живым торсом, оскоплённым, лишённым конечностей, ушей, носа, скальпа; человек в чёрной одежде вставлял ему трубку в рот и говорил: тебе нужно просто втянуть воду, и всё закончится, больше не будет больно. Но Урр молчал.
Неизвестно сколько прошло времени. Может, полгода. Может, несколько лет. Урра уже, по сути, не существовало, вряд ли в нём сохранилась хотя бы толика рассудка. Человек в чёрной одежде с красным воротником понимал, что осталось немного, что в какой-то момент у него уже не получится поддерживать жизнь в организме Урра, да и смысла не будет – если тот не может сознательно принять решение и уйти в другие миры. В последний день человек в чёрной одежде с красным воротником просто сидел около Урра и молчал, а потом поднял голову, посмотрел на дело рук своих и сказал: ты удивил меня. Никто и никогда не мог меня удивить, а ты – удивил. Но я всё-таки хочу задать тебе один-единственный, самый последний вопрос. Мне не важен ответ, я хочу, чтобы ты перед смертью ответил на него сам себе. Ты потерял всё. Потерял своё имущество, семью, ты потерял себя. Но зачем? Это действительно было так важно? Ты действительно поставил принцип выше жизни тех, кого ты любил? Выше собственных чувств? Ты уверен, что всё это было не зря?
И только тут человек в чёрной одежде с красным воротником понял, что Урр мёртв. Он умер на слове «вопрос» и не услышал, о чём тот хотел его спросить. Он переиграл своего соперника и здесь.
Проводник замолчал. Алярин тоже не хотелось говорить, но она всё-таки спросила: что ты имел в виду. В чём мораль.
В том, что я не буду заставлять тебя, приказывать тебе, вынуждать тебя. Потому что у тебя хватит сил пролежать на пыточном столе столько же, сколько пролежал Урр. У тебя хватит сил отказаться от любого принуждения, возразить любому приказу. У тебя хватит сил на всё что угодно. Не только у тебя. Любой человек обладает неограниченным запасом воли, силы, выносливости, упрямства. Любой человек может вынести всё что угодно. Любой человек может сделать не тот выбор, которого от него ждут. Если человек под пытками говорит наконец правду, значит, он хотел сказать правду с самого начала, а пытки лишь устранили то, что ему мешало. Мы всегда поступаем так, как диктуют нам наши желания, наш разум, наше сердце. Мы никогда не идём на поводу, а если идём, значит, этот повод совпадает с естественным направлением нашего движения. Не бывает обстоятельств, при которых нельзя сделать другой выбор. Поэтому я не буду тебя принуждать. Я не буду тебя просить. Я не буду тебе даже советовать. И я не скажу тебе, что тебя ждёт, хотя знаю, потому что я знаю всё. Ты вольна делать то, что ты хочешь.
Алярин посмотрела на Стекло. Потом на Проводника. Потом снова на Стекло.
И протянула руку.
11. Хозяин
За Стеклянным Великаном – только один схрон, последний, огромный, как деревня, да он когда-то и был деревней, построили его давние, и Тыкулча помнит, как дерево ещё было живое, как собирались люди, сворачивались и уходили от зимы на юг, под лай собак, под свистящую мелодию ветра. Тыкулча маленький был ещё, крошечный, года четыре ему было, если годами считать, а не зимами, зимами как тут посчитаешь, коли зима одна да извечная, но он помнит, помнит, как мать берёт его в охапку и плюхает на сани, точно подушку какую, и Тыкулча смотрит назад, смотрит на чумы, которые тоже скручивают, не оставлять же их, летом в чём жить-то, а под зиму новое селение уж проплавили, уж заготовили, по оленьим схронам прошли, где надобно, мерзлоту выскоблили.
Великан тогда ещё был живой и оставался живым ещё много лет, даром что Тыкулча пошёл к нему снова, когда восемнадцать стукнуло, чтобы своё старое имя его корням оставить. Успел, оставил – на следующую зиму Великана поглотило Стекло, и имя Тыкулчи навсегда осталось там. А тогда в последний раз Тыкулча забрался наверх по его корявым ветвям, тронул каждую выщербинку, каждую зазубрину, прижался к нему щекой, холодному и шершавому, да прошептал: прощай, прощай, два раза, за своё старое имя и за своё новое имя.
Теперь он шёл к своему детству, к старому селу, к большому схрону, как ни называй. Белая равнина, ничего более, тут ещё никаких тебе проталин, никаких тебе зверей – они вернутся позже, выйдут из подземных нор, выползут из бесконечных галерей, и посреди стоят люди, стеклянные люди, как будто танцуют, кто – подняв руки к небу, кто – вытянув их в стороны, иные – сложив по швам, иные – склонив головы, иные – сидя, обхватив руками колени, будто собралась целая деревня на главной площади посудачить, вот торговка, вот нищий, вот глашатай. Только была это не деревня, а последнее место смерти. Те, кто хотел уйти сюда, кто мог сюда добраться, уходили и добирались.
Многих Тыкулча ещё помнил – старики, рождённые здесь, возвращались сюда. Многие годы они жили в новом месте, а потом собирались и шли – не для того, чтобы стать указателями, а для того, чтобы коснуться корней. Иные строили диковинные конструкции из снега, чтобы придать своим телам ту или иную форму, иные же просто садились или ложились на снег, чтобы замёрзнуть в естественном положении.
Были тут и скруты – те, кто коснулся Стекла раньше, чем умер. Они напоминали камни – стеклянные люди, свернувшиеся в клубки, сжавшиеся в ничто, в тлен, в пустоту. Каково это, думал иногда Тыкулча, каково коснуться Стекла – так страшно, но так притягательно. Когда он думал о собственной смерти, он хотел уйти именно так – не замёрзнуть, не заснуть в бескрайнем белом, а сжаться от боли, дёрнуться, сломаться, раскрошиться, почувствовать, как Стекло поглощает плоть, ох, Тыкулча, что же ты делаешь, разве можно думать о смерти в царстве смерти, молчи, молчи, ты ничего не говоришь, тогда и в мыслях молчи.
Вход в схрон поодаль, метрах в двадцати от последней фигуры, и Тыкулча идёт туда, он знает, где постучать, где подкопать, где дёрнуть, чтобы снег поднялся и обнажил дверь. Вот первая ступенька, она всегда в это время уже выступает, нетрудно найти, а дальше нащупать рычаг сбоку и нажать на него, налечь всем телом, сдвинуть подпорку – и снег обрушится куда-то во тьму, ну то есть не куда-то, а в отдельную камеру, там ещё полно места, хватит и на следующую весну, и через весну, – и появится дверь, расконопатить, разложить, и можно обустраивать перевалочный пункт для охотников.
Но что-то не так, что-то сломалось, изменилось, чует Тыкулча, чует носом, ртом, глазами, как-то всё неверно – и нога его вдруг проваливается через тонкий слой наста, никакой подпорки нет, снег так и сыпал прямо в схрон, рычаг поднят, а обратно его не вывернули, и незнамо сколько схрон холодило, всю зиму, а значит, он сейчас совсем негодный, не согреешься там, не проживёшь. Тыкулча вытаскивает ногу, обходит провал, находит ступеньки, протаптывает их; вот и дверь, но теперь её вручную раскапывать, благо снег мягкий, не слежавшийся, видимо, ссыпался вниз постоянно, не успевал застыть. Тыкулча копает, копает, в поклаже есть же лопатка, куда без неё, копает час и копает другой, и мышцы болят, и спина трещит, но что делать, не возвращаться же обратно, хотя это безопаснее, предыдущий схрон не так далеко, но вот неприятность: придётся же пройти мимо стеклянных людей, и так не хочется этого Тыкулче, так не хочется, что проще копать, чем смотреть назад. Да и в любом случае кто-то же должен расчистить, с этим же теперь жить.
Всё у него выходит, хотя не сказать что ладится, с трудом, через «не могу», и вот он уже расконопачивает щели, выдирает прослойки, стоп, кто это вообще законопатил вот так, не он, точно не он и не другой местный – плохо, неуклюже, неправильно, мороз точно пробирался через эти щели, зима была внутри, дотрагивалась до вещей, мебели, лапала запасы, веселилась, как ещё, а значит, если что металлическое внутри было, пиши пропало, рассыплется в порошок, и дерево раскрошится, и вообще непонятно, будет ли что внутри, кроме трухи и холодной грязи.
Дверь открывается, первый шлюз. Да, тут зима была, и не только она – кто-то прислонил к стене лопату, да так и оставил. Тыкулча трогает лопату, древко трещит и ломается, стальная часть раскалывается, как фарфор. Он распаковывает второй вход – нет, эта получше сделана, есть ещё надежда, может, и порядок внутри. Во втором шлюзе ничего и никого, и третья дверь, вот дрянь, просто же прикрыта, её вообще не закрывали, но как повезло – вторая спасла, не продралась зима через неё, не сожрала всё, что внутри. Внутри беспорядок – тут не один охотник, не какой-то опоздавший, а человека три-четыре жрали, мусорили, сидели, за раз в схроне столько редко бывает; Тыкулча читает следы, слышит замёрзшие слова, чует запах иного, хотя стоп, откуда запах-то, как ни конопать, как ни закрывай, всё равно придёт холод через каналы, через затворы, через лазы, и запах выветрит. И запах не человеческий, другой, и тут только он понимает, что это запах смерти, и вон она, лежит в углу, эта смерть, груда тряпья и то, что осталось от человека, на ней.
Тыкулча подходит. Больше всего он боится не того, что человек мёртв, а того, что человек жив, как тот, которого он однажды уже находил в схроне. Но нет, нет, это труп, он не пахнет уже, а так, шлейфом, как будто вокруг него разливается что-то тонкое и невидимое. Черт не разобрать, рот открыт, кожа облезла, череп торчит, зубы, тонкие кости ладони. Тыкулча поднимает руку мертвеца, отчего умер, не поймёшь, когда умер – тоже, ну как когда, недавно, неделю, месяц, два, три, четыре, сколько той зимы было. Может, от голода, хотя вряд ли – вон, ещё мешки на полках, там есть что пожрать, вяленка, не всё забрали гости, не всё разорили, да и не смогли бы, тут запасов на несколько зим должно быть. Может, от углёвки, гнус-то разносит, как укусит, так за три дня сгоришь.
Во что он одет, Тыкулча, посмотри внимательно, ты узнаёшь? Да, конечно, Тыкулча уже видел такое, это для людей с юга, для искателей приключений, надеваешь такую штуку и идёшь через зиму, через Стекло, в никуда, в пустоту. Они шли над деревней и мимо деревни, смотря по сезону, и все были в этих костюмах, и где-то там далеко в зиме они и оставались в своих тёплых доспехах, где-то там их забирал ледяной дракон, сжирал их плоть, крошил их кости, Тыкулча не знал, как и что с ними происходило, он придумал дракона, потому что видел подобных на картинках. Костюм выглядит целым, и Тыкулча аккуратно расстёгивает молнию, снимает его с мертвеца, стягивает, при этом тело разваливается, голова падает набок. Зачем тебе этот костюм, дружок, ты же не умеешь им пользоваться, да и презираешь его, да и повреждён он наверняка, иначе бы его не оставили, но это скорее ритуал: мертвеца нужно похоронить, оставить зиме, а значит, костюм не нужен, он – плата за похороны, монета в глазу, откуда этот образ, Тыкулча, ты же никогда не читал чужих мифов, а впрочем, неважно.
Под костюмом какое-то тряпьё, фу, гадость, перед смертью он обгадился, иначе как объяснить вот это вот всё, а впрочем, смерть оправдывает всё, мёртвому можно, что живому непозволительно. Тыкулча находит большой мешок – в таких хранят обычно сушёный лишайник, собирают же много, чтобы в еду добавлять, – и надевает на мертвеца, кряхтит, упаковывает, надо дотемна наружу вытащить, да ещё так положить, чтобы не мешал никому. Закончив, Тыкулча тянет, тянет мешок через двери – первую, вторую, третью, вытаскивает наверх, белым-бело, хотя ночь уже близко, и надо бы поторопиться. Тянет, тянет, тянет и дотягивает почти до стеклянных танцоров, кладёт рядом, переводит дух и вытряхивает из мешка, точнее, вытягивает мешок из-под тела, и вот оно лежит среди прозрачных скульптур, такое жалкое, облезлое, безымянное. Тыкулча подтягивает его к одной из фигур, поднимает мёртвую руку, кладёт на колено сидящего стеклянного человека, будто один мертвец решил поддержать другого, похлопать его по ноге, сказать, всё хорошо, брат, я с тобой, мы вместе, не грусти. Всё, сделано, дальше уже само – Стекло потянется по истлевшей плоти, покатится, будет ползти всё дальше, дальше, и уже будет два стеклянных мертвеца, а не один, полку вечных жителей последнего схрона прибудет.
Тыкулча идёт обратно в схрон. Что они там забыли, куда они шли и откуда, оставили они его на пути в ту сторону или в эту – нет никакого ответа на его вопросы, тишина и пустота вокруг. Надо уж завтра возвращаться, ждут его в деревне, не выходят, а если он не вернётся вовремя, то и весну пропустят, и на зиму запасов не сделают, и так море времени потерял, поесть да спать, что уж тут, только вот конопатить дверь придётся наново, старое никуда не годится, ну да это он умеет, как пить дать сделает. Да, работать тут и работать, всё не поспеет, и запасы нужно восполнять, но это уж не он, а охотники, его дело – рассказать, объяснить, предупредить. Какие-то припасы есть, на дальних полках вообще не трогали, а есть же ещё помещения, деревня вглубь уходит, под схрон ближних два десятка приспособили.
Тыкулча долго прибирается в главной комнате схрона: складывает разбросанные мешки, сметает мусор, проветривает, и лишь когда работать уже нельзя совсем, запаковывает двери. Снегосброс позже можно проверить, не сегодня и даже не завтра, раньше следующей зимы не понадобится. Потом Тыкулча ложится спать и видит сон о распятом на дереве человеке. Он видит, как человек забирается наверх в своём защитном костюме, садится на ветку и начинает раздеваться, снимает почти всё, и под конец уже дотрагивается до Стекла голыми руками, но как будто не чувствует боли, как будто ничего в нём не меняется, просто он принимает позу поудобнее, не висеть же в неудобной, и улыбается тем, кто ждёт внизу. Они смотрят и тоже улыбаются, а человек наверху постепенно превращается в Стекло, но при этом не чувствует боли, его не корёжит, он висит на дереве и смотрит то вниз, то куда-то за горизонт, и глаза – это последнее, что остаётся в нём живого, и в последний момент он игриво подмигивает. Тыкулча просыпается с твёрдым ощущением, что подмигнули ему.
Он встаёт, ест, осматривается напоследок и выходит из схрона. Пакует за собой первую дверь, слава богам, что холод не проник внутрь, пронесло, повезло, как не всегда бывает, потом вторую, и третью, тщательно всё делает, не как эти, заезжие. Идёт к стеклянным людям, смотрит на вчерашнего мертвеца, тот остекленел уже, прозрачный лежит, как и прочие. Ну и хорошо, достойное погребение, всё лучше, чем в схроне гнить, вонять да людей пугать. Тыкулча идёт прочь; самую последнюю стеклянную фигуру он чуть похлопывает по плечу, рука-то в двух перчатках да в верхонке, оно можно, и оставляет танцующих позади. Этот последний – Гив-ынкэв, давным-давно шаманом ещё в старой деревне был, а в новой всего зим пять прожил, да так и не приспособился. Он к Тыкулче всегда добр был, о делах расспрашивал, деревянного оленя как-то подарил. Тыкулча с ним всегда прощается, как крайний схрон позади оставляет.
Он минует Стеклянного Великана и старательно отводит взгляд – не хочет видеть, как человек в ветвях на него смотрит, мало ли что там в этих стеклянных глазах спрятано. Больше всего Тыкулча боится, что сон его вещий, какой у шаманов бывает, и один глаз у распятого и в самом деле закрыт, точно тот подмигивает; а ведь Тыкулча до сна и помыслить о таком не мог, и если правда это, если увидит он это сейчас, то сам себя испугается, даром что никого и ничего не боится. Так что проходит он, головы не поворачивая, и ползёт дальше в белое по одному ему известным ориентирам.
Так идёт он час, и другой, и третий, и вот скоро уже новый схрон, как вдруг вдали появляется тёмная точка – кто это в такую даль, кто это, помимо разведчика, в весну заглядывает, вот тут и страшно должно бы стать. Но Тыкулче не страшно, он своё уже отбоялся – что мертвецы ему, что смерть, ничто, а больше и бояться-то нечего. А точка тем временем приближается, и Тыкулча останавливается, всматривается – не идёт человек, а бежит навстречу какое-то животное, крупное, прямо-таки мчится, а, не просто животное, а всё-таки и человек тоже, собачья упряжка, кто это может быть такой, неужто сам сукиджэврэй чупчэ, Хозяин сендухи пожаловал, кто ещё может по ранней весне рассекать. Да он, он, родимый, вот едет навстречу, не быстро и не медленно, а так, как будто под себя землю подтягивает, а не вперёд по ней мчится.
Наконец доезжает до Тыкулчи, останавливает нарты, смотрит – большой, сильный, в меха запакованный, смотрит на него сверху вниз, не вставая, кивает. Тыкулча отвечает кивком, и Хозяин молвит: ну что, подвезти тебя, разведчик? Чай устал уже, а до деревни далеко топать. Знает Тыкулча, чем обернётся помощь от сукиджэврэй чупчэ принять, а и отказать не может, потому что оскорбить Хозяина страшнее, чем руку ему подать. Поехали, говорит и забирается потом на нарты, с трудом, необычные, высокие, а Хозяин протягивает ладонь, ласково так, точно другу, давай, мол, берись, что мучаешься, маленький ты мой. Тыкулча заваливается в тёплое и мягкое, чем у Хозяина дно-то выстлано, не поймёшь, потом раздаётся щелчок, и сани дёргаются, трогаются. Тыкулча молчит – Хозяин знает, куда ехать, куда двигаться, и наверняка ж по дороге в свою ярангу заедет, поесть-попить предложит, жён своих гостю на один день подарит, а то и не на один, тут уж как к себе расположишь.
Разум мутится у Тыкулчи в хозяйских нартах, ничего он не понимает, цель свою позабыл, будто снегом голова наполнена. Едут, потрясываются, Тыкулча выглядывает, но не знает, куда они едут, то ли домой, то ли ещё куда, никаких же ориентиров на такой скорости не разглядишь, ничего не нащупаешь, и как только Хозяин справляется, да он, видать, всё тут назубок знает, нюхом чует. Устал? – спрашивает Хозяин, и Тыкулча отвечает: да, устал, устал, потому что нельзя отвечать иначе, коли скажешь: не устал, Хозяин ответит: ну как не устал, так помоги мне править. А псы у Хозяина привередливые – не понравится, кто ими правит, разорвут на части, им же упряжь не острог. Поэтому устал, конечно, и Хозяин отвечает – ну что ж, отдохнуть нам тогда надо, заедем в мою ярангу, чаю попьём, это по дороге, оттуда день пути, не больше, довезу с ветерком. И Тыкулча молчит, ничего не отвечает, не благодарит и не возмущается, уж как сложилось, так и пойдёт. Едет себе и едет, и время незнамо как движется, может, минуту едет, а может, и много зим уж, и деревня заждалась его, и охотники поняли, что погиб разведчик, и вышли наружу.
Тем временем упряжка останавливается. Тыкулча выбирается, перед ним яранга – богатая, хорошая, прямо на снегу стоит, а вокруг ничего, никого, никакого Стекла, никаких указателей, белое ничего, тут бы он и погиб, если бы один остался, идти-то куда – неизвестно. Хозяин уже в ярангу заходит, разворачивается, рукой машет, мол, давай, что ты там стоишь, ждут тебя, гостя дорогого. Да, дорогого, какого ещё, мы все Хозяину дети малые, все сыны и дочери его, всех он нас любит, напоит-накормит, по голове погладит, по шапке надаёт.
Четыре жены у Хозяина, это Тыкулча хорошо знает – старая, средняя, молодая и совсем девочка, и одна из них ночью к гостю придёт, а уж какая – от везения зависит. Тыкулча заходит, и вправду, четыре женщины хлопочут вокруг, раздевают, разувают, ведут к очагу, сажают, плошку с опанэ в руки суют, строганину подкладывают, спину растирают. Клонит Тыкулчу в сон, глаза закрываются, он проваливается, но Хозяин мешает, говорит: не спи, Тыкулча, не спи, есть разговор к тебе, не просто так я тебя из сендухи забрал, хотя какая она сендуха уже, другой совсем стала, ушло всё, что было, и я уйду, никуда не денусь. Голос Хозяина не то чтобы громкий, но не слышать его невозможно, проникает как будто внутрь, прямо в голове звучит, на то он сукиджэврэй чупчэ, великий мёртвый и всегда живой.
Машет Хозяин рукой, и жёны исчезают, прячутся в иоронгах. Другая сендуха стала, говорит Хозяин, совсем другая. Была когда-то большая-большая, и были в ней и олени, и лисы, и песцы, и зайцы, и бараны, и птицы всякие, что куропатки, что совы, и реки с озёрами, и рыбы всякой множество, и травы, и кустарники, и всё это кормило-поило, обряжало и крышу над головой давало. А сейчас белая тьма, ничего вокруг, и хиреет всё, застывает, скатывается, и я тоже хирею и застываю. Раньше выйдешь в сендуху, развернёшься, разлетишься, и тучи разойдутся, и солнце загорится, и идут к тебе люди о всяком просить – кому охоты хорошей, кому жену красивую, кому здоровье богатырское. А теперича никто ни о чём не просит, никто не ходит, никто «спасибо» не говорит, точно все люди стеклянные, а не только мёртвые, и ты, Тыкулча, тоже стеклянный, сидишь тут, робеешь, слова не можешь вымолвить, а ведь помнишь ещё истории, помнишь ещё прадедов, которые ко мне за советом шли.
И ты вот думаешь, говорит Хозяин, что сейчас я тебя о чём-то просить буду, мол, иди Тыкулча да напомни обо мне охотникам, езжай да расскажи, кого видел, с кем беседовал, и все они на поклон ко мне потянутся, мясо да шкуры понесут. Но нет, не про это речь. Мне просто поговорить надобно, чтобы меня умный человек послушал, не всё же девкам душу изливать, глупые они, в рот смотрят, а ничего не смекают. А ты, Тыкулча, человек сталый, опытный, надёжный, много видел, много умеешь, а значит, и выслушать сможешь, и суждение своё сказать. Сможешь же? Тыкулча кивает, не очень уверенно, но всё же кивает. Ну вот, продолжает Хозяин, значит, на том и порешим, я тебе слово, а ты мне слух да ответ.
В мисочке насыпаны ягоды – омчатан, гит, иннамта – и Хозяин зачерпывает горсть, кладёт в рот, жуёт. А ты чего не берёшь, говорит Тыкулче, и тот послушно берёт несколько ягодок, а Хозяин посмеивается, посмеивается, хитро-хитро глаза щурит. Потом вдруг хмурится, стирает улыбку с лица и говорит: худо стало, Тыкулча, худо. Как Стекло с севера пошло, всё хуже и хуже. Раньше я всеми землями владел, отсюда и до самой большой воды, что летом, что зимой сендуху санями мерил, всех животных братьями считал, в каждом человеке сына или дочь видел. А сейчас едешь-едешь, и никого, только статуи стеклянные стоят. Раз не заметил, врезался в одну, нарты поломал, три дня потом домой добирался. Вижу, вижу, что удивлён, ну так чай я не облако, сквозь Стекло не проеду, потому и врезался, ну да речь не об этом. Речь о том, что раньше для меня границы никакой не было, а теперь – есть. Белое было, белое есть, белое впереди, а я ехать не могу, нарты стоят, собаки упираются. Что там такое, спрашиваю, а они мне: нельзя туда, нельзя. Ну да они глупые, собаки, я их стегаю, палкой охаживаю, а они стоят как влитые, ни шагу дальше.
Вот это меня и тревожит, Тыкулча, это и беспокоит. Нет места в сендухе, где мне ходу нет, хозяин я здесь, всё могу, всё умею, всё имею, а теперь не так это, значит, там – не сендуха уже, а что-то другое, что и мне неизвестно, а тебе и подавно. И ведь бросил я собак, сказал: паситесь пока здесь, и шаг ступил, и второй, а потом понял – и так не могу, не пускает, нет мне теперь хода к воде, только возвращаться. И я поехал было прочь, собрался уж, приготовился, собакам доброе слово сказал, как чую: приближается кто-то, далеко ещё, но сендуха, она мне шепчет, шепчет, всё знаю, всех вижу, а тут люди, но не такие, как ты, а другие люди, пришлые, из чужих краёв, и идут прямо на меня, ко мне, за мной. И смотрю я на них и думаю: подожду, посмотрю поближе, и сел ждать. Дня четыре они ещё шли, останавливались, говорили, молчали, хмурые, понурые, пустые какие-то, знаешь, вот ты полный, например, хотя ничего у тебя-то и нет – ни семьи, ни друзей, а всё равно полный, будь я абас, выпил бы до дна, а тут ничего нет, оболочки бредут, поживиться нечем, и только один полный из всех, причём чем полный – незнамо, ничего не могу разглядеть, непроглядная тьма внутри, уголь и дёготь.
И вот они всё ближе, ближе, и мне, Тыкулча, не по себе стало – никогда такого не было, тысячу зим живу и тысячу зим ничего подобного не чувствовал, а тут вдруг не по себе, и я спрятался, стою белый на белом, никто не учует, никто не увидит. А они идут, и идут, и мимо меня идут, один за другим, гуськом, в спины друг другу смотрят. И проходят через эту стену невидимую, точно и нет её, и идут дальше, а я вслед им смотрю: вон оно, вот, куда человек может войти, а я, Хозяин сендухи, – не могу, не могу.
И смотрю я им вслед, и вдруг первый останавливается, и прочие за ним. А он оборачивается и прямо на меня смотрит, и вдруг улыбается и руку поднимает, мол, здравствуй, прости, что сразу не приметил. Да ты вообще меня приметить не должен был, думаю я и не понимаю, помахать ему в ответ или стоять – белое на белом. Но пока я думал, он уже повернулся и снова пошёл вперёд, и прочие – за ним. Час, второй, третий, и вот нет их уже – пропали в пустоте, растворились в мареве.
Вот ты умный, Тыкулча, скажи мне, кто это был, куда они пошли, чего им надобно. Не знаю, отвечает Тыкулча, а что он ещё может сказать. Но они вернулись, добавляет он. Вернулись оттуда. Хозяин качает головой: я не видел, как они возвращались, ты уверен? Да, отвечает Тыкулча, я точно знаю. Я нашёл двоих – один мёртвый в схроне, второй привязан к стеклянному дереву, а значит – вернулись. Может, это ещё как туда шли, спрашивает Хозяин. Может и так, соглашается Тыкулча. Или нет, говорит Хозяин. Или нет, соглашается Тыкулча.
Они молчат, Хозяин жуёт ягоды, Тыкулча смотрит на огонь, уже потухающий в очаге. Видишь, говорит Хозяин, как выходит, вы, люди, просто уйдёте, кто на юг, кто на север, все дороги вам открыты, нет у вас ни цепей, ни пут. А я тут останусь – на юг не могу, на север тоже, и останется у меня пятачок снега, а после и его не останется, и не будет больше у сендухи Хозяина, да и самой сендухи не будет. И мне же не себя жалко, мне ничего, мою плоть разрезали и варили, кровью землю поливали, душу во тьме держали, мне ни один шаман не чета, я был, есть и буду, коли не здесь, так на небе. Мне жён жалко – куда они, к кому, как. Куда Окко-Эн пойдёт, её нежные руки и иглы вдеть в ушко не умеют, она для ублажения. Куда Вакат-Ваал пойдёт, она же холода боится и жары пугается, и небо ей давит, и земля её тянет, ей бы всё сидеть да вышивать, да чтобы тишина вокруг. Куда Ив-Нэвыт пойдёт, она, конечно, сильная, и сеть сплетёт, и рыбу поймает, и почистит, и сварит, но людей больно не любит, как видит человека, так прячется сразу, не хочет ни видеть, ни слышать, ни запах чуять. Ну а про Нынран и вовсе что сказать, старая она, её бы на покой, пусть себе на покрывалах лежит и трубку покуривает.
Это её время, говорит Тыкулча. Усмехается Хозяин в усы, качает головой. Кажется, что её, а на деле не её. Время Нынран – это когда снег метелью поднимает, когда ты в тёплой яранге сидишь, а снаружи стихия бушует, когда олени только и делают, что спят да ягель жуют, суровое время, но бурное, страшное, беспокойное. А нынешняя зима – это не время Нынран, это белая тьма, это тишина, какой быть не должно, и после неё не придёт время для Окко-Эн, и время для Вакат-Ваал, и время для Ив-Нэвыт. После неё ничего не придёт, всё закончится, закруглится, завершится. Не будет больше ни зимы, ни весны, ни лета, ни осени, ничего не будет.
Тыкулча молчит, нечего ему сказать, не хватает ему мудрости, он человек простой, всю жизнь в сендухе прожил, ничего, кроме снега да лишайников, не видел, да и не нужно ему ничего больше. Молчит и Хозяин, всё, видимо, сказал, нечего больше добавить. Встаёт, отходит от очага, зовёт: Ив-Нэвыт, Вакат-Ваал, убирайте еду, а потом к Тыкулче снова: ну пойдём, раз отдохнул, поедем домой. Встаёт Тыкулча, откуда ни возьмись появляются Окко-Эн и Нынран, весна и зима, молодая и старая, и одевают его, обряжают, а Хозяин – глядь, и одет уже, и не сам вроде одевался, и полуголый, в одной рубахе у огня сидел, а вот уже и к выходу готов.
Выходят они наружу, а там белым-бело, только собаки ждут, да олени торчащий из-под снега ягель объедают, да ковёр цветастый на снегу лежит присыпанный, видно, выбивал его кто из жён, чистил. Тыкулча оборачивается нерешительно, смотрит на хозяйских женщин, выстроились они рядом, глядят вслед. Машет им Тыкулча, чуть руку поднимает, и они машут, редко они гостей видят, редко теперь.
Забирайся, говорит Хозяин, и Тыкулча лезет в нарты. Хозяин поднимается следом и трогает. Нарты едут мягко, как по пуховой перине, Тыкулча сидит и смотрит назад, на ярангу, которая становится всё меньше, меньше, пока наконец окончательно не исчезает в белизне. Хозяин правит, правит, а потом говорит через плечо, не оборачиваясь: расскажи мне о сыне. О сыне? – переспрашивает Тыкулча. О сыне; я же тебе рассказал, так теперь и ты мне расскажи, а то молчишь, молчишь.
Он умер, говорит Тыкулча. Вот и расскажи, и сам заодно вспомнишь, какой он был, память – штука такая, не вспомнишь сейчас, забудешь навсегда. Он был совсем крошечный, отвечает Тыкулча. Говори, говори, подбадривает Хозяин. Зачем? – спрашивает Тыкулча. А ты попробуй, легче станет. Он… я не помню почти, я держал его на руках, и он плакал, и плакал, и плакал, ничего больше, я пытался его утихомирить, и свистел какую-то мелодию, не помню уже, и напевал, но он всё равно плакал, я никак не мог его успокоить, а потом возвращалась Анка-Ны и брала его, и он сразу замолкал, ему даже не надо было прикладываться к её груди, ему хватало просто вот этого внимания, материнских рук, а я ничего не мог, я ничего не умел, мне было семнадцать лет, я уходил прочь и я тоже плакал, но внутри, без слёз, потому что чувствовал, ничего, ничего не будет иначе, и даже страшнее: ничего, ничего не будет вообще, всё застит белым, и его, и меня, и Анка-Ны, всех нас. Он родился зимой, в самые морозы, обычно так не делают, младенец должен родиться весной, но мы были молодые идиоты, мы не считали месяцы, у нас получилось случайно, и вот он в середине зимы, когда мы все подтягиваем животы, а ему нужно молоко, только у Анка-Ны его мало, хорошо, есть ещё одна женщина, такая же дура, у неё хватает и на своего, и на нашего чуть-чуть, но ребёнку нужен воздух, и нужно солнце, и нужен ветер, а он видит только подземный схрон, лица в отблесках факелов, он дышит потом и смрадом, он пьёт отравленное молоко уставших матерей. И Анка-Ны говорит мне: я не хочу видеть, как он умрёт, я не хочу, но он умрёт, это все знают, я унесу его, и мы не увидим этого, и я знаю, о чём она, она хочет, чтобы он замёрз и стал Стеклом, она может выйти днём на несколько минут, оставить его, и всё, а весной мы найдём его там, где она его оставит, и положим в землю, продолбим ради него мерзлоту. И я разрешаю, я говорю: да, иди, иди, и моя мать говорит: да, иди, у вас будут другие дети, которые родятся весной и выживут, а этот обречён, у него нет жизни, и Анка-Ны ещё думает, а потом умирает тот, второй, на руках у другой женщины, и она рыдает, и её груди сочатся молоком, которое уже никого не спасёт. Анка-Ны идёт наверх, поднимается, мы все за ней, всё селение, она исчезает за дверью шлюза, и мы ждём, ждём, ждём, ждём её, а она не возвращается, и она не возвращается больше никогда.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































