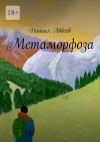Текст книги "Простая душа"

Автор книги: Вадим Бабенко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Они сели в безотказную «девятку» и медленно поехали по Московской. «Ну, как знаешь, – нарушил молчание Александр. – Только, если в клуб, то мне и надеть-то нечего».
«Зачем в клуб? – удивился Толян. – В клубе-то как раз контингент сомнительный, „спонсоров“ ищут, если по-вашему. На Проспект пойдем, там всяких хватает – подцепим каких-нибудь студенток. Проспект у нас не длинный, но многолюдный…» – он свернул направо, на улицу Чапаева, где уже убрали следы утренней катастрофы, посигналил зазевавшемуся велосипедисту и сказал бодро, притормозив у бордюра: – «Вот и приехали, вылезай».
На Проспекте, превращенном в пешеходную зону, вечерняя жизнь била ключом. Разодетые толпы фланировали из конца в конец, перемешиваясь, растекаясь по переулкам и вновь вливаясь в основной поток. Большую часть гуляющих составляли женщины – всех возрастов и на любой вкус. Фролов вдруг оживился и стал поглядывать по сторонам – с неожиданным для себя интересом.
Апатия почти прошла, ему вспомнилось, как в юности они с приятелем выходили на романтическую охоту, имея в руках авоську с муляжом рыбы-трески. Это называлось у них «ловля на рыбий хвост» и было чрезвычайно увлекательным делом. «Привет, мы из созвездия Рыб, нам срочно нужны еще две звезды», – обычно говорил разбитной приятель. Фраза действовала отменно, да и к тому же слова были не так важны – молодость и беспечный вид значили куда больше. «Рыбий хвост…» – пробормотал Александр с усмешкой, оглянулся вокруг и расправил плечи.
«Ты чего?» – спросил его Толян.
«Да вспомнил тут одну вещь, – Фролов вновь издал короткий смешок. – Мы, знаешь, весело развлекались в молодости», – и он изложил вкратце идею с муляжом, не вызвавшую у водителя воодушевления.
«Ну нет, здесь это не пойдет, – сказал тот с сомнением. – Очумеют, подумают – обкуренные или что. Уж лучше без рыбы, тем более, что и нет у нас рыбы, где ее тут взять?»
«Да я так, пошутил, – попытался оправдаться Александр. – Просто вспомнилось кстати».
«Ну да, – кивнул Толян, – вспомнилось, так вспомнилось. Только ты, знаешь, давай лучше молчком, для нас все же главное – результат. Или вот, еще лучше, на скамеечке посиди – я сам сговорюсь, а то до ночи бродить будем».
Фролов пожал плечами и сел на пустующую скамью, а его напарник растворился в толпе. Ждать «результата» пришлось недолго – через четверть часа Толян вернулся с двумя девицами. Они были молоды, держались скромно, но разглядывали Александра с откровенным любопытством. Одна из них, высокая и плотная, с коровьим телом и грустной полуулыбкой на губах, представилась Светой, а вторая, полная ей противоположность, маленькая, хрупкая и озорная, пропищала: – «Лик-ка», – будто споткнувшись на среднем «к». Фролов подумал, что Лика похожа на обезьянку из русских джунглей, где вместо бананов – кедровые шишки, а еще – что обе они, наверное, невыносимо глупы, но вскоре выяснилось, что это вовсе не так.
Девицы и впрямь оказались студентками – очень даже бойкими на язык. Они щебетали о ерунде, пока вся компания брела к началу проспекта, где ждали верные толяновские «Жигули». Фролов продолжал ловить на себе их взгляды, недоумевая, чем он обязан такому интересу, пока водитель, улучив момент, не шепнул ему на ухо: – «Ты не удивляйся. Я им наплел, что ты киношник из Москвы, вот они и зыркают».
Александр только хмыкнул, ему было все равно. Москва казалась далекой, как другая планета. Там, в той жизни, он мог быть кем угодно, сейчас это не имело значения. Он чувствовал, что этим вечером будет легко забыться и о многом забыть, что только и требовалось ему теперь, а всем прочим он был сыт по горло.
Дойдя до машины, девушки разом смолкли и потребовали уточнить план вечера. «Ну, какой план… – протянул Толян, хитро поглядывая на Свету. – У приятеля вот московского день рождения сегодня – отметить хотим, а вдвоем скучно. В этом и план, другого нет».
«День рождения!? – Лика повернулась к Фролову и сделала большие глаза. – Ой, ну мы тебя поздравляем от всего сердца. Только вот подарка не припасли…» – она переглянулась с подругой, и обе они захихикали.
«Зачем подарок? Вы сами лучший подарок!» – напыщенно произнес Толян.
Какая пошлость, – подумал Александр, передернувшись внутри, – просто-напросто мыльная опера, – но девицы восприняли заявление вполне благосклонно. По-видимому, знакомство развивалось успешно, и светский ритуал выдерживался по всем правилам. «Вы как вообще собирались, – деловито поинтересовалась Лика, – в кабак или на дому?»
«Да что кабак – там курят, выражаются, – осклабился Толян во весь рот. – Мы уж лучше по-домашнему: заедем, водочки возьмем, ну и шашлыка, помидоров…»
«Я водку не пью, – вдруг перебила его Света. – Мне белого вина!»
«А я шашлыка не ем, – поддержала ее подруга. – Мне птичьего молока! – И расхохоталась, увидев вытянувшееся лицо Толяна: – Да шутим мы, шутим – она еще и вас перепьет обоих».
На этом переговоры были закончены. Компания уселась в тесную «девятку» и понеслась задорно и лихо по разбитому асфальту сиволдайских улиц, взяв курс на восток, к спальному району-муравейнику, где водитель Толян проживал в однокомнатной квартире, доставшейся ему от бабки. По пути они заехали в только что отстроенный супермаркет, где разжились всем необходимым. Девушки отнеслись к покупкам вдумчиво и серьезно. Водки, по настоянию повеселевшей Светы, закупили побольше, добавив к ней еще и игристого вина, а вот шашлыка у надменных армян в палатке, приютившейся по соседству, решили много не брать. «Чтобы не обожраться, как свиньи», – строго произнесла Лика голосом школьной учительницы, и Фролов неожиданно расхохотался до слез, вызвав всеобщее удивление. Потом наступила очередь сладостей, а в самом конце – овощей и фруктов, причем Лика сразу схватила банан и стала его чистить ловкими движениями. Ну точно, мартышка, – подумал Александр с некоторым даже умилением, потом вспомнил о Елизавете, похищении и своем недавнем отчаянии, устыдился на миг, но тут же обо всем этом позабыл.
В подъезде блочной пятиэтажки ему очень хотелось зажать пальцами нос, чему мешали сумки с продуктами в обеих руках, но, к счастью, до третьего этажа они добрались быстро. Квартира, несмотря на странную планировку, оказалась вполне уютной, а совместный процесс приготовления пищи превратил всех четверых в закадычных друзей. Фролов отметил, что его водитель весьма обходителен со случайными подругами и отнюдь не выглядит женоненавистником, как показалось ему днем. Однако, раздумывать над этим фактом он не стал, посчитав его еще одним свидетельством своеобразия провинциальной жизни.
Потом, до поздней ночи, они ели, пьянствовали и пели песни. По случайности, Света с Ликой оказались солистками университетского хора, о чем и заявили с чуть наивной гордостью после нескольких первых рюмок. Фролов предложил им спеть – будучи уверен, что они откажутся, но девицы восприняли просьбу с энтузиазмом, и уговаривать их не пришлось.
«Тут у нас все поют, – махнул рукой Толян, уже несколько захмелевший. – Весь женский пол – чем ему еще себя проявить?»
«Так уж и нечем?» – вульгарно хохотнула Света, потом посмотрела на хрупкую подругу, та вздохнула, чуть склонила голову и начала негромко:
Степь да степь кругом,
путь далек лежит…
Голоса у них и впрямь были на удивление хороши. Александр быстро размяк – и от водки, и от печальных песен – а Толян хорохорился поначалу, строя из себя сурового типа, и поглядывал на певиц снисходительно и насмешливо. Вскоре впрочем и он расчувствовался – едва ли не вытирал глаза и даже пытался дирижировать вилкой, а когда подруги вышли покурить на балкон, придвинулся к Фролову и зашептал с чувством: – «Вот же поют девчонки, а нам-то все – лишь бы их трахнуть. А они красавицы, и греха в них нет…»
Потом они опять ели, еще больше пили и пели снова и снова – уже вчетвером. Ни Александр, ни Толян не могли удержаться, хоть их пьяный вокал оставлял желать лучшего. Девушки, впрочем, не возражали; они сидели с распущенными волосами, как вакханки в языческом лесу. Глаза их пылали, словно угли, а лица, казалось, сделались старше и строже, будто часть жизни ушла в песню или в пространство за тысячи миль отсюда.
Извела меня кручина
подколодная змея… —
выводили они, глядя в темное окно, и Толян подхватывал, чуть не всхлипывая от наплыва чувств: —
догорай, моя лучина… —
и даже Фролов вспоминал вдруг давно забытые слова и вступал хриплым фальцетом, хоть до того не пел никогда и нигде.
Жрицы-вакханки двоились у него в зрачках, расплывались, делались многолики. Он видел в них молодое, девичье, и будущее, бабье, и даже старушечье – с чистой строгостью выстраданной печали. Они были не здесь – далеко отсюда; они были не вместе – их разлучали расстояния, привычные для этих мест. Но песня связывала воедино: казалось, что теперь никто не может остаться непричастным – и при том каждый был непричастен, сам по себе, одинок. Даже умереть было не страшно – все равно, что отойти в сторону, с глаз долой. Отойти, опустить веки и вспомнить все то же: даль, бесконечность…
В голове у Александра спуталось и смешалось, он забыл, где он и зачем. Он даже не заметил, как на столе вместо водочных бутылок появился большой чайник, и исчезли тарелки с остатками мяса. Все были пьяны и преисполнены любви друг к другу. Толян сидел, подперев рукой щеку, девушки прижались одна к другой, полуобнявшись и сблизившись головами.
А про ямщика знаете? – спросил у них Александр заплетающимся языком, и водитель, будто очнувшись, поддержал его: – «Да, эту-то знаешь, Светка?» Та лишь степенно кивнула, потрепала подругу по спине и начала низким сильным голосом:
Как грустно, туманно кругом…
Лика обернулась к ней и поддержала с надрывом:
тосклив, безотраден мой путь… —
а потом и Толян с Фроловым, насупившись и посуровев, стали подтягивать немного не в такт. Так, все вместе, они допели до конца главную песню российских дорожных хлябей – и замолчали, и стало ясно, что вечер сам собой подошел к концу.
«Ну чего, – Толян тяжело поднялся и поглядел на Александра, – простыни вон, в шкафу. Тебе, как гостю, хозяйская кровать, а мы со Светланой, светом моих очей, уж как-нибудь в кухне, на диване. Пошли, королева», – сказал он Свете, и та, не споря, поплыла вперед, гордая, как пава.
Миниатюрная Лика посмотрела на Фролова откровенно и с вызовом. «Это не обязательно, – сказал он быстро, смутившись чего-то, несмотря на водку. – Если хочешь, можем вообще в одежде лечь».
«Я тебе нравлюсь?» – спросила она чуть напряженным голосом.
«Конечно», – ответил он совершенно искренне.
«Тогда выключи свет, – Лика встала из-за стола, подошла к окну и раздвинула шторы. – Там, смотри, на горе какие-то огни – так красиво… А в одежде я не сплю, она от этого мнется».
Потом они сидели в полумраке, и он гладил ее по голове, впервые за последнюю неделю чувствуя, что ему хорошо. Свет фонарей с улицы позволял видеть немногое, лишь контуры предметов и странную улыбку у нее на лице – словно срисованную со старинной картины. Потом она сама затащила его в постель – заявив, что пора уже и расслабиться. Фролов был сильно пьян и помнил немногое: только ту же ее улыбку в зыбких уличных бликах и повадку резвого зверька, ищущего ласки. А еще, в какой-то момент, она уперлась ему в грудь маленькими ступнями, вся исказилась лицом и стала вдруг похожа на японскую обезьянку Нихон-дзару, непонятно как очутившуюся в пыльных российских степях.
Глава 22
Александра разбудил солнечный луч, как бывает в безмятежном детстве. Какое-то время он морщился и чмокал губами, потом смирился и открыл глаза. Подушка с ним рядом пустовала, пусто было и в комнате, и будто во всем мире. Исчезли и Лика, и все остальные; в воздухе витал дух операционной или, быть может, стерильной палаты – стеклянного шкафа с инструментами пыток, казенной кровати, к которой он был пристегнут широкими брезентовыми ремнями…
Фролов глубоко вздохнул, собрался с силами и сел. Вчерашнее тут же дало о себе знать: в ушах зазвенело, а в голове набухла ватная тяжесть. Он терпеливо переждал первые, самые неприятные минуты, потом осторожно потянулся и обвел глазами комнату. Его и впрямь оставили одного, но обстановка кругом была обыденной и мирной. От пиршества не осталось и следа – очевидно, об этом позаботились какие-то гномы или феи. Александр еще покрутил носом, принюхиваясь к запахам, в которых вновь, как и вчера, ему почудилось что-то французское, потом откашлялся и произнес вслух: – «Да, неплохо…» Взгляд его упал на собственную одежду, в беспорядке разбросанную у кровати. Он вспомнил маленькую любовницу, похожую на мартышку, подумал с некоторой грустью, что едва ли они встретятся еще когда-то, и тут же застонал, пронзенный мыслью о Елизавете, находящейся в руках бандитов, своем бездействии и пьяном свинстве.
«Скотина!» – выругал он себя и принялся поспешно одеваться, больше не обращая внимания на звон в ушах и головную боль. Натянув джинсы и рубашку, он прикрыл одеялом затейливо измятую постель, еще раз сокрушенно вздохнул и поспешил на кухню.
Компаньон лежал на боку, подложив ладонь под щеку, и заливисто, самозабвенно храпел. Фролов мельком глянул на его мощное плечо, украшенное татуировкой «КИСА», и сказал хрипло: – «Слышь, Толян, давай просыпайся». К словам тот оказался безнадежно глух, пришлось тряхнуть его раз и другой, прежде чем храп сменился недовольным брюзжанием, а потом и вялым, но осмысленным вопросом: – «Времени сколько, земляк?»
«Полдевятого уже, – сказал Александр нервно. – Давай, вставай, звонить пора».
Толян перевернулся на спину, потер кулаками глаза и сообщил в пространство: – «Башка болит – очуметь. Ну, мы вчера дали…»
Фролов беспокойно зашагал по кухне, потом схватил чайник и стал наполнять его водой из-под крана. «Рано ты меня поднял, – пожаловался Толян ему в спину. – Ни черта еще не случилось, помяни мое слово. Сначала девки разбудили – практика у них ни свет, ни заря – потом ты… Я им, кстати, дал по пятьсот, на такси и на кофе».
Александр молча порылся в кармане, потом сходил в комнату, разыскал свою сумку и протянул водителю деньги. «На вот, тут за девчонок и тебе за вчерашний день, а теперь – давай, звони милиционерше», – сказал он сухо и стал разжигать непослушную конфорку. Толян поворчал еще немного, затем прошлепал босыми ногами в ванную и только после этого взялся наконец за телефон.
Разговор получился трудным. К мобильному следователя Никитиной неожиданно подошел ее муж, был невежлив и дерзок, выспросил язвительно, кто, от кого и по какому вопросу, и лишь после этого дал трубку Валентине, которая первым делом отругала Толяна за слишком ранний звонок. Потом она сменила-таки гнев на милость и сообщила, что хозяин катера пришел в себя, во всем сознался и готов сотрудничать в полной мере. Так что, все идет как нужно, скоро прибудет подкрепление из ОМОНа, и ее саму вот-вот заберет машина, хоть руководить всем делом возможно достанется и не ей – тут у Никитиной в голосе прозвучала явная обида.
«Может и мы подскочим? – осторожно поинтересовался Толян. – Все равно, мы уже в курсе».
Валентина лишь хмыкнула в ответ свое привычное: – «Обалдел?» – потом вздохнула и добавила: – «Ладно, передай своему московскому, что заложников, если живы до сих пор, сразу к Волжскому отделению повезем, что на главной пристани, у Речного. Туда и подтягивайтесь…» – и оборвала разговор, даже как следует не попрощавшись.
«Ну и достался ей фрукт, Отелло хренов», – пробурчал Толян, в сердцах швырнув телефонную трубку на стол.
«Что там?» – спросил Александр нетерпеливо, переминаясь с ноги на ногу.
«Кино и немцы, – вздохнул водитель. – ОМОН и начальство всякое. У Вальки, похоже, отберут лакомый кусочек. В общем, слушай, скоро поплывут за твоей ненаглядной…»
Он быстро и толково пересказал Фролову всю беседу и категорически помотал головой на его поспешное «Едем!». «Некуда нам ехать, рано еще, – заявил он непреклонно. – Начальница наша, и та еще, видишь, с хахалем своим. А вон и дождь – что мы, дураки, на пристани мокнуть?»
Действительно, утреннее солнце скрылось за тучами, небо сделалось серым и низким, и по оконному карнизу застучали частые капли. На кухне потемнело, и на душе у Александра стало муторно и тоскливо. Вчерашняя слежка и бандиты с пистолетами, пьяная ночь и песни, Лика, которую он теперь помнил плохо, и ее жадные ласки – все смешалось в фантасмагорический спектакль, придуманный будто им самим в том же пьяном угаре. К Елизавете он испытывал жалость, смешанную с обидой, а к себе – презрение и злобу, как к бездарному режиссеру, взявшемуся не за свое дело. Скорее бы все кончилось, – подумал он раздраженно и стал разливать по чашкам остатки чая.
Они позавтракали без всякого аппетита, и через час уже садились в многострадальную «девятку», причем Фролов держал в руках мощный полевой бинокль, который Толян, покряхтев, отыскал в недрах платяного шкафа. Дождь к тому времени разошелся вовсю, на асфальте появились лужи, а лобовое стекло тут же запотело.
«Оно и видно, – пробурчал водитель, – дурной день. Ночь и та была лучше, ты как считаешь?»
Александр глянул на него удрученно и ничего не ответил.
Прошедшая ночь показалась хорошей далеко не всем. Для пленников, заточенных на острове в волжских плавнях, она выдалась тревожной и очень долгой.
После слез Елизаветы говорить никому не хотелось. Каждый прилег в своем углу, и наступила тишина, нарушаемая лишь звуками ночного леса и вечно бодрствующей реки. Сны заложников были беспокойны, но никто не ворочался и не стонал, словно не желая выдавать свое присутствие в спасительной тьме.
Фрэнк Уайт Джуниор видел во сне китайскую девушку Ли Чунь – ту самую, что сказала ему когда-то о тривиальности его звезды. Они познакомились в классе по астрономии, потом пошли вместе на студенческое парти, и вскоре она стала его подругой, проявив благосклонность в отличие от белых американок. Их сблизила тяга к звездному небу; именно об этом они и говорили, оставаясь наедине. Под влиянием Ли он заинтересовался трудами древних китайцев, не знавших телескопов, но создавших тем не менее стройные схемы мироустройства – особенно в учении И Цзин и классической Книге Перемен. Фрэнк даже запомнил, как звучат по-китайски двенадцать гексограмм солнечного цикла, восхитившие его своими названиями, в которых, впрочем, крылись загадки. Он вполне понял гексограмму Трудное Начало, но имел проблемы с отличием финальных Цзи-цзи и Вэй-цзи, которые переводились в книжках как Уже Конец и Еще Не Конец, причем вторая следовала за первой. Именно на этом месте его занятия оборвались, и интерес к китайской астрологии угас – вместе с интересом к лунноликой Ли Чунь, в общении с которой он ощущал все же некоторый избыток духовного начала.
Во сне она командовала им властно и строго, заставляя делать нелепые вещи, а он не мог противиться, ибо у нее за поясом красовался огромный кривой кинжал. Он резко контрастировал с одеянием траура – белоснежного цвета, как принято в Китае – это было красиво и он, зачарованный, не мог отвести от девушки глаз. Сон был многолюден, где-то на заднем плане мелькали и Нильва, и злобный инвалид у церковных ворот, и даже Аксел Тимуров, поседевший и обрюзгший, почему-то с рогатым шлемом на голове. Но все они мало значили и были, в общем, бесплотны – главными оставались Ли Чунь и ее клинок.
«Смерть – это хорошо, – говорила она, наступив ему на грудь изящной ножкой в белом сапоге. – Если вас убьют, ты замолвишь за меня слово перед Юйхуаном, Властителем неба!» Спорить с ней у Уайта не поворачивался язык, хоть ум его работал ясно, и он помнил все, случившееся наяву: неудачу с кладом, внезапное похищение, а самое главное – что в Москве его ждет черноволосая Ольга.
Фрэнк чувствовал себя виноватым – и перед Ольгой, и перед кровожадной китаянкой, но более всего перед армией нищих русских математиков, хоть их и не было в его сне. Много раз ему хотелось проснуться, но вязкое сновидение не отпускало. Порой он пробовал заплакать, но под веками не было слез. А мучительница с кинжалом улыбалась коварной улыбкой, словно говоря ему: – «Вэй-цзи, Еще не конец», – но конечно же лукавя при этом, как и все женщины, которых он знал.
В отличие от Фрэнка, Николай Крамской провел большую часть ночи с открытыми глазами. Он глядел в потолок и думал попеременно о странностях совпадений, капризной удаче и безмерном равнодушии высших сил. При этом, его мысли, отвлекаясь от абстракций, обращались то и дело к вещам конкретным, практически бытовым. Он с тоской вспоминал московскую квартиру, парочку любимых ресторанов и их лучших блюд – например, филе корейки или запеченную утку. Опасность обострила все его чувства и особенно – желание жизни и тот вкус к ней, который он успел в себе развить за последние годы. Столица была желанна и безмерно далека, но, думая о ней, Николай тут же укорял себя за то, что обленился и давно не выбирался в другие страны, погрязнув в заботах мелкого бизнесмена.
Как было бы хорошо улететь подальше, бросив все – в Патагонию или на Фиджи, или, допустим, в чилийские Кордильеры. Что держит его в родном городе, кроме свиной корейки и пары-тройки привычек? Мир гораздо больше, чем несколько загазованных улиц – ему ли об этом не знать? От бизнеса, признаться, не так уж много прока, он едва ли хоть чем-то питает душу, а тут – новые впечатления, желания, женщины… Или еще вариант – почему бы не взять с собой Жанну, никогда не бывавшую даже в Европе? Сколько будет восторгов и новых эмоций – у нее, но заодно и у него. Сколько можно ей рассказать и показать, как выигрышно будет он смотреться и как вырастет в ее глазах… Тут определенно что-то есть, как ему раньше не приходило это в голову? – И Крамской стал увлеченно прикидывать выгоды совместного путешествия, даже позабыв на время об опасности и страхах.
Потом ему вспомнился самоуверенный Пугин, наверняка считающий свой заказ средоточием его, Николая, чаяний и дум. Сейчас это показалось столь нелепым, что Крамской чуть не фыркнул в голос – и наверняка бы фыркнул, да еще б и выругался покрепче, если бы был один. Ему стало еще очевидней, что он давно уже перегибает палку, стараясь доказать себе и другим что-то, вовсе недоказуемое, да еще и не значащее многого – в первую очередь для него самого. К тому же, и мироздание могло наконец обидеться: ему дали деньги, а вместе с ними независимость и свободу, и он не должен делать вид, что не замечает этого порой. Вставать в угодливую позу имеют право лишь те, у кого нет выбора, а у него, Крамского, выбор есть – так нужно выбрать наконец и следовать выбранному всегда. А то ведь деньги могут и отобрать – страшнее кары, право, нельзя придумать. Его провинность пока еще невелика, но высшая сила горазда лупить из пушек – лишь только заметит шевеление в кустах…
Николай неслышно вздыхал и считал до ста, чтобы отвлечься. Порой он проваливался в дремоту – сновидений не было, его лишь окутывал вязкий дурман, как туман на болоте, стелющийся над мхом. Небо, которого не было видно, давило ему на грудь. Причины и следствия, рожденные в слепых вихрях, вовлекали в водоворот, как в центр воронки, путь из которой – в бездну. Леса и степи, река и бескрайние земли кругом – все они таили энергию равнодушия, познать которую значило сделать очень опасный шаг. Крамской просыпался в испарине, сердце его стучало и отдавало в виски, и сразу накатывала тревога, а за ней – липкий страх за свою участь. Он лежал, не шевелясь, прислушиваясь к заоконным шорохам, а потом вновь заставлял себя размышлять – о чем угодно, лишь бы убить время: о Пугачеве, о Жанне Чижик или о странной паре, Елизавете с Тимофеем, так не похожих на жениха и невесту.
Странная пара, тем временем, являла собой образец гармонии, расположившись на самом большом из диванов. Елизавета, поплакав вдоволь, крепко спала, устроившись головой на коленях у Царькова. Хорошего ей не снилось – в воображении рождались лишь злодейства и погони. Местность, правда, была нездешней, и ни один из бандитов, захвативших их в плен, не попал в бурные сновидения. Однако и Тимофея в них не было тоже, что служило главной причиной ее ночной тревоги. Не в силах проснуться, она шевелилась беспокойно и цеплялась за его одежду, словно пытаясь убедиться в его безусловном присутствии. Он тогда обнимал ее крепче, и Елизавета затихала, но и в новых грезах ему не находилось места, она была одна и спасалась от напастей в одиночку, порой вздрагивая всем телом.
Страх, впрочем, не мучал ее больше – он исчез вместе со слезами. Она помнила недавнюю слабость, не стыдясь, понимая будто, что теперь она стала сильней и уже не будет прежней. Тимофея не было в ее снах, но она знала, во сне и наяву, что они с ним близки и сражаются бок о бок. Просто он, наверное, отлучился на время – может он ищет ее в других краях, может ему мешают и держат взаперти?
Ей хотелось рваться куда-то с ним вместе, преодолевать, жертвовать, побеждать. В этом был смысл – обретенный недавно – и за этот смысл она тоже цеплялась, как за одежду Царькова. Нет, он не оставит ее, не бросит, как Пугачев Евдокию-Машу. Да и вообще, он не черный демон, и она не хозяйская дочь. Зачем вообще этот Крамской со шрамом рассказывал свои сказки? Ей нет дела ни до Пугачева, ни до самого Крамского – неважно, художника или непонятно кого. Она здесь потому, что они неразлучны – она и Тимофей. Это вполне оправдывает происходящее; даже опасность, хоть и реальна, но все же эфемерна до поры, а он – вот он, рядом, ни в какой эфемерности его не заподозришь.
Что же касается Царькова, он, как и Николай, почти не сомкнул глаз. Мозг его работал лихорадочно и без пауз, как большая вычислительная машина. В отличие от Лизы, он понимал прекрасно всю серьезность нависшей над ними угрозы. Собственная участь занимала его больше всего, но и судьбы прочих, втянутых в историю по его вине, тоже были ему не безразличны. Порой он скашивал зрачки на Елизавету и тихо, сокрушенно вздыхал. Все же остальное время его одолевал лишь один вопрос: «Кто?»
Вновь и вновь он прокручивал в голове свои комбинации и схемы, вспоминал заказчиков и разговоры с ними – до мельчайших деталей, оборотов речи. Прикрывая веки, он видел, будто воочию, всю свою взыскательную клиентуру – череду самодовольных лиц, походящих, как правило, на свиные рыла или вытянутые хорьковые морды. Когда-то, помнится, он удивлялся, что такие люди значатся теперь в авангарде, превратившись в новых хозяев жизни. Во времена его московской юности их трудно было представить ходящими по улицам открыто. Потом улицы стали ими полны, а после они вновь исчезли с тротуаров, переместившись в просторные офисы и шикарные авто. Царьков научился вести с ними дела, но всегда был настороже, чувствуя свою чужеродность, и теперь вспоминал подробности каждой из операций в тщетном поиске намека на сегодняшний, ни на что не похожий инцидент.
Помимо клиентов, он перебирал в памяти и почти случайных людей, чьи интересы могли быть ущемлены или не приняты в расчет. Звено за звеном, он прослеживал цепочки исполнителей, пытаясь угадать, кто из них мог бы решиться на внезапную наглость и потянуть одеяло на себя. Это был утомительный процесс; к тому же, мысли его сбивались с одного на другое: с местных латифундистов на пивоваров из Самары, с наглых чиновников, очумевших от вседозволенности, на украинские фирмы-однодневки или прибалтийские банки, не чуравшиеся беспредела, несмотря на европейские паспорта. Порой он думал даже о своих сотрудниках, подобранных тщательно и с умом, выдернутых из трясины полунищей жизни, отчищенных, накормленных, обогретых. Каждый из них являл собой незначимую мелочь, но Тимофей знал, сколько неожиданностей кроется порой в мелочах. Их тоже стоило опасаться – кое-кто, проверенный и надежный, мог сойтись с опасными людьми и раскрыться совсем по-другому.
Словом, подумать было о чем. Личные дела – поспешная свадьба, да и весь эпизод с влюбленной Майей, что занимал его целиком последние недели – вовсе вылетели из головы. Новая опасность была непосредственней и реальней, в первую очередь следовало озаботиться ею. Однако, мучительные раздумья ни к чему не приводили: Царьков чувствовал, что движется по кругу. Исходных данных было слишком мало – и никакая дедукция не могла помочь. Ясно было только одно: что-то важнейшее вышло из-под контроля. Поэтому, в сотый раз повторял себе Тимофей, если только удастся вырваться отсюда живым, первым же делом он отправится к «покровителю» и будет иметь с ним обстоятельный разговор.
«Покровитель», при этом, лежал в тесном морге, пристроенном к медицинскому корпусу Николаевского университета, но Царьков об этом конечно же не знал. Вообще, это событие сразу обрело стратегический характер: информацией о нем располагали лишь избранные люди, изо всех сил старавшиеся не выпускать ее наружу. Одним из таковых был полковник Нестеров, начальник Кировского РУВД, напряженно размышлявший, вместе со всеми посвященными, что значит эта неприятность в смысле расстановки сил, кто выиграет от передела территории, и вообще, как теперь быть, с кем работать и на кого ставить.
Ближайшее будущее представлялось ему невеселым. Связям, налаженным за многие годы, угрожала серьезная девальвация, иные из мелких грешков вполне могли выплыть наружу, и потому глава районной милиции пребывал в состоянии нервозном и желчном. Даже эпизод с похищением, отдававший несколько фантастическим душком, не казался на этом фоне таким уж важным. Вечером в понедельник он выслушал Валентину и ее начальницу-майоршу с непроницаемым выражением лица, тут же договорился об усилении их группы шестью бойцами местного ОМОНа и на этом посчитал задачу выполненной – пока события не прояснятся и не вмешается пресса. Однако, утром дождливого вторника ему доложили, что джип заложников, обнаруженный на загородном шоссе, принадлежит Тимофею Царькову. Нестеров знал о нем достаточно, чтобы связать его с «покровителем», внезапно отправившемся на тот свет. Ситуация заиграла новыми гранями – два громких дела произошли в одно и то же время, что конечно же не могло не насторожить.
Чутье подсказывало полковнику, что автомобильная авария – не более, чем случайность, но он тем не менее распорядился выставить охрану в больничной палате, где приходил в себя шофер покореженного Мерседеса, строго-настрого запретив доступ к нему как посторонним, так и ближайшим родственникам. Потом, подумав с минуту, он вызвал своего заместителя, румяного здоровяка Аленичкина, и спросил угрюмо: – «Слышь, Михаил, ты вроде в друганах с этим, Царьковым, который у нас бабки чистит? У него же, кажется, Петрович, в которого вчера грузовик въехал, кем-то навроде кума?»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.