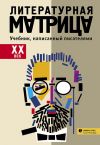Автор книги: Вадим Левенталь
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
При этом под «искусством» автор диссертации чаще всего понимает не столько перечисляемые им самим классические произведения, сколько изрядно идеализированную – и в равной мере бесполезную – концепцию более или менее старательного и правдоподобного подражания реальности, а под «действительностью» – самые непосредственные впечатления, вызванные этой реальностью, совершенно забывая о том, что сами эти впечатления чаще всего и формируются в полном соответствии с господствующей на тот или иной исторический момент эстетикой. Все возражения, связанные с этим сложным взаимодействием природы и культуры в человеческом восприятии, Чернышевский пытается предупредить сообщением о том, что «отвлеченные, общие мысли не входят в область жизни». С абсолютной наивностью дилетанта лучшими художественными произведениями Чернышевский объявляет те, которые наиболее непосредственно связаны с авторской биографией. «Вообще, – пишет он, – чем более нам известно о характере поэта, о его жизни, о лицах, с которыми он сталкивался, тем более видим у него портретов с живых людей».
Понять диссертацию Чернышевского очень непросто. На одной странице автор отказывает искусству в мало-мальски существенной формальной ценности и отметает все претензии искусства на красоту в сравнении с красотой непосредственно воспринимаемой природы. На следующей странице он тем не менее требует от искусства воспроизведения этой природы, несмотря на всю беспомощность художественного арсенала. Спустя пару страниц Чернышевский уже уверен в том, что такое воспроизведение само по себе ничего не стоит, каким бы близким к оригиналу оно ни оказывалось, и насмехается над современным ему искусством фотографии. Неизбежный в этом контексте вопрос о полезности искусства автор рассматривает с самых что ни на есть вульгарно-утилитарных позиций: так, например, он свято верит в то, что картины, изображающие море, возникают прежде всего для удовлетворения эстетических потребностей тех несчастных, которые не могут себе позволить поездку на побережье.
Непременным выводом из всех этих противоречивых рассуждений следует, разумеется, то, что главное в искусстве – это содержание. Содержание, в понимании Чернышевского, – это прежде всего общедоступное пояснение, способное реабилитировать всех этих беспомощных в сравнении с жизнью Моцартов, Бетховенов, Рафаэлей, Гомеров и Шекспиров в глазах широкой общественности. Отчаянно пытаясь совладать с собственным врожденным идеализмом, Чернышевский ничего подробно не пишет о возможном присутствии такого содержания в природе, оставляя искусству роль концептуального, тенденциозного комментария к фактам и, по сути дела, сводя его к журналистике. В результате, вывод автора заключается не столько в знаменитом утверждении «прекрасное есть жизнь», сколько в том, что смыслом искусства становится «то, чем интересуется человек в действительности».
Ученое сообщество долгое время отказывалось признать ценность сочинения Чернышевского. На публикацию этого произведения откликнулись три рецензента, одним из них был сам Чернышевский, опубликовавший свой положительный отклик под псевдонимом в своем же собственном журнале. Две другие рецензии были резко негативными. Министр народного просвещения Норов отказался утверждать Чернышевского в звании магистра: это сделал его преемник Ковалевский только три года спустя. В конечном счете Чернышевскому пришлось отказаться от научной карьеры: с таким подходом к работе шансов в академической среде у него не было никаких.
Тем выше – в перспективе – были его шансы за пределами узкого круга профессионалов. Несмотря на многие недостатки своего труда, Чернышевский тем не менее затронул в нем одну из самых болезненных тем своего времени, а именно стремительное развитие публицистического, злободневного, массового начала в культуре и то разделение культуры на популярную и элитарную, которое стало предметом постоянного беспокойства многих его современников – от Толстого до Сент-Бёва.
Кроме того, Чернышевский со своей диссертацией оказался среди тех, кто до некоторой степени предугадал магистральный путь развития искусства на протяжении последующих полутора веков: последовательную эстетизацию реальности, разделение на искусство конкретное и концептуальное, а произведения искусства – на объект и комментарий к нему. Исходный тезис Чернышевского – «прекрасное есть жизнь» – вполне применим, например, к выставке американки Энни Спринкл, продемонстрировавшей в 1991 году при помощи специального гинекологического инструмента собственное влагалище, к закатанным в консервные банки экскрементам художника Манцони, к смятым и запятнанным кроватям Трэси Эмин. С другой стороны, требования наличия в искусстве того, «чем интересуется человек в действительности», привели, помимо уже упомянутой работы Спринкл, к таким острым политическим произведениям, как серия фотографий с комментариями немца Ханса Хааке «Шапольский и др., холдинги недвижимости Манхэттена, социальная система в реальном времени на 1 мая 1971 года», обличавшая закулисные махинации с недвижимостью членов совета директоров того самого музея, в стенах которого предполагалось выставить эту работу (она была запрещена). Высказывание одного из ведущих концептуалистов Дугласа Хюблера – «мир полон более или менее интересных объектов, и я не желаю к ним больше ничего добавлять» – кажется прямо позаимствованным из диссертации Чернышевского.
Еще одним впечатляющим достижением Чернышевского было то, что его противоречивая эстетическая формула, подобно загадочному священному тексту, допускающему самые что ни на есть неожиданные толкования, открывала возможность авторства для всякого, кто этого авторства мог бы пожелать. Прекрасным – то есть эстетически значительным – объявлялись, по сути дела, любой объект, любой аспект и любой комментарий по поводу окружающей действительности, более или менее соответствующий крайне туманному критерию «интересного». Впоследствии для того, чтобы окончательно оформить этот начавшийся в середине XIX века культурный переворот, потребовалось создание колоссального института, призванного обеспечить специалистами, финансами и инфраструктурой стремительно расширявшуюся и проникавшую во все закоулки общества сферу современного искусства. У истоков этой радикальной демократизации культуры, позволяющей сегодня любому прохожему стать «знаменитым на пятнадцать минут», был Чернышевский.
Помимо прочего, Чернышевский всячески противопоставляет свою позицию широко распространившемуся к середине XIX века романтико-идеалистическому культу смерти, небытия, фантастики и абстракции. Если прислушаться, то в рассуждениях Чернышевского понятие «жизнь» приобретает оттенки чуть ли не евангельские. Противостоящие «жизни» искусство и культура здесь странным образом оказываются связанными со смертью, с существованием иллюзорным, мнимым, сомнительным, потусторонним. Иными словами, непосредственным выводом из позиции Чернышевского вполне может стать вполне банальный и здравый отказ от всякой культурной деятельности в пользу непосредственной житейской самореализации.
Кроме того, Чернышевский вплотную связывает в своей диссертации достижения культуры с развитием производства, с демократизацией и в конечном счете с достатком. «Когда у человека сердце пусто, он может давать волю своему воображению, – пишет он, – но как скоро есть хотя сколько-нибудь удовлетворительная действительность, крылья фантазии связаны. Фантазия вообще овладевает нами только тогда, когда мы слишком скудны в действительности. Лежа на голых досках, человеку иногда приходит в голову мечтать о роскошной постели, о кровати какого-нибудь неслыханно драгоценного дерева, о пуховике из гагачьего пуха, о подушках с брабантскими кружевами, о пологе из какой-то невообразимой лионской материи, – но неужели станет мечтать обо всем этом здоровый человек, когда у него есть не роскошная, но довольно мягкая и удобная постель?» Эта небесспорная, но довольно здравая аргументация, как это часто случалось у Чернышевского, на глазах у изумленного читателя приобретает причудливый, избыточный, барочный характер, против которого так горячо выступает сам автор: растущая на глазах фантастическая кровать того и гляди вытолкнет даже самые разумные доводы за край всякой приемлемой полемики.
Близорукий чуть ли не до слепоты, вежливо кланявшийся валявшимся на стульях шубам, Чернышевский не мог не стать воплощением излюбленного большевиками мистического тезиса о преобладании внутреннего, духовного, теоретического зрения над внешним, физическим. Тем не менее все заслуги перед современной массовой культурой Чернышевскому приходится приписывать задним числом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в той самой повседневной действительности, о которой Чернышевский отзывался с таким почтением, его карьера властителя дум началась с парадокса.
Замечательно описана встреча с будущим работодателем Чернышевского, поэтом и издателем Некрасовым, в дневнике того, кто еще совсем недавно говорил о непреложном соответствии личности автора его творчеству. «Лишь послышались первые звуки его голоса: “Панаев…”, – пишет Чернышевский, – я был поражен и опечален еще больше первого впечатления, произведенного хилым видом вошедшего: голос его был слабый шепот, еле слышный мне, хоть я сидел в двух шагах от Панаева, подле которого он стал». «Он» – это был прославленный автор строк, призывавших читателя к политическому самоубийству: «Иди и гибни безупречно – / Умрешь недаром: дело прочно, / Когда под ним струится кровь».
Некрасов с профессиональным чутьем крупного игрока и сибарита почувствовал в Чернышевском будущего золотого тельца – и не ошибся. К моменту защиты ненужной уже диссертации Чернышевский больше года заведовал в журнале «Современник» отделом критики и библиографии.
В качестве литературного критика Чернышевский снова обнаружил особый интерес ко всему новому и актуальному. У него был безошибочный вкус, позволявший ему без труда сделать правильный выбор между рассказом Льва Толстого и романом Авдеева. Это качество кажется вполне естественной принадлежностью едва ли не всякого любителя литературы только тогда, когда история после многолетних перипетий расставит всех по местам. В рамках же литературной повседневности, среди калейдоскопического разнообразия вкусов, направлений, авторских и издательских стратегий и критических оценок способность быстро и уверенно отличать хорошее от плохого – хороший, развитый вкус – это исключительно редкое свойство, во многом отвечающее за формирование национальной культуры.
Так, в прозе Гоголя Чернышевский сразу же угадал магистральный путь развития отечественной литературной риторики, которого сам впоследствии старался придерживаться. В статье о «Севастопольских рассказах» Толстого – его дебютной книге – Чернышевский отметил прежде всего виртуозное использование Толстым техники внутреннего монолога, который впоследствии сам Толстой, а следом за ним и Джойс сумели превратить в поток сознания – основу литературного модернизма, одного из основных течений следующего века. «Имея дело с реализмом, вы обращаетесь к фактам, на которых основан мир; это та самая реальность, которая превращает романтизм в кашу. <…> Природа лишена романтики. Это мы вкладываем в нее романтику и это – ложная позиция, абсурдная, как всякий эгоизм. В “Улиссе” я старался держаться ближе к факту» – в этом письме Джойса можно было бы услышать прямое продолжение критической позиции Чернышевского, если бы сама эта позиция не была отголоском давно уже зарождавшейся в Европе эстетики повседневности и практицизма. Требуя от искусства не столько пользы в широком понимании, сколько легко калькулируемой утилитарности в духе чрезвычайно популярного в те времена английского философа Бентама, Чернышевский во многом был предшественником конструктивистов.
Парадоксы тем не менее множились – несмотря на вполне научный интерес к самой что ни на есть фундаментальной действительности. Так, заведуя литературным отделом «Современника», Чернышевский проповедовал человека практического, хозяина реальной жизни, но искал его при этом именно в литературе, а не там, где таких людей становилось с каждым годом все больше и больше. Если эти настоящие (в отличие от беллетристических фантомов) специалисты – фабриканты, купцы, ученые, инженеры, рабочие, администраторы – и попадали изредка на страницы романов и рассказов, то чаще всего они становились там объектами карикатур, настолько чуждыми были они кругу популярных сочинителей. Коллизии, характеры, перипетии, возникавшие в ходе глобальных общественных перемен, в искусстве оставались невостребованными – в этом смысле за всю мировую словесность отдувался в середине XIX века один Бальзак. (Впоследствии сам разрыв этот, достигший вполне карикатурных масштабов, стал одной из главных забот чеховской прозы.) Люди, мечтавшие о настоящей жизни, знали жизнь в лучшем случае из журналов и газет.
Так, например, критикуя персонажей Тургенева за их нерешительность, болтливость, неопределенность, Чернышевский в конечном счете не столько ставил диагноз русскому аристократу, оказавшемуся на rendez-vous с действительностью, сколько в очередной раз упрекал и писателей, и читателей в том, что они посвящают время бесконечному пустословию, а не медью торгуют и не ставят опыты с мочевиной. В этом было подлинно трагическое начало «лишнего человека» – того, кто, не будучи способен к настоящему, прибыльному делу, вынужден либо проводить время в совершеннейшей праздности, либо зарабатывать себе на жизнь сомнительными рассуждениями и пустыми фантазиями. Аналогичный надлом и тревога по поводу этической стороны искусства во времена расцвета практической деятельности чувствуется почти во всех сочинениях противника Чернышевского Льва Толстого. Как бы наглядным примером этого надлома стал конфликт, возникший в редакции журнала после прихода туда Чернышевского и Добролюбова. Новые люди, преобразователи жизни, столкнулись с «лишними людьми», поклонниками античной праздности. Очередной парадокс заключался в том, что подлинными специалистами своего дела были как раз вторые, в то время как первые были по большей части на редкость энергичными дилетантами.
Этот разрыв между искусством и действительностью, на который Чернышевский обратил внимание еще в своей диссертации, кажется тем более удивительным, что материалов для культурного осмысления в российской повседневности появлялось с каждым днем все больше и больше. Инструментарий отечественной культуры к этому времени тоже достиг завидного мирового уровня. Странная отъединенность от жизни тех, кто неустанно проповедовал красоту повседневности и научный подход к действительности, кто зачастую мог похвастаться вполне энциклопедическим кругозором и был признанным авторитетом в общественных вопросах, особенно поражает на фоне тех перемен, которые полным ходом шли в стране, совершенно не замеченные деятелями искусства.
Так, среднегодовой объем экспорта в 1800–1850-х годах вырос почти в четыре раза: с 60 до 230 миллионов рублей. С 1825 по 1850 год число промышленных предприятий в России увеличилось почти в два раза, число рабочих – более чем в два раза, а стоимость произведенной продукции – с 46 до 166 миллионов рублей. С 1830 по 1850 год в Россию было ввезено оборудования и машин на 24 миллиона рублей, а в течение 1850-х годов – на 48 миллионов. Были построены первые машиностроительные заводы: Невский машиностроительный, Александровский казенный завод, завод Берда и другие, выпускавшие паровые машины, пароходы, паровозы и т. д. В 1849 году был построен завод в Сормове, который стал выпускать речные суда. К 1860 году только по Волге и ее притокам ходило около 350 пароходов, и основная часть грузов перевозилась паровой тягой. В 1830-х годах началось строительство железных дорог, и к 1861 году в России протяженность железных дорог составила 1500 верст (1600,2 километра). За период с 1833 по 1855 год было выстроено 6,5 тысячи верст шоссейных дорог. С 1825 по 1852 год ярмарочные обороты в России увеличились в четыре раза.
Производительность крепостного труда была ничтожной: многие помещичьи предприятия не в силах были конкурировать с капиталистическими мануфактурами и закрывались одно за другим. В результате этого процесса в 1850-х годах в государственном залоге оказалось свыше 65 процентов крестьян. Иными словами, почти две трети всех крестьян в России в середине XIX века принадлежало государству: вопрос их освобождения был простой формальностью. Наиболее передовые помещики – о которых даже речи не шло ни в романах Гоголя или Толстого, ни в пьесах Островского, ни в статьях Чернышевского – преобразовывали свои хозяйства в самые настоящие промышленные центры, приносившие огромный доход. Эти корпорации становились своеобразными фильтрами, отделявшими тех, кто хотел зарабатывать настоящие деньги, от тех, кто предпочитал патриархальный уют крепостного труда. В процессе имущественного расслоения деревни появился мощный слой «торгующих крестьян», которые конкурировали с купцами, сбивая цены. В Москве к 1840 году «торгующие крестьяне» составляли почти половину всех торговцев. В силу этой развивающейся конкуренции купцам для сохранения своих капиталов необходимо было инвестировать в производство, и уже в середине века свыше 90 процентов купцов первой гильдии владело заводами или фабриками. Свободный труд независимо от постановлений правительства на деле доказывал свою эффективность, и за период с 1825 по 1860 год число прикрепленных к предприятиям рабочих сократилось с 29 до 12 тысяч, вотчинных работников – с 67 до 59 тысяч, в то время как количество вольнонаемных рабочих увеличилось более чем в четыре раза. В 1840 году был издан закон, разрешавший фабрикантам отпускать своих рабочих на волю.
Одновременно развивалась наука – не та, которая занималась «сведениями о человеке», а самая настоящая: фундаментальная, прикладная, необходимая. Были открыты многочисленные институты: Горный, Технологический, Межевой, Инженеров путей сообщения, Училище правоведения, Военная академия, Институт гражданских инженеров, Земледельческая школа, Техническое училище. За несколько десятков лет в России сформировались авторитетные научные школы в области математики, электромагнитной физики, химии, астрономии, эмбриологии, геометрии, хирургии и анатомии, климатологии, геологии, истории, филологии под руководством всемирно известных ученых, таких как Якоби, Пирогов, Лобачевский, Чебышев, Соловьев.
Вопреки всем этим тенденциям Чернышевский, который неуютно себя чувствовал в требовательных рамках узкой профессиональной специализации, скоро передал литературный отдел «Современника» Добролюбову, а сам занялся публикациями самого что ни на есть широкого и неопределенного толка – общественно-политическими. Неуклонный проповедник новизны, он в данном случае был классическим представителем постепенно отмиравшего в России архаичного способа производства – не интенсивного, но экстенсивного, неутомимо захватывающего всё новые и новые области знания, поверхностно энциклопедического, но при этом абсолютно авторитарного и не терпящего никаких, даже воображаемых возражений в рамках того или иного предмета. Вместо отточенности, емкости, лаконичности, композиционной ясности и соразмерности – бесконечные рыхлые периоды, тавтологичные, путаные, безапелляционные, уснащенные подробными финансовыми расчетами и таким количеством объемистых цитат и подробнейших пересказов, от которых любого почитателя Пушкина, Толстого или Тургенева мог бы хватить приступ кататонии. «Было время, – рассказывал Чернышевский, – я – я, не умеющий отличить кисею от барежи, – писал статьи о модах…» «В “Современнике”, – свидетельствует биограф Чернышевского Н. В. Богословский, – он составлял азбуки, писал сказки, детские пьески, водевили, исправлял рукописи других авторов (Григорович, например, однажды застал его за редактированием брошюры об уходе за пчелами), сочинял афишки в стихах для “кабинета восковых фигур”, переводил, писал библиографические заметки, театральные рецензии, злободневные куплеты, фельетоны, пародии, повести…» Однако именно эта неутомимая всеохватная работа принесла Чернышевскому не только немалый доход, но и значительное влияние как в журнале, так и за его пределами.
Требования радикальных реформ, перемен, политических преобразований, которыми в очень скором времени стал знаменит Чернышевский, в силу принципиальной оторванности культуры от повседневности адресовались прежде всего не столько подлинному положению вещей в стране, сколько его еле-еле существовавшему на тот момент бумажному отображению: нечеткому, искаженному, фрагментарному. Все эти теоретические рассуждения были вполне в духе времени и пользовались, несмотря на их умозрительный характер, изрядной популярностью. В частной беседе Карл Маркс, например, утверждал, «что из всех современных экономистов Чернышевский представляет единственного действительно оригинального мыслителя». Сегодня трудно понять, что значил для Чернышевского этот комплимент, особенно если иметь в виду, что позже, в ссылке, он не нашел лучшего применения только что вышедшему «Капиталу», как только делать из его страниц бумажные кораблики и пускать их по воде.
Нет поэтому ничего удивительного в том, что со временем все настоящие мастера своего дела – и Тургенев, и Толстой, и Фет – постепенно прекратили свое сотрудничество с журналом, в котором тон задавали безапелляционные популисты. «Современник» с каждым выпуском все меньше ориентировался на классическое понимание литературного качества и все больше становился выразителем формировавшегося в России общественного мнения. Это мнение – путаное, сбивчивое, неглубокое, требующее каждодневной новизны и скандального драматизма, но при этом неизменно критическое по отношению ко всему, кроме наиболее злободневных стереотипов, – находило свое идеальное воплощение в публицистике Чернышевского. В отличие от наивного обскурантизма низших классов риторика разночинцев была насыщена авторитарным и поверхностным всезнайством, которое могло хотя бы на минуту поставить в тупик даже опытного полемиста.
Столкнувшись – может быть, впервые в жизни – с этим незнакомым доселе голосом масс, Тургенев обещал «преследовать Чернышевского, презирать и уничтожать его всеми дозволенными и в особенности недозволенными средствами». «Срам с этим клоповоняющим господином. Его так и слышишь тоненький, неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более от того, что говорить он не умеет и голос скверный… И возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал цыц и не посмотрел в глаза», – негодовал Толстой. «Хвастовство бестолкового павлина своим хвостом, – не прикрывающим его пошлой задницы», – отзывался Чернышевский, и это был именно тот накал страстей, которого требовала читающая публика от современных ей средств массовой информации и который доставлял «Современнику» все больше и больше подписчиков. В конце концов, ведь не достоверных сведений требовал Стива Облонский от своей газеты, а любил ее, «как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове».
Накал страстей тем не менее требует постоянного их подогревания. Русская журналистика середины XIX века еще не достигла в этой области той виртуозности современной прессы, которая даже самый опасный скандал умеет раздуть без особенного для себя ущерба. Чернышевский был в этом деле первопроходцем и опыты с разжиганием общественных страстей ставил – как многие экспериментаторы той безоглядной эпохи – прямо на себе. Всю жизнь он был уверен, что революция в России должна совершиться со дня на день, и, возможно, уже видел себя в роли представителя самой загадочной и неопределенной профессии в мире – народного лидера. Как бы там ни было, в 1862 году самый влиятельный сотрудник самого популярного журнала своего времени был арестован и посажен в Петропавловскую крепость.
Вот где Чернышевский получил наконец возможность в полной мере реализовать свои художественные принципы. Именно здесь, в тюремной камере, во время предварительного следствия Чернышевский находит время взяться за главное дело всей жизни – за роман. «Автономия – верховный закон искусства», – утверждал он в одной из статей, и тут, в тюремной камере, писатель стал наконец полностью автономен, то есть абсолютно свободен не только от всех и всяческих планов, обязанностей, сроков, дел и тревог, но и от критериев, мнений, суждений, традиций. Жизнь и вправду, оказывается, может быть прекрасной, когда тебя никто не отвлекает, не торопит со сроками, не ставит задач, не платит гонораров, когда тебя обеспечивают всем необходимым, для того чтобы автор мог наконец совершенно отвернуться от этой самой жизни и заняться в полной мере своим любимым делом – лихорадочной описью образов и идей. Этим удовольствием сочинителя-анахорета, этим радостным ощущением причудливой тюремной свободы насквозь проникнуто сочинение Чернышевского. Это чувство – безусловно, лучшее, что есть в романе, и именно благодаря этой диковинной свободе он был пропущен цензурой, потерян, самым волшебным образом найден, успешно напечатан и, в конце концов, стал одним из самых популярных сочинений в русской литературе.
Многим книга казалась антихудожественной. Полтораста лет спустя эта смесь из документальной прозы (бесконечные руб., коп. и шт.), пародии (прежде всего на любовные романы), автопародии (с витиеватыми отношениями между автором, читателем, публикой, повествователем и персонажами), реализма (вполне в духе Горького или Драйзера), утопической фантастики («Но как же все это богато! Везде алюминий и алюминий»), нарождавшегося консюмеризма (не сапоги, а прюнелевые ботинки магазина Королева так же прекрасны, как Шиллер), теоретических отступлений («женщина проживает три с половиною срока своего полного развития так же легко, как мужчина почти только два с половиною срока»), детектива (пропавший постоялец, выстрел на мосту, полиция, записка) и пропаганды (в первую очередь самой элементарной порядочности) выглядит на редкость современным произведением.
Стилистически эта книга в полной мере следует гоголевской традиции, обозначенной Чернышевским еще в самом начале его литературной карьеры как основное направление отечественной словесности. Автор здесь в полной мере отдается на волю истерической, хаотической энергии родного языка: текст книги переполнен безудержными достоевскими тавтологиями, вычурным толстовским примитивизмом и зачастую вполне намеренным и чуть ли не хармсовским языковым абсурдом. «Роман Чернышевского со стороны искусства ниже всякой критики; он просто смешон», – утверждал искусственно архаичный Лесков. Достоевский сочинял пространные карикатуры на Чернышевского, которые кажутся чуть ли не автопародиями, настолько – иногда чуть ли не до зеркальности – были стилистически близки оба писателя, революционер и контрреволюционер. Вполне солидарный с Лесковым язвительный Набоков в качестве подтверждения литературной беспомощности Чернышевского только и сумел выцарапать из текста книги один-единственный пример авторской слепоты: «долго они щупали бока одному из себя». «Мы должны писать на языке, который, по какому-то загадочному случаю, устроен так, что никак не сумеешь излагать на нем своих мыслей связно и ясно. Наш язык, орудие слишком непокорное мысли и истине, беспрестанно увлекает писателя в такие уклонения от его идеи, которые могут быть неприятны не только читателю, но и самому автору, но которые должен извинять великодушный читатель. Удержаться на прямой дороге развития идеи нет возможности, когда пишешь по-русски, и писателю остается только, когда он заметит, что уклонился от своей идеи слишком далеко, делать крутые повороты, чтобы взяться опять за дело, ускользнувшее из-под его пера по сбивчивости нашего языка», – как всегда, заранее ответил своим критикам автор романа.
Помимо прочего, едва ли можно судить роман Чернышевского исходя из традиционных представлений о литературе. Будучи настойчивым оппонентом классической традиции, Чернышевский гораздо более тесно был связан с литературой открытых форм, берущих свое начало в сочинениях Рабле, Стерна и французских энциклопедистов, и во многом повлиявшей на возникновение модернизма и послевоенного постмодерна XX века. Он сам это очень хорошо понимал и оценивал свою прозу исходя из критериев, совершенно чуждых его более традиционно ориентированным современникам.
Сегодня Чернышевский был бы, скорее всего, одним из ведущих блогеров, и подходить к его сочинениям с точки зрения классической прозы – это все равно что искать достоинств романа в многолетнем объеме блога со всеми его бесконечными противоречиями, длиннотами, сиюминутностями, поверхностными впечатлениями и необоснованными суждениями. Именно поэтому царская цензура пропустила вольнодумную книгу – цензору точно так же, как и всем остальным традиционалистам от литературы, она казалась бессмысленным и неудобочитаемо плотным потоком нечеловечески подробных праздных рассуждений, газетных фантасмагорий и стереотипных страстей. Задолго до появления полноценного литературного авангарда и практически одновременно с открытием парижского «Салона отверженных» с его скандальными полотнами Сезанна, Писсарро и Мане Чернышевский почти полностью отказался от классического литературного аппарата. Риторика его романа – это риторика злободневной, насущной, конспиративной, интимной, доверительной актуальности, и именно эту ошеломительную, но сегодня уже, к сожалению, совершенно невообразимую актуальность и находили на страницах его сочинений жаждавшие новизны читатели. Спустя много лет эта новизна стала общим местом всякой молодежной контркультуры и любых средств массовой информации.
Тем не менее, несмотря на все достоинства своего сочинения, Чернышевский так и не сумел в полной мере избавиться от проклятия, тяготеющего над всяким литературным критиком, избравшим карьеру романиста: будучи бесспорным в частностях, сочинение его изобилует громадными, вопиющими нелепостями почище всяких «ощупанных одному из себя боков». Не случайно в одном из центральных эпизодов романа автора заботит только то, чтобы деловые планы его главной героини не приняли за рассуждения помешанной.
Отчаянно пытаясь высадить своих по большей части импортных тепличных персонажей в открытый грунт отечественной реальности, Чернышевский не скупился на удобрения. В результате роман переполнен самыми грубыми натяжками и подтасовками, не заметить которые могли только те, кто не хотел их замечать ни под каким видом. На все претензии по отношению к этим несоответствиям у Чернышевского были, как всегда, заранее заготовлены подробные до умопомешательства ответы, а там, где их не было, он пытался ошеломить читателя мегаломанией чуть ли не сталинского масштаба. «Горы, одетые садами; между гор узкие долины, широкие равнины. “Эти горы были прежде голые скалы… Теперь они покрыты толстым слоем земли, и на них среди садов растут рощи самых высоких деревьев: внизу во влажных ложбинах плантации кофейного дерева; выше финиковые пальмы, смоковницы; виноградники перемешаны с плантациями сахарного тростника; на нивах есть и пшеница, но больше рис”». Так выглядит в романе Новая Россия, и способы ее создания тоже напоминают грандиозные проекты преобразования природы эпохи Большого террора. В результате в романе Чернышевского столько наивной сказочности, что кажется временами, будто автор книги с запозданием последовал мудрому совету своего отца.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.