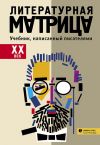Автор книги: Вадим Левенталь
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
Потому и бесполезно привязывать главы книги к конкретным историческим эпизодам, что гротескно описанные Щедриным фабулы разыгрываются в России раз за разом. Потому и поражает жуткой провидческой точностью картина угрюм-бурчеевского «систематического бреда», в котором все население строем ходит на общественные работы и в каждом доме имеется штатный шпион, – что все это, похоже, изначально существует в нашей «матрице». Похоже, что все это обречено в той или иной форме воплощаться на каждом очередном круге замкнутой, циклической русской истории – про которую немало говорят теперь и о сути которой Щедрин догадался еще полтора столетия назад.
Эта дурная цикличность, это отсутствие поступательного развития, происходящее от неспособности к внутренней общественной самоорганизации при постоянстве внешнего властного прессинга, угнетала писателя, как и поколения трезвомыслящих деятельных русских интеллигентов – по сей день: «…глуповцы беспрекословно подчиняются капризам истории и не представляют никаких данных, по которым можно было бы судить о степени их зрелости, в смысле самоуправления;…напротив того, они мечутся из стороны в сторону, без всякого плана, как бы гонимые безотчетным страхом. Никто не станет отрицать, что это картина не лестная, но иною она не может и быть, потому что материалом для нее служит человек, которому с изумительным постоянством долбят голову и который, разумеется, не может прийти к другом результату, кроме ошеломления». С другой стороны: «Уже один тот факт, что, несмотря на смертный бой, глуповцы все-таки продолжают жить, достаточно свидетельствует в пользу их устойчивости и заслуживает серьезного внимания со стороны историка». Это, правда, довольно сомнительный повод для оптимизма.
Да и о каком оптимизме можно говорить по отношению к вещи, заканчивающейся фразой: «История прекратила течение свое»… Какой вообще оптимизм, какая надежда на народное пробуждение (приписываемая Щедрину) – почитайте хоть сказку «Коняга»! Какая вера в социальную справедливость – почитайте сказку «Соседи»! Подобно многим другим, кто начинал с деятельного рационализма, закончил Салтыков-Щедрин мрачным фаталистом, и если что исповедовал в старости, то сугубо христианское (сказка «Христова ночь») упрямое терпение – что называется, «от противного»: в реальности ничего, на что можно опереться, он не видел давно.
«Крамольников горячо и страстно был предан своей стране и отлично знал как прошедшее, так и настоящее ее, – говорится в сказке-исповеди. – Но это знание… было живым источником болей». И поясняется: «Знал он, что пошехонская страна исстари славилась непостоянством и неустойчивостью, что самая природа ее какая-то не заслуживающая доверия. <…> Но еще более непостоянные в Пошехонье судьбы человеческие. <…> Нет связи между вчерашним и завтрашним днем! Бродит человек словно по Чуровой долине: пронесет бог – пан, не пронесет – пропал. Какая может быть речь о совести, когда все кругом изменяет, предательствует? На чтó обопрется совесть? на чем она воспитается?»
В этой русской невнятице, зыбкости, зыби, топи, в бесцельности истории и неопределенности национального характера, в провале на месте общих ориентиров, правил, ценностей всегда таилась западня для людей разума и принципа, последовательных, ответственных и трудолюбивых. Что делать таким в Чуровой долине, где «нет связи между вчерашним и завтрашним днем», между причиной и следствием? К доводам тут никто не прислушивается, результаты всех трудов протекают между пальцев, люди от тебя отворачиваются; и обнаружив под конец, подобно Крамольникову, что тебя «со всех сторон обступает зияющая пустота», ты в ужасе кричишь, как герой «Господ Головлевых»: «…где… все?..»
* * *
Поначалу никакого романа про головлевское семейство Щедрин писать не собирался. Не преувеличивавший собственной литературной роли, он не страдал и комплексом малой формы, тяготившим даже Чехова. В 1875-м в «Отечественных записках» вышел рассказ Щедрина «Семейный суд», вызвавший бурную реакцию читателей, – и далее в течение пяти лет Щедрин по отдельности печатал у себя в журнале то, что потом, собранное под одной обложкой, станет шестью остальными главами романа. Не просто романа – эпопеи, охватывающей несколько десятилетий и три поколения изображаемой семьи. При этом – уместившейся в двести с небольшим страниц.
Современник Толстого и Достоевского, Щедрин умудрился написать вещь, размахом и символичностью вполне сопоставимую с их многотомными многословными глыбами, только во много раз короче, суше, жестче. Секрет – именно во фрагментарности, позволившей писателю сделать еще один новаторский по тем временам ход: обойтись без жанровых подпорок. Роман XIX века, особенно русский, еще нанизан на обязательную сюжетную интригу: мелодраматическую, военно-историческую, детективную – что на фоне широкого разлива реализма и психологизма невольно придает ему привкус искусственности.
По «Господам Головлевым» не напишешь оперы, не снимешь сериала. Не только потому, что в этой хронике семейного вырождения мало что происходит, а все происходящее обыденно, тускло, мелкотравчато, пахнет мышами и несвежим бельем, но потому еще, что эффект оно при этом дает недвусмысленно шоковый. Если уж воображать адекватную экранизацию, гибель щедринских богов стоило бы доверить не Лукино Висконти, а Михаэлю Ханеке, мастеру подспудной жути, не снисходящему до игр в поддавки с аудиторией. Недаром Кирилл Серебренников, ставивший в 2005 году по «Головлевым» спектакль в МХТ им. А. П. Чехова, предупреждал накануне премьеры: «У Салтыкова-Щедрина был очень безжалостный взгляд на Россию. И спектакль, боюсь, будет очень безжалостный. Я сначала, помня о русской традиции искать свет в конце тоннеля, пытался как-то обманывать актеров, говорить о хороших чертах героев. Пока на одной из репетиций не встала Алла Покровская и не сказала: “Значит так, давайте отдавать себе отчет в том, что мы играем последних уродов, последних тварей”».
Реакция актрисы характеризует силу воздействия первоисточника – и впрямь безжалостного, но несправедлива по отношению к щедринским героям. В том-то и заключается настоящий, по-настоящему безысходный ужас этой истории, что действуют в ней отнюдь не выродки, а люди, в большинстве своем совершенно, абсолютно, беспросветно обыкновенные. Настоящий монстр тут один – Иудушка, Порфирий Головлев, иезуитствующий ханжа, сутяга, вкрадчивый въедливый лицемер («Не столько лицемер, – специально уточняет автор, протестовавший против аналогии с мольеровским Тартюфом, – сколько пакостник, лгун и пустослов»), доводящий одного сына до самоубийства, другого – до тюрьмы, сживающий со свету мать. Но и он не извращенец никакой, не людоед, не жанровый злодей – он жутче любого голливудского маньяка именно тем, что ни капли в нем нет потустороннего и демонического. Полностью от мира сего, он – воплощение неубывающей в этом мире энтропии, разрушительной неупорядоченности, липкой, вязкой, неодолимой.
Про всех же остальных – и Иудушкиных братьев, спившихся Степку-балбеса и Павла Владимирыча, и его сыновей Петеньку и Володеньку, и обеих пошедших по рукам сирот-племяннушек – сказать и вовсе почти нечего: это существа без индивидуальности и характера, никакие, рыхлые, снулые. Не люди – пустые места. Характер из всего семейства – лишь у маменьки Арины Петровны, крутой и хваткой помещицы, превратившей Головлево из захудалого именьица в процветающее хозяйство. Но все богатство, все накопленное, захваченное, построенное – все без остатка ухнет в «пустые места» следующих поколений, уйдет в песок, рассеется, сгинет вместе с самим головлевским родом, и лейтмотивом книги станет отчаянное маменькино: «Для кого я припасала?!»
В том-то и заключается безнадега, что в Чуровой долине припасать и создавать что-либо бесполезно, осмысленная и конструктивная деятельность лишена тут результата, все вязнет, глохнет, тонет в трясине. «Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья – /, – писал о той же стране щедринский современник Тютчев, чей патриотизм был не менее безоговорочен и не менее горек под конец. – Жизнь отошла – и, покорясь судьбе, / В каком-то забытьи изнеможенья, / Здесь человек лишь снится сам себе». «В бессознательной дремоте» ведет опустившая руки Арина Петровна свое «полусонное существование». Степан живет в «странном оцепенении», носящем «на себе все признаки отсутствия сознательной жизни». Павел, «уединившись с самим собой, возненавидел общество живых людей и создал для себя особую, фантастическую действительность». Сирота Аннинька «в сущности, уже умерла, и между тем внешние признаки жизни – налицо». А пребывающий «в омуте фантастических действий и образов» Иудушка, вынырнув на миг оттуда за страницу до гибели, уже не обнаруживает ничего на месте прежней реальности: «Что такое! Что такое сделалось?! – почти растерянно восклицал он, озираясь кругом, – где… все?..»
Бессознательность, невменяемость, неспособность к трезвому взгляду на себя чревата одним – прекращением течения истории: национальной, семейной, личной. Ужас, однако, в том, что человеку бодрствующему, активному, критичному, полному, как сказано о Крамольникове, «доброго раздражения», – в этом сонном царстве хуже всех. Именно потому, что он-то все понимает, и догадывается, к чему дело идет, и отдает себе отчет в собственном бессилии.
Если же он при этом органически не способен к цинизму и ничего не может поделать с собственной любовью к этой стране… тогда судьба превращается в трагедию. Но остается настоящая литература, и – в единстве судьбы и литературы – урок, ценность которого сложно преувеличить. Особенно нам.
Если из письменного наследия вождя мирового пролетариата сегодня можно извлечь насущную практическую рекомендацию – то разве что эту: «…вспоминать, цитировать и растолковывать Щедрина». Самому Ленину это не помогло, но sapienti sat – для понятливого достаточно.
Сергей Носов
По соседству с Достоевским
Федор Михайлович Достоевский
(1821–1881)
Сколько о Достоевском во всем мире написано работ – тысячи ли, десятки ли тысяч, сотни ли тысяч, – представить даже приблизительно не могу. Кто-нибудь их считал? Скажут: миллион – удивлюсь, но поверю.
После всего, что другими написано, вновь о Достоевском высказываться без особых внутренних на то причин любому автору уже неприлично вроде бы (речь, впрочем, не идет об авторах школьных сочинений). Без «особых» – это без каких причин? А вот «внутренних», говорю. Чтобы самому себе объяснить, зачем ты на это решился. Скажем, лестное для авторского самолюбия предложение издательства написать очерк о Достоевском – это совсем не тот случай, чтобы со спокойной совестью торопливо отвечать согласием. А как насчет морального права? Какое ты лично отношение к Достоевскому имеешь? Есть ли что-то (себе ответь), что тебя с Достоевским связывает?
В общем, я думал-думал, и понял, что меня с Достоевским связывает, и сразу как-то вздохнул свободно.
Собственно, тут и думать долго не надо было, потому что речь идет о связи предельно формальной.
Но – выразительной.
Имею в виду место жительства. Так получилось, что я с рождения живу недалеко от Сенной площади. Есть такая в Санкт-Петербурге. А окрестности Сенной площади – самые что ни на есть «достоевские» места.
Если кто не читал еще «Преступление и наказание», они там описаны. Да и сам Федор Михайлович Достоевский долгие годы жил поблизости.
Чтобы понять идейное содержание «Преступления и наказания», вовсе не обязательно жить рядом с Сенной, но что поделаешь – раз судьба моя здесь жить, вот и говорю, что здесь живу.
Курьез, конечно. Два человека, незнакомых друг с другом, с разницей в несколько лет, полушутя, говорили мне одно и то же: хорошо бы для привлеченья туристов установить на Сенной памятник Раскольникову (если кто не читал – герой романа), обязательно с топором (если кто не читал – он им совершит ужасное преступление).
Но когда такая странная мысль приходит в голову людям друг с другом незнакомым, это только о том говорит, что все здесь действительно пропитано духом Достоевского. (Что такое «дух Достоевского», оставим в стороне – речь о том, что «дух» этот не выдумка.)
Федору Михайловичу нередко предъявляют один серьезный упрек. Вот, дескать, все хорошо, но многие герои у него определенно выдуманы – в жизни таких не бывает. Эксцентричные какие-то, с выкрутасами, с чрезмерностями в характере… какие угодно еще, но только не из жизни взятые, а сочиненные. Я по себе заметил, и другие мне сознавались в том же: странная вещь происходит с нами, с теми, кто в том возьмется укорять Достоевского, – сразу же, как только сподобишься на укор, начинают встречаться по жизни такие яркие личности, что как будто из романов Достоевского взялись, – эксцентричные, с выкрутасами, с чрезмерностями в характере, какие угодно еще… Просто без Достоевского мы смотрели на них как-то иначе.
Вот и я, проходя изо дня в день по Сенной, стал примечать одних и тех же людей. И, возможно, они меня примечали, как человека, чье лицо примелькалось. И поймал себя на мысли, наблюдая за некоторыми, что героями Достоевского они запросто быть могли бы. А иные и вовсе словно сошли с его страниц. Поглядишь на себя сторонним взглядом: а чем ты сам лучше их или хуже? А то еще такая фантазия: вот в одно время мы с ним живи и не знай я Достоевского в лицо даже, разве при встрече где-нибудь рядом с Сенной, прежде чем по сторонам развести взгляды, не кивнули бы мы едва заметно друг другу, как примелькавшиеся друг другу прохожие?
Нет, Раскольникову определенно надо было задуматься о фасоне шляпы, чтобы здесь неприметным казаться.
Этот очерк пишется для тех, кто к Достоевскому подступается только. То есть для тех, кто в соответствии со школьной программой прочитал или даже, может быть, еще не прочитал «Преступление и наказание».
Акция с моей стороны не то что б рекламная, но типа того.
Тут без личного опыта не обойтись – так что надобно о себе, о конкретном читателе.
Ну и как же конкретный читатель, а именно я, познакомился с Достоевским?
А так. Да как все. В школе, вестимо.
Заданное на лето «Преступление и наказание», помню, читал (а то было по первому разу) с большим интересом, но не помню, стал бы читать (особенно по первому разу), если б не было такого задания.
После школы – с годами – почти всего Достоевского прочитал, без всяких заданий. Включая даже черновики и подготовительные материалы.
Как это ни смешно, начальным импульсом к освоению Достоевского послужил мне полушутливый афоризм, чье-то высказывание, услышанное мною лет в семнадцать. Я и потом это слышал несколько раз. Высказывание приписывалось разным личностям, так что, чья это идея, утверждать не берусь. Речь шла об оригинальном принципе деления человечества. Тогда мне один человек сказал, что его знакомый делит всех людей на три категории.
Первая – те, кто прочитал «Братьев Карамазовых». Вторая – те, кто не читал, но обязательно прочтет. И третья – кто не прочтет никогда.
Услышав это, я мысленно определил себя ко второй группе. В третьей почему-то быть не очень хотелось.
Согласитесь, мысль хоть и простая, но на все человечество кой-какой свет проливает, и главное – на тебя самого, на твое место среди людей.
Может быть, я и сам себе тогда не отдавал отчет в том, что был закодирован на «Карамазовых».
Однажды к ним приступил. Будучи студентом технического института.
Роман бы я и без этого афоризма прочитал – скорее всего. Хотя как знать. Может, и не прочитал бы. Может быть, и вообще бы обходился в жизни без книг.
Потом уже «Бесы» были, и «Идиот», и многое другое.
На Достоевского можно подсесть. Из всех вещей, которые в жизни надо обязательно попробовать, Достоевский не самая худшая.
Но это не значит, что его надо всем читать обязательно.
Если вам все в себе понятно, если у вас не возникает трудных вопросов – ни к себе, ни к окружающему вас миру… если вы уверены, что так у вас будет всегда, да и вы сами всегда будете и ни в чем не убудете, на кой леший вам этот Достоевский? Зачем душу зря тревожить?
Он и нравиться всем не обязан.
Среди тех, кого он раздражает (есть чем раздражать), например, великий Набоков. Почитайте-ка, как один гений другого терпеть не мог (правда, есть мнение, что Набоков так с ним счеты сводил, потому что внутри него самого сидел Достоевский…).
Нет, было бы вполне нормально, если бы «нормальный» человек впал в оторопь, только лишь поглядев на тридцать томов, не умещающихся на одной полке. Как можно столько понаписать было? Без компьютера и не шариковой ручкой даже – пером, которое окунают в чернильницу?! Это ж надо было все время, поди, сидеть в кабинете, писать и писать, жизни не видя? Да было ли у него в жизни что-нибудь, кроме этого неустанного сочинительства?
Если мы говорим о Достоевском (а мы говорим о нем), то тут нам надо подивиться другому: как это при такой бурной биографии вообще оставалось место писательству?
Есть такая достаточно редкая категория творческих людей, сознательно создающих свою жизнь как художественное произведение (скажем, к ним относился поэт Байрон). Достоевский о красоте своей биографии не заботился, специально приключений не искал, не позволял себе красивых жестов, обязанных запомниться потомкам, он просто жил, но вся жизнь его состоит из таких ярких и выразительных эпизодов, что может показаться, будто она кем-то выдумана, изобретена – слишком уж много событий на долю одного человека.
Если представить невозможное – конкурс писателей всех времен и народов на самый крутой эпизод в биографии, Достоевскому, пожалуй, равных не будет. И не обязательно писателей представлять, да хоть любого возьмем: в самом деле, выслушать на морозе – с барабанной дробью – смертный себе приговор и в белой длинной рубашке-саване мысленно попрощаться с жизнью, такое не со всяким случается.
Судьба распорядилась так, что молодой и успешный писатель Федор Достоевский оказался в тайном обществе, хотя какое это было «общество» – так, просветительские собрания на квартирах. Чаще всего собирались у Петрашевского, был он за лидера, отчего и назвали потом всю компанию петрашевцами. Потом – это когда объявили государственными преступниками. Лично Достоевскому главным образом вменялось в вину публичное чтение письма Белинского Гоголю. Белинский сегодня не самый популярный литератор, но, если кто пожелает ощутить себя в коже государственного преступника, которого приговорят к «расстрелянию», пусть прочтет это письмо, и непременно вслух – как тогда Достоевский. Итак: арест – следствие – приговор.
Представьте:
Снег. Площадь. Войска. Осужденные под конвоем. До сего дня каждый из них провел восемь месяцев в одиночной камере Петропавловской крепости. Вот три врытых в землю столба. К ним уже привязали первых троих с завязанными глазами. Достоевский на очереди, он смотрит на небо. Солдаты с заряженными ружьями строятся в линию. Звучит команда «Прицель!». Сейчас будет «Пли!». В этот момент, в «последний момент», и оглашается другой приговор: всем дарована жизнь.
Каждому – свое. Достоевскому – четыре года каторги, а потом в рядовые.
Ошеломленных «злоумышленников» одевают в теплую одежду. Петрашевского прямо отсюда отправляют в Сибирь. Остальных – назад, в Петропавловскую крепость. Пока.
Всю эту инсценировку казни придумал сам царь. Разработал в деталях. Оно, конечно, очень жестоко, прямо скажем, – по отношению к осужденным просто садизм. Один с ума сошел прямо там, на плацу. Но ведь и хуже могло быть, останься прежний приговор в силе. И не читали бы мы ни «Идиота», ни «Братьев Карамазовых».
Ладно – казнь на плацу, каторга, острог – это все очень и очень индивидуальное, почти небывалое, совершенно в своем роде исключительное (с кем еще могло приключиться такое?). Но возьмем то, что свойственно всем, – вот, скажем, любовь. Каждый рано или поздно влюбляется. И пусть любая любовь сама по себе всегда чем-то особенна, у Достоевского и здесь уж слишком все получается по-особенному. (Он-то влюблялся, это мы знаем.)
Любовь вчерашнего каторжника, солдата к замужней женщине: страсть, экзальтация, самопожертвование, отчаянные поступки вроде рывка из одного сибирского города в другой – без позволенья сурового начальства (в самоволку, сказали бы мы); свадьба, омраченная тяжелым припадком… Бурный роман со взбалмошной красавицей, студенткой, из первой генерации русских нигилисток, она требует от него жертвенной самоотдачи и подчиненья, он старше ее на девятнадцать лет; биографы скажут: «роковая любовь». Анна Григорьевна, его вторая жена и мать его детей, – это уже «тихая гавань» (относительно тихая – с учетом множества житейских приключений), да только обстоятельства их знакомства и предложения руки «эксклюзивны» настолько, что можно точно утверждать: ничего подобного ни с кем другим не было и не будет.
Или такой возьмем фактор – успех. Уточним: успешность дебюта (для писательской биографии всегда немаловажный момент). Никакой литературный дебют не обязан быть непременно успешным; здесь у кого как. Но вот: «Новый Гоголь явился!» – это ж воскликнул не кто-нибудь, а Некрасов, сам познавший на опыте, как и тот же Гоголь когда-то, что значит, сгорая от стыда, уничтожить своими руками тираж первой собственной книги. Феноменальному успеху «Бедных людей», дебютного романа еще совсем молодого Достоевского, даже в масштабах истории мировой литературы трудно найти аналог. Да как только вынес автор из комнаты, в которой жил, рукопись только что законченного романа, тут все сразу и началось: Григорович-сосед, первый слушатель «Бедных людей» в авторском исполнении, сам начинающий сочинитель, пролил слезы потрясения и восторга, а дальше уже понеслось по цепочке: Некрасов, Белинский… читающая Россия…
Потом у Достоевского по-разному получалось, но раз об успехе заговорили, о дебютном, как же не вспомнить о позднем Федора Михайловича – подберем посильнее словечко – триумфе? «Пушкинская речь», прочитанная им на торжествах, посвященных юбилею поэта (это о всемирной-то отзывчивости русского человека), произвела на публику эффект, сравнимый разве что с выступлением каких-нибудь современных рок-звезд. Ладно бы ликование, крики, шум, выбегания на сцену из зала – двое грохнулись в обморок! Этих двух достойных интеллигентных людей имена сохранила история, но лишь потому (может быть, их и больше было, кто знает…), что упали в обморок от восторга, прослушав речь Достоевского!
Пророк пророком, а святым не был. Среди страстей его была и пагубная – это рулетка. Тоже не совсем обычная для русской действительности, у нас ведь больше картами увлекались. Но, по счастью, в России не было казино, отношения с рулеткой он мог выяснять лишь за границей. Почему человек столь азартный, по природе своей игрок, был равнодушен, в отличие от многих своих современников (в том числе и писателей), к игре в карты? А кто его знает… Думаю, Достоевскому с его состраданием к чужим неудачам и бедам в принципе было дико радоваться любой победе над кем-то – другое дело рулетка, где нет перед тобой живого противника, где проиграть способен лишь ты сам и больше никто. Рулетка – это вызов самой судьбе, испытание судьбы, и это еще всегда отчаянный жест, потому что шансы у игроков заведомо неравные. Он был игроком по существу, по складу своего характера. Но сказать, что Достоевский играл с судьбой, – это ничего не сказать: сама судьба отвечала ему с какой-то удивительной выразительностью, словно признавала в нем достойного противника. Он ее искушал – она подбрасывала ему испытания. Он с легким сердцем залезал в долги, чтобы потом прятаться от кредиторов. Подписывал самоубийственный контракт с нечистоплотным издателем, едва не обрекая себя на литературное рабство. Убеждал брата издавать вместе с ним журнал, и это в самый неподходящий момент, когда уже невозможна подписка. Он легко затевал предприятия, заведомо провальные, разорительные, вновь и вновь бросая вызов судьбе. Судьба отвечала красиво и сильно: все-таки четыре года в кандалах – это тоже ответ… Или, скажем, когда счет идет не на годы, а на дни и часы и надо успеть согласно контракту доделать неподъемный текст к стремительно приближающемуся сроку, ибо ставка – твоя литературная независимость, свобода: опоздаешь – и лишишься всех прав на свои сочинения, даже на еще не написанные, станешь литературным батраком при хозяине-издателе, хуже – литературным рабом… Он успел! Совершил невероятное: продиктовал «Игрока» в течение считанных дней, еще остававшихся до срока (тема романа более чем подходящая для данной критической ситуации), да еще в итоге влюбился, а потом и женился на стенографистке, самоотверженно ему помогавшей, и это в конечном итоге оказался счастливейший брак!.. Не будем утверждать, что судьба была к нему милостива. Он не раз оказывался на грани катастрофы, страданий натерпелся сполна. И все-таки суровая судьба, как непобедимый игрок, была к нему по-своему снисходительна, словно благородно пренебрегала форой, которую он ей безоглядно и безотчетно давал. Достоевский прожил интереснейшую жизнь и ушел из нее победителем.
Мы не можем не сказать о болезни Достоевского. Да ведь недуг у него был тоже далеко не банальный – эпилепсия, «болезнь пророков», в древние времена считавшаяся священной. Припадки с потерей сознания и судорогами были мучительными, пена на губах и закатывающиеся глаза наводили на свидетелей приступов ужас, Достоевский подолгу приходил в себя, выбитый из ритма жизни, и все же было во всей этой жути нечто такое, что считал он даром судьбы. Нам трудно представить тот опыт (которым он дорожил) особого восприятия реальности в секунды, предшествующие припадку. Это так называемая аура – от греческого «дуновение», «ветерок». В случае с Достоевским «ветерок-дуновение» проявлялся сверхъярким, чрезвычайно сильным переживанием счастья и чувством всепронизывающей гармонии. В это предшествующее припадку мгновение он словно проваливался в иное измерение, всеобъемлюще воспринимая реальность и переживая вместе с тем сильнейший восторг. Какого рода зрение ему открывалось, нам дано лишь догадываться в силу наших способностей фантазировать. Пишут, что в зарубежной психиатрии используется специальный термин «эпилепсия Достоевского», то есть и здесь Федор Михайлович высказал себя исключительным образом (щедро «одарив» своею болезнью целый ряд персонажей). Не знаю. Пускай. По свидетельству современника, он признавался, что в те предприпадочные секунды испытывает «такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди».
Но о другом тоже надо сказать – не о болезненном счастье пребывания в иных, недоступных нам эмпиреях, а о земном, здешнем, посюстороннем.
Даже если болезнь не брать в расчет, Достоевский, бесспорно, обладал обостренным восприятием мира.
И что касается счастья, позволим себе заявить: он прожил не только богатую на события жизнь, но и очень счастливую жизнь. Наверное, это покажется странным тем, кто считает его только певцом страданий, и тем, кто хочет в нем узнавать только страдальца. Воля ваша, но Достоевский – это тот, кто знал, и знал больше других, что такое счастье. Счастье он переживал чувственно, остро, порой исступленно – и отнюдь не всегда за секунду до приступа. Письма его – и молодого, и зрелого человека – полны признаниями в счастье. Он и в Петропавловской крепости за два дня до отправки на каторгу ощущал себя счастливейшим из счастливых: «…жизнь – счастье, каждая минута могла бы быть веком счастья». Счастье – это восприятие жизни как дара. Счастье – это единение с миром. Счастье – это преображение души. Счастье – творчество. Счастье – любовь.
Не благополучие и не удачное стечение обстоятельств, счастье – это удар, то, что выше сил человеческих, и то, что в силу своей избыточной полноты делает человека другим, преобразует душу. Оно не исключает страдания, но оно сильнее страдания. Чудом счастья испытаны любимые герои Достоевского. Князь Мышкин, знающий больше других о гармонии мира. Алеша Карамазов, обнимающий землю в звездную ночь и не умеющий понять, что с ним происходит. Вот и Раскольников, угрюмый Раскольников-каторжанин, озлобленный на весь мир, в итоге испытал всю мощь этой очистительной силы. «Он плакал и обнимал…»
«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…» – ну, эти слова Анны Ахматовой, понятно, к поэзии относятся. А что с прозой?
Чтобы представить, при каких обстоятельствах рождался один из величайших в мире романов, надо вообразить себе захудалую гостиницу в немецком городе Висбадене и растерянного голодного постояльца, застрявшего здесь по причине полного безденежья. Достоевскому скоро сорок четыре, он вдовец. Он весь в долгах. Дела его разлажены, нервы его на пределе.
Он приехал в Висбаден в надежде выиграть в рулетку.
Разумеется, проиграл. Проиграл все. Заложил золотые часы. Денег нет на еду – это полбеды, хуже – денег нет, чтобы заплатить за гостиницу. Чтобы выбраться из этой дыры, уехать. Пятидесяти гульденов, одолженных Тургеневым (вечным литературным соперником), мало. Достоевский взывает в письмах о помощи. Положение его самое отчаянное. Хозяин гостиницы угрожает полицией и, кажется, вот-вот потеряет терпение. Приходится делать вид, что уходишь обедать, тогда как просто болтаешься по городу три часа, дабы в отеле не догадались, как плохи дела у голодающего постояльца.
Вот в таких условиях и берется Достоевский за новое произведение. Единственное, на что он может рассчитывать, – это вознаграждение за писательский труд.
Он пишет письмо Каткову, издателю «Русского вестника». Он излагает замысел своего нового сочинения и просит прислать ему аванс – триста рублей. «Повесть» (речь пока идет всего лишь о повести) он обещает написать недели за две – за три. Он еще не знает сам, во что выльется замысел, не знает, что уйдет на работу два года и что в конечном итоге это будет большой роман в шести частях с эпилогом. Сиюминутная задача Достоевского – заинтересовать издателя, «зацепить» его, уж очень деньги нужны.
Это письмо, сохранившееся в черновике, цитируют почти всегда, когда речь заходит об идейном содержании «Преступления и наказания». Идейное содержание – это очень хорошо, но вот еще о чем нельзя не сказать: сие письмо есть документ поразительной творческой концентрации.
«Идея повести, сколько я могу предпола<гать>, не могла бы ни в чем противоречить Вашему журналу; даже напротив. Это – психологический отчет одного преступления.
Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению, и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях поддавшись некоторым странным “недоконченным” идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. Старуха глупа, глуха, больна, жадна, берет жидовские проценты, зла и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. “Она никуда не годна”, “для чего она живет?”, “Полезна ли она хоть кому-нибудь?” и т. д. Эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее, обобрать; с тем чтоб сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства – притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении “гуманного долга к человечеству”, чем, уже конечно, “загладится преступление”, если только может назваться преступлением этот поступок над старухой глухой, глупой, злой и больной, которая сама не знает, для чего живет на свете, и которая через месяц, может, сама собой померла бы. <…>
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.