Текст книги "Манифесты русского идеализма"
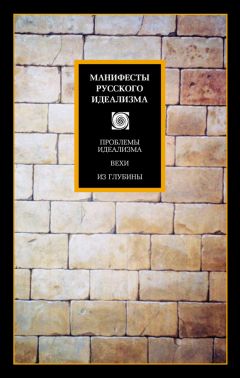
Автор книги: Вадим Сапов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 64 (всего у книги 92 страниц)
«Русская церковь в параличе».
Достоевский124*
«От востока звезда сия воссияет».
Он же125*
Светский богослов. Вы забываете самое важное. Вы упускаете из виду ценнейшее завоевание русской жизни, которое одно само по себе способно окупить, а в известном смысле даже и оправдать все наши испытания. Это – освобождение православной русской церкви от пленения государством, от казенщины этой убийственной. Русская церковь теперь свободна, хотя и гонима. А свободная церковь возродит и соберет и рассыпанную храмину русской государственности. Ключ к пониманию исторических событий надо искать в судьбах церкви, внутренних и внешних. Здесь лежит ее внутренняя закономерность.
Генерал. Кажется, что церковь и сама порядочно обольшевичилась за время революции? Ведь что же происходило на церковных съездах в разных местах России?
Светский богослов. Это было лишь поверхностное движение, захватившее наиболее неустойчивые элементы: некоторых обновленческих батюшек да церковных с.-д.: социал-диаконов и социал-дьячков, с некоторыми крикунами из мирян. Странно было бы, если бы этого не проявилось. Но теперь это можно считать почти ликвидированным. Волна революции разбилась у церковного порога. Церковь смиренно, но твердо отразила революцию. Посмотрите, что делается на церковном соборе126*? Вот если где куется духовное оружие к возрождению России, то, конечно, именно там и только там.
Дипломат. А я снова повторяю, что уж если искать виноватых в той народной беде, которая связана с революцией, то наиболее тяжелая ответственность лежит на русской церкви. Я даже не говорю о раболепстве и молчальничестве высшей иерархии, – это уж у всех на зубах застряло. Но церковь обнаружила здесь и культурную свою несостоятельность, прямо оказалась в историческом банкротстве. Как ни мало было оснований верить грезам о народе-богоносце, все же можно было ожидать, что церковь за тысячелетнее свое существование сумеет себя связать с народной душой и стать для него нужной и дорогой. А ведь оказалось то, что церковь была устранена без борьбы, словно она недорога и ненужна была народу, и это произошло в деревне даже легче, чем в городе. Слой церковной культуры оказался настолько тонким, как это не воображалось даже и врагам церкви. Русский народ вдруг оказался нехристианским, недаром теперь хлопочет о его просвещении американская миссия, совсем как in partibus infidelium127*. А что же приходится сказать о влиянии церкви на общую методику жизни, на дисциплину труда? Что может здесь противопоставить православие всем западным исповеданиям и особенно протестантизму, явно побеждающему в этой войне? Страшный исторический счет предъявлен церкви революцией. Я и не знаю, будет ли она в состоянии его оплатить.
Светский богослов. Вы судите о церкви, как и большинство русского общества, откуда-то извне, со стороны: вот существует там, у простого народа, которому и Вольтер разрешил Бога выдумать, его мужицкая церковь. Ей вы холодно и надменно ставите неудовлетворительную отметку на историческом экзамене, на котором сами-то проваливаетесь еще безнадежней. Это и есть наше главное несчастье: образованный класс по отношению к церкви занял положение безответственной оппозиции, он только требует и критиканит, вместо того чтобы самому стать в рабочую запряжку и принять на себя свою долю ответственности. Попробуйте сделать это, и сразу весь ваш критический пыл погаснет, потому что воистину трудна работа Господня128* и проклят всяк делающий ее с небрежением129*. Я вам отвечу, что если вы правы и если церковь действительно оказалась не на высоте исторических своих задач, то из этого можно сделать лишь один практический вывод: надо быть церковным более чем когда-либо и чувствовать свою личную ответственность за исторические судьбы церкви. Церковность обязывает.
Генерал. Да, церковность обязывает – и прежде всего к правдивости и искренности. И поэтому все-таки приходится сказать, что у нас, в православии, не все благополучно. Есть какой-то внутренний, обессиливающий его недуг, и лучшее тому доказательство – революция. Разве же она не есть громовое свидетельство об упадке православия? Соль обуяла130*, и оттого стало разлагаться осоляемое ею тело. Разве имела право церковь без борьбы отказаться от священной власти? Она совершила предательство, от которого еще умыла руки, вот теперь и наказуется за это гонением.
Светский богослов. От идеи священной власти и христианской государственности церковь принципиально не отказывается и теперь, а от распутинствующего царя она должна была бы отказаться и раньше, как только выяснилось, что Россия управляется вдохновениями хлыста. В этом попустительстве был, действительно, великий грех и иерархии, и мирян, впрочем, понятный ввиду известного паралича церкви, ее подчинения государству в лице обер-прокурора. Слава Богу, теперь церковь свободна и управляется на основе присущих ей начал соборности.
Генерал. Но я никак не пойму, кто же может освободить церковь, кроме нее самой? Неужели временное правительство или эта, с позволения сказать, республика российская? Если был, действительно, внешний паралич церкви, то он был и внутри, и я уж не берусь судить, излечилась ли от него церковь. А что он был, это для меня ясно: в самую роковую минуту истории не умели уберечь царя от Распутина! Где же сила апостольской церкви, где власть решить и вязать? Я не мистик, но не могу отделаться от мысли, что злые силы потому и могли мобилизовать Распутина, что не оказано было противодействия. И там, где должно было раздаться слово апостольское, дело решила шальная офицерская пуля131*. Но ведь пулей нельзя бороться с мистическою силой. Вот и вышло, что распутинская кровь, пролившись на русскую землю, отродилась на ней многоглавым чудовищем большевизма, социальным хлыстовством с явным оттенком садизма. Я не знаю, можно ли справиться с этим параличом одним восстановлением соборного строя.
Светский богослов. На эти сомнения можно и должно отвечать не словом, а только делом, жертвою. Надо возрождать церковную жизнь, – это сейчас самая важная патриотическая, культурная, даже политическая задача в России. Только отсюда, из духовного центра, и может быть возрождена Россия, а потому и собор наш я признаю самым важным событием новейшей русской истории, а в частности и революционной эпохи, со всеми переменами декораций и партийными бурями в стакане воды. Я знаю вкус и цену всему: и политике, и экономике, и культуре, но теперь я решительный клерикал, и для блага церкви меня не тяготит даже такая работа, для которой бы я пальцем о палец не ударил ради империализма этого безбожного.
Общественный деятель. Признаться вам сказать, я все-таки не понимаю, какое же общерусское значение может иметь работа собора помимо чисто профессиональных интересов духовенства?
Светский богослов. Я отвечу вам на это парадоксом: в России имеет культурную будущность только то, что церковно, конечно, в самом обширном смысле этого понятия. И с оцерковлением русской жизни только и могут быть связаны надежды на культурное возрождение России. Ведь вот теперь производится в грандиозных размерах эксперимент безбожной, «социалистической» культуры. И посмотрите, как бессильна и бесплодна оказывается она по всей линии, и прежде всего в самом жизненном для нее вопросе – дисциплины труда. Все развалилось, рабочая «годность» упала, и для восстановления ее не остается ничего, кроме социалистических скорпионов132*. Без воспитания церковного нам не восстановить ни народного хозяйства, ни государственности. Но мои-то пожелания идут дальше: мне мечтается духовное завоевание русской школы, ее внутренняя, так сказать, «клерикализация», чтобы была, наконец, засыпана эта пропасть между церковью и светским просвещением.
Писатель. Я понимаю вас. Согласен, что скромно и бесшумно, в атмосфере общественного равнодушия, на соборе творится дело величайшей важности. Помоги вам Бог в вашей работе. У меня шевелится только одно, неразрешенное для меня сомнение: до сих пор собор действует, на мой взгляд, как церковно-учредительное собрание, вырабатывающее своего рода конституцию, Это, конечно, и неизбежно при чистке вековых авгиевых конюшен, но боюсь, не получился бы здесь своего рода церковный кадетизм, «конституционно-демократическое» православие. Я этого чистенького, правового православия, признаться сказать, побаиваюсь, да и очень легко в нем может клерикализм угнездиться, самый опасный. Как бы нам уж чересчур не отполировать нашего православия из корявого, черносотенного, но зато ядреного и бесконечно милого древнего благочестия.
Светский богослов. Такое опасение может возникнуть только со стороны, вне атмосферы соборной. В том-то и дело, что важнее и существеннее всех этих работ является дух церковности, жизненное наше воцерковление. Какое это счастье – ощущать всю реальность церковного общения, всю эту силу соборного единения всех элементов церковности: епископата, клира и мирян. У нас нет оснований бояться церковного юридизма. А затем, разве же вы не замечаете начавшегося церковного подъема, который еще даст свои плоды общего оживления приходской жизни?.. К числу счастливейших дней моих принадлежит 28 января этого года, день всенародного крестного хода в Москве, когда силою молитвенного восторга исторгалось пасхальное пение на зимней мостовой. И эта готовность тысячных толп пострадать за веру, пасть от пули… Кровью мучеников уже омываются исторические грехи церкви, убеляются ее ризы133*.
Писатель. Да, это воистину так. Новая могучая сила входит в русскую жизнь, спасительная и целительная. Лишь бы она не пошла на убыль так же быстро, как и народилась. К сожалению, это ведь в русском характере.
Дипломат. Мне тоже кажется, что надо с большою осторожностью расценивать этот религиозный подъем. Ведь он вызван дикими мерами большевиков, поставивших церковь в безвыходное положение. Необходимая самооборона неизбежно вызывает соответствующую реакцию, и недаром эти крестные ходы так соблазнительно напоминают демонстрации. Они имеют некоторый привкус растерянности и испуга, еле заметный среди общего воодушевления. На мой взгляд, для церкви одинаково опасны обе крайности: катастрофическое потрясение вследствие гонения и реставрация с восстановлением привилегий князей церкви. Ведь все они воспитаны старым режимом, который им снится как потерянный рай.
Светский богослов. Теперь для церкви уже не страшна никакая реставрация. Она не поступится свободой, сладость которой она познала, и не откажется снова от канонического своего строя, который был поруган в синодальный период134*. Надеюсь, что и для владык наших нет уже возврата к прошлому, когда они были в плену собственного положения, запертые в своих архиерейских домах. Произошла их встреча с церковным народом, и он их уже от себя не отпустит, да и они не захотят с ним разлучаться. Однако не могу отрицать, что для церковного роста необходим прилив сил, привычных к свободной творческой инициативе, и среди клира, и среди мирян. Вот почему такое значение имеет теперь приближение интеллигенции к церкви. В отрыве от церкви она погибнет, но и церкви не справиться со своими очередными задачами без прилива свежих сил. А при этом условии не страшна ей реакция. Церковь приобретет независимость и упругость вместе с навыками к борьбе и окажет противодействие новому насилию.
Генерал. Ждите смокв от репейника135*! Нет, интеллигенцию лучше совсем из счета выкинуть. Надо думать, как своими средствами, без нее обойтись. Вообще трудно уже надеяться на всенародное движение к церкви. В лучшем случае она будет окружена кольцом неверия и равнодушия, а в худшем – может продолжаться и прямое гонение, только в культурных формах, примерно как во Франции. Я человек военный и привык рассчитывать практически не на лучшее, а на худшее: – к катакомбам надо готовиться, вот что! И затем – я плохо, конечно, разбираюсь в этих вопросах, но меня дивит, что многие связывают какие-то особые надежды с реформой прихода, которая фактически сведется лишь к его «демократизации», т. е. к засилию улицы и к церковной демагогии.
Светский богослов. Но разве церковь в своей борьбе с насильниками может теперь опереться на что-нибудь помимо церковного народа? Вот и происходит повсеместная его мобилизация. Появление настоящей церковной демократии есть одно из знаменательнейших явлений русской жизни за революцию.
Беженец. А все-таки едва ли можно влить новое вино в старые мехи, и теперешний приход держится больше ради удобства, но не есть живая церковная единица. Ведь наиболее живые члены церкви обычно не удовлетворяются одним приходом, но ищут других форм религиозного объединения. Для меня является даже вопросом, есть ли вообще это новое вино в «широкой» церкви, в ее толще, и даже на соборе, который является своего рода смотром церковных сил. Может быть, мои впечатления от собора и недостаточны, однако они говорят мне, что здесь много благочестия, верности преданию, ну, староверия, что ли, в самом лучшем, самом положительном смысле, но движения религиозного здесь нет, по-видимому, даже мало вкуса к религиозным вопросам, догматического волнения. Разве это на самом деле собор? Церковно-учредительное собрание – да! Да и откуда же было явиться иному? Ведь и в правящих, и в ученых кругах, в сущности, царит одинаковое равнодушие к религиозным вопросам, прикрываемое то напыщенным важничаньем, то староверием. Сыты. Нет жажды, нет тревоги. Нужны ли примеры: как отнеслись к огнепалящему вопросу о почитании имени Божия136*? В сущности, никак, с ледяным равнодушием, если не говорить о приметавшихся сюда личных самолюбиях. Было ли замечено грандиозное явление мистической литературы – «рукописи» А.Н. Шмидт, в которых дан, может быть, ключ к новейшим событиям мировой истории137*? Какая беспомощность в вопросах оккультизма и вообще антропологии! Впрочем, это все частные примеры, о которых можно спорить и отводить их в качестве ересей, но все-таки остается тот факт, что и на соборе, как и вне его, царят догматическая вялость и спячка, а при таком условии мы даже права не имеем притязать на настоящий собор, кроме как на созванный сверху, по щучьему веленью, по обер-прокуророву хотенью. Вселенские соборы возникали тогда, когда церковная жизнь доходила до точки кипенья, при которой единственным жизненным исходом могло быть только «изволися Духу Св. и нам»138*. А это не собор, а лишь всероссийский церковный съезд, облеченный чрезвычайными полномочиями. Только всего.
Светский богослов. Все это совершенно неверно. Легко критиковать, да еще с налету, по случайным впечатлениям, но нужно войти в самую гущу соборной работы, изо дня в день участвовать в соборной жизни, чтобы оценить всю беспримерность этой работы и по напряженности, и по плодотворности, и по быстроте. Я участвовал в разных собраниях, и ученых, и политических, и утверждаю, что такой просвещенностью, добросовестностью, вообще «годностью» не обладает у нас никакое собрание. Можно излечиться от всякого скептицизма относительно судеб России, бывая на заседаниях собора. А что касается мнимого равнодушия к вопросам догматическим, то ведь всякому овощу свое время. Надо нам сначала очередные задачи разрешить, вымести из храма веками накопившийся сор, тогда и придет уже время для догматических вопросов. Впрочем, в церковной жизни вообще нет недогматических вопросов, и всякий вопрос ее устройства связан с основами церковного вероучения. Конечно, на соборе нет той нервности и самосочинительства, авантюризма религиозного, которые столь обычны у представителей «нового сознания»139*, у разных мистиков, оргиастов, антропософов, теософов и под. У них погоня за пикантностью нередко уничтожает чувство действительности. Еще не хватало бы на соборе излюбленные их вопросы «третьего завета»140* обсуждать, о поле, например. Нет, на соборе не должно быть места для хлыстовщины.
Беженец. Да, о разводе говорили много, но о таинстве брака, по существу, суждений что-то не было. Вероятно, все достаточно ясно из катехизиса.
Светский богослов. Да, все достаточно ясно, если не напускать хлыстовского тумана или разных «третьезаветных» ересей.
Беженец. И все-таки я остаюсь при убеждении, что теперешнее православие имеет характер староверия и глухо к вопросам, которые ставятся для него его же собственной жизнью. Я не осуждаю староверия, напротив, я нахожу, что в известном аспекте церковь и должна быть именно староверческой, связанной священным преданием, в котором при этом все одинаково важно и существенно, в этом принципиально правы старообрядцы. Но для нее, как для церкви воинствующей и пребывающей в истории, одно лишь староверие явилось бы насильственной остановкой времени. В такое положение именно и попало наше старообрядчество: здесь церковная история заканчивается в 17 веке, и далее место ее заступает церковная археология. Положение трагическое, которого, может быть, не осознали еще во всей остроте старообрядцы.
Светский богослов. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Никаких новых событий в церковной жизни не произошло, вся эта политическая шумиха и даже катастрофа не достигает глубины церковной жизни. И вообще православие останется до конца мира самим собой как «единая, соборная, апостольская церковь».
Беженец. Единая соборная апостольская церковь, конечно, пребудет до скончания века. Но адекватно ли ей теперешнее греко-российское православие, это вовсе не так бесспорно. Я же лично полагаю, что мы фактически уже перешли за грань исторического православия, и в истории церкви началась новая эпоха, ну, по меньшей мере, столь же отличная от предыдущей, как, напр<имер>, доконстантиновская эпоха отличается от ей предшествовавшей. Эта же, константиновская для Византии закончилась уже в 1453 году141*, а для всей православной церкви 2 марта 1917 года. Падение самодержавия есть грань в истории церкви, и думается, что изгладить ее не может уже никакая реставрация по немецкому образцу.
Светский богослов. Вы повторяете распространенный предрассудок о том, что православие и самодержавие связаны между собою так, как это утверждают черносотенцы или же явные враги церкви, политиканствующие литераторы вроде Мережковского, который вел флирт с революцией142*, пока она не показала настоящих своих зубов. Никакой связи между православием и самодержавием, кроме как исторической, вообще нет, и это воочию подтвердилось теперь, когда православие получило, наконец, свободу и его никто уже не может попрекать союзом с самодержавием.
Беженец. А все-таки эта связь существовала, не внешняя только, но внутренняя, мистическая, да это и соответствует исконному самосознанию православия от св. Константина и до наших дней. Церковь сосредоточивала особую любовь на своем помазаннике, как возлюбленном, отрасли Давида, женихе церковном. Всмотритесь в литургику, которая калечится теперь механическими ампутациями, помимо витийства придворного и раболепства вы ощутите эту мистическую любовь. Церковь сознавала, что во «внешнем епископе»143*, «викарии Бога на земле» она имеет зодчего града Божия, блюстителя вертограда церковного. Иначе православие ведь и не мыслило свою историческую миссию созидания Божьего Царства на земле. Когда пала Византия, бармы144* Мономаховы перенесены были в полуночные страны, и наши благочестивые предки с полным основанием осознали Московию «Третьим Римом»145*.
Светский богослов. Вы навязываете православию догмат о самодержавии и приписываете ему ересь цезарепапизма, или папоцезаризм146* навыворот, латинскую ложь. Хотя он и появлялся в истории как злоупотребление и попустительство, зато никогда не возводился догмат, как в католичестве. Придворному этикету, проникавшему, к сожалению, и в литургику, вы приписываете принципиальное значение, которого он не имеет.
Беженец. Если считать догматом только то, что получило формулировку на вселенских соборах, то, разумеется, не только нельзя говорить о вероучительной основе самодержавия, но и о многих церковных учениях, имеющих бесспорно догматическое значение, напр<имер>, о почитании Богоматери, о таинствах и многом другом. Что самодержавию придавалось не только религиозно-практическое, но и вероучительное значение в истории православия, едва ли можно оспаривать. Вне этого предположения становится сплошным недоразумением история Византии, в частности история вселенских соборов, на которых за царями признавались известные церковные права, да и вся история русского Самодержавия. Церковь славит св. Константина как «первого царя в христианстве, от Бога скипетр восприявшего», мыслит его как теократический орган. Да чего далеко ходить: вы знаете, как ставился у нас этот вопрос еще недавно в чине анафематствования, совершаемом в неделю православия?
Светский богослов. Мало ли чем было засорено наше богослужение за императорский период. Одни эти бесконечные поминовения чего стоят. И как просияло оно теперь, когда этого нет: словно икона, которая промыта и освобождена от вековой копоти и грязи.
Беженец. Однако нельзя же все, что нам не нравится, считать злоупотреблением. Так вот в анафематизмах этих перечисляются главные догматические ереси, смущавшие и потрясавшие церковь, – ариева, македониева147* и под. А в ряду их стоит под номером 11-й следующее: «помышляющим, яко православные государи возводятся на престол не по особливому о них Божию благоволению и при помазании дарования Св. Духа к прохождению сего великого звания в них не изливаются: и тако дерзающим против них на бунт и измену – анафема».
Светский богослов. Несомненно, анафематизм этот политического происхождения, потому он с мудрой решительностью уже исключен новой церковной властью.
Беженец. Однако есть и теперь такие, которые полагают, что Россия навлекла на себя эту анафему, и видят в этом первопричину всех наших бед, потому что анафема не мимо молвится, не пустое это слово, бессильно падающее в воздухе.
Генерал. Вот это верно! Я не умел этого выразить, но чувствовал смутно все время, что над Россией тяготеет нечто роковое. И ярче всего это выразилось на судьбе армии и ее вождей. И ведь посмотрите, как ощущается мистическая сила присяги даже безбожным правительством, тоже измыслившим «социалистическую присягу», – совсем по Апокалипсису, «печать зверя»148*.
Дипломат. Ребяческому пристрастию к помпе и буффонаде вы готовы придавать серьезное значение. И насчет мистического значения присяги вы тоже фантазируете. Винить же генералов, которые столько настрадались от всяких «сфер», можно только под влиянием мистического предрассудка. Они должны были принести в жертву даже свой монархизм из любви к родине.
Генерал. И за эту жертву понесли немедленную же кару вместе с армией. Умейте же внимать голосу истории.
Светский богослов. И все-таки в союзе православия и самодержавия ничего мистического я не вижу. Православие процветало не только в Москве, но и в северно-русских республиках, где осуществился величайший подъем национального творчества: иконописи, храмостроительства. Оно жило под Батыем, живет под султаном, как и теперь под большевиками. И связывать его судьбы с самодержавием можно, только закрывая глаза на его историю.
Беженец. Вы указываете на провинциальные центры православия, которые существуют при главном, но не через них проходит его магистраль. Православие со времен Константина имело всемирно-историческое задание – установить православную теократию единую, как едина и церковь. Вот куда метила идея второго и третьего Рима. К тому же стала стремиться и папская власть своей волей к миродержавству. На этой почве произошел и великий раскол церковный. На путях теократии встретились соперниками первосвященник-царь и царь-первосвященник. Здесь вовсе не о честолюбиях пап и не о замашках цезарепапизма идет речь, но о плане строительства Града Божия. Неумолимая история одинаково поставила крест и на западных, и на восточных замыслах, крушение западной иерократии произошло уже давно, восточной же совершилось только теперь. Великий спор Востока и Запада ныне исчерпан и упразднен. В 1917 году окончилась константиновская эпоха в истории церкви и началась следующая, имеющая аналогию в эпохе гонений и катакомбном периоде существования церкви.
Дипломат. Можно, пожалуй, опасаться, что еще не совсем окончилась, если только нам придется испытать прелести реставрации, конечно, germanis auxiliis149*. Впрочем, новейшая наша «теократия» петербургского периода и без того была полунемецкой и, значит, наполовину замешана была на дрожжах протестантизма.
Беженец. Я не отрицаю возможности того, что у нас может восстановиться буржуазно-конституционная монархия прусского образца, со всем декорумом «правового государства». Но это будет лишь последняя ступень упадка великой «священной империи», «православного царства». Оно рушилось и возродиться могло бы только из недр церковного сознания. И историческая межа проведена здесь все-таки Распутиным, с его миссией лжепророка. Мистический смысл и значительность явления Распутина вами недооценивается.
Светский богослов. А вами измышляется в угоду болезненной мистической фантазии, видящей апокалипсис там, где уместна лишь половая психопатология. И какой-нибудь разницы между старой монархией и реставрацией, если только она возможна, я в религиозном отношении не вижу. Это есть вопрос политической целесообразности, которого я здесь не обсуждаю, но церковь должна150* навсегда сохранить свободу и независимость от государства при всяком политическом строе. Государство должно, конечно, даже по соображениям политической мудрости, оказывать содействие церкви при достижении ее целей, но церковь не должна151* идти далее простой корректности к государству, не допуская снова романтики раболепства и отнюдь не заводя себе нового «жениха», как вы изволили выразиться.
Беженец. Да, только это будет уже не православие, как оно было до сих пор.
Писатель. Но куда же девается у вас православие? Вы понимаете его как-то по-своему, необычно.
Беженец. Я, действительно, думаю, что православие в точном церковно-историческом смысле не имеет ни будущего, ни настоящего, а только прошлое. Мы находимся уже за его гранью. С падением православного царства оно получило неисцельную рану, надо это прямо признать. Теократия по образу священной империи не удалась, точнее, ее значение оказалось только предварительным, преобразовательным, а не свершительным. И знаете ли? Это означает, что и старая греко-римская распря потеряла уже свою остроту. Ибо не из-за догматов она первоначально возникла, а из различного понимания путей теократии. И обе церкви прошли этот свой путь до конца и уперлись в тупик, потерпели неудачу, если только, впрочем, можно считать неудачей всякое закономерное развитие, изживающее себя до конца. В этом смысле, пожалуй, можно объявить неудачей и весь исторический процесс, что, конечно, будет неправильно. Вот почему теперь с какой-то новой свежестью и пленительностью встает перед нами старый вопрос о соединении церквей, к которому зовет и нудит нас грозный исторический час, надвигающийся для всего христианства.
Светский богослов. Да, для отцов иезуитов теперь самое время для ловли рыбы в мутной воде. Недаром уния152* так распространяется на Украине, согласно давно уже задуманному Шептицким, совместно с австро-германским генеральным штабом, плану. Теперь больше, чем когда-либо, необходима война с католицизмом153*, и как ни мало могу я сочувствовать анафемствованию католичества, говорят, провозглашенному на киевском соборе митр. Антонием, однако должен признать, что против Шептицкого нужен и Храповицкий.
Беженец. Не являются ли скорее они оба, и Шептицкий и Храповицкий, представителями прошлого, отживающей уже эпохи?154* Надвигается общий враг на все христианство, пред лицом которого православию и католичеству уже нечего становится делать. Догматические различия никогда здесь не имели решающего значения, они могут и должны быть сглажены при искреннем и любовном желании понять друг друга. В сущности, и католичество становится уже не то, как и православие. Нечто происходит здесь, видимое пока немногим, единицам, родится новое ощущение вселенской церкви. Если это чувство расширится и углубится, то потеряют сами собою силу все бесконечные пререкания, целые библиотеки, по этому поводу написанные. Все обессилеет перед стихийным влечением к единению во Христе.
Светский богослов. Сознаюсь, что совершенно вас здесь не понимаю. Ведь это тот же интернационализм, только иначе перелицованный. Раньше всех у нас его стали проповедывать русские иезуиты155* и вообще католизирующие, как, наприм<ер>, Чаадаев156*, им довольно неожиданно, хотя и по-своему, протягивает руку в своей пушкинской речи Достоевский157*, который вообще-то знал настоящую цену католичеству; потом за это принялись либералы, марксисты, вплоть до нынешних товарищей. Теперь вы снова проповедуете интерконфессиальное братание в то время, когда надо охранять фронт от коварного врага.
Беженец. В том-то и дело, что фронт должен быть обращен вовсе не туда. Настоящий враг наступает на эти оба раздробленные и тем обессиленные фронта.
Светский богослов. Чего же вы хотите: вероисповедного безразличия или унии, модного теперь «католичества восточного обряда»?
Беженец. Ни того, ни другого. Нахожу, что теперь необходимо быть церковным более чем когда-либо, потому что ничто так не наказуется, как церковная беспочвенность. И практически я, если угодно, – клерикал, дорожащий каждой йотой в православии. Ведь только от полноты жизни церковной можно чаять духа пророчественного, полноты свершений, а не из сект или салонов. Надо быть абсолютно церковным и в смысле внешней дисциплины, потому нельзя позволять себе таких экспериментов самочинного соединения церквей, как Вл. Соловьев с его тайным присоединением к католичеству и в то же время пребыванием в православии158*, и в смысле внутренней верности, любви ревнующей, напряженной, требовательной, взыскующей. Этого-то как раз и не хватало славянофильству: они были верны православию рыцарски и благородно, но при этом оставались чересчур спокойны и сыты. А сытость не есть полнота и блаженство.
Светский богослов. Та религиозная неврастения, которая составляет отличительную черту современного хлыстовства, была действительно чужда этим мужественным борцам за православие, каким был Хомяков вместе с другими славянофилами. Мне кажется, что именно дух Хомякова витает на церковном соборе, утверждая его в уравновешенности, устойчивости и спокойной, радостной ясности.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































