Текст книги "Манифесты русского идеализма"
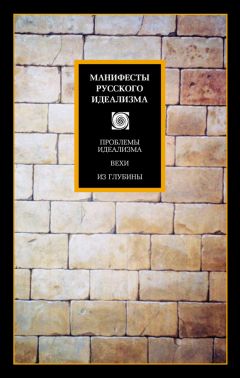
Автор книги: Вадим Сапов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 84 (всего у книги 92 страниц)
Освобождение кончено для них, найден Град: “17 октября 1905 года мы подошли к поворотному пункту, – утверждает Изгоев. – Мы – на пороге новой русской истории, знаменующейся открытым выступлением, наряду с правительством, общественных сил”. – Это ведь и значит: найден Град.
Вот с чем никогда не согласится русская интеллигенция: она может быть раздавлена, похоронена заживо, но не смешает настоящего Града с грядущим, Вавилона с Иерусалимом. И в этом, без имени Божьего, она ближе к Богу, чем те, у кого Он с языка не сходит, и для кого чаяние. Града, по откровенному заявлению Струве, есть “апокалипсический анекдот”» (Мережковский Д.С. Полное собрание сочинений. СПб.–М., 1911, т. XII, с. 73–76).
С.Н. Булгаков никак не отреагировал на выступление Мережковского. Семью годами ранее он писал о своем «негодовании, даже омерзении, какое испытал, читая разглагольствования г. Мережковского, этого Иудушки новейшей формации», по поводу русской церкви в его статье о Л.Н. Толстом и Достоевском (Освобождение. 1902, № 6, с. 86).
Ответили Мережковскому кн. Е.Н. Трубецкой на страницах своего журнала «Московский еженедельник» и С.Л. Франк (в статье «Мережковский о “Вехах”» // Слово. 1909, 28 апреля). Мережковский, пишет Е.Н. Трубецкой, видит одно из «любопытных доказательств» «реакционности» сборника «Вехи» в словах Булгакова [следует цитата – комментируемая фраза С.Н. Булгакова]. Далее он пишет: «Тут Булгаков не делает вывода; но, по словам Д.С. Мережковского, «вывод ясен: если революция – разрушение, ненависть и отрицание, то реакция – восстановление разрушенного – созидание; угашение ненависти – любовь; отрицание отрицания – утверждение; и, наконец, если революция – антирелигия, то реакция – религия, а, может быть, и обратно: “религия – реакция”, вывод, давно уже сделанный врагами религии».
Из посылок Булгакова можно сделать сколько угодно других выводов: можно вместо реакции взять понятие “мирного прогресса”, которое также противоположно понятию революции.
Тогда в качестве “отрицания отрицания” прогресс, а не реакция будет равен религии. Вообще, способом Мережковского можно доказать что угодно; но элементарная логическая ошибка, заключающаяся в его рассуждении, уже в достаточной мере разоблачена г. Франком.
Силлогизм, который кажется Мережковскому чрезвычайно убедительным, в действительности, по своей формально-логической природе тождествен со следующим: если верблюд не есть слон, а противоположность слона есть муха, то, следовательно, верблюд есть муха; или: кто не удовлетворен красным цветом, тот, следовательно, любит черный, ибо черный цвет есть “отрицание” красного. В элементарной логике такая ошибка зовется смешением контрадикторной противоположности, не допускающей ничего третьего, с противоположностью контрарной, в пределах которой допустимо многое третье. И именно эта логическая ошибка есть опорная точка всего рассуждения Мережковского» (Московский еженедельник. 1909, № 23, с. 4–5).
77* Правильный перевод этого бакунинского афоризма – Die Lust der Zerstorung ist auch eine schaffende Lust – «Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть». Слова из статьи М.А. Бакунина (опубликованной в 1842 г. по-немецки под псевдонимом «Жюль Элизар») «Реакция в Германии. Очерк француза». Рус. перевод см.: Корнилов А.А. Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1915, с. 198.
Эти же слова Бакунина цитирует в «Вехах» и С.Л. Франк (см. наст. издание, с. 607).
78* В 1-м изд. вместо «упрощенном понимании» – «понимании».
79* В 1-м изд. вместо «заменяемому» – «заменяемым».
80* В 1-м изд. вместо «не доходящей» – «не доходящего».
81* В 1-м изд. вместо «относительно» – «среди».
82* Впервые термин «педократия» употребил кн. С.Н. Трубецкой в статье «Быть или не быть университету», в которой он, в частности, писал: «Жандармократия, полицейское управление школой заменилось анархической педократией, вольницей студентов и гимназистов» (Русские Ведомости. 1905, № 54; Трубецкой С.Н. Собрание сочинений. М., 1906, т. 1, с. 85–88).
83* В 1-м изд. вместо «и для тех, и для других» – «и для старших, и для младших».
84* В 1-м изд. вместо «со своими порывами» – «своими порывами».
85* Е.Ф. Азеф (1869–1918) – известный провокатор, «человек, свыше 15 лет состоявший на службе в качестве тайного полицейского агента для борьбы с революционным движением и в то же время в течение свыше пяти лет бывший главою террористической организации партии эсеров – самой крупной и по своим размерам, и по размаху ее деятельности, какую только знает мировая история; человек, предавший в руки полиции многие и многие сотни революционеров и в то же время организовавший ряд террористических актов, успешное проведение которых остановило на себе внимание всего мира; организатор убийств министра внутренних дел Плеве, великого князя Сергея Александровича и ряда других представителей власти; организатор покушения против царя – покушения, которое не было выполнено отнюдь не по недосмотру “доброго” желания у его главного организатора, – Азеф является поистине еще непревзойденным примером того, до чего может довести последовательное применение провокации как системы.
Действуя в двух мирах – в мире тайной политической полиции, с одной стороны, и в мире революционной террористической организации, с другой – Азеф никогда не сливал себя целиком ни с одним из них, а все время преследовал свои собственные цели и соответственно с этим предавал то революционеров полиции, то полицию революционерам. В обоих этих мирах его деятельность оставила заметный след… Роль Азефа в обоих этих мирах была настолько значительна, что, не поняв ее, не проследив ее во всех ее деталях, историк не сможет понять многого в истории первой русской революции…» (Николаевский Б. История одного предателя. Террористы и политическая полиция. М., 1991, с. 18–19).
Азеф был разоблачен в самом начале 1909 г., что получило огромный резонанс в общественной жизни России. Со специальной речью в Гос. думе выступил глава правительства П.А. Столыпин (11 февраля 1909 г., см.: Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия…: Полное собрание речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. М., 1991, с. 188–206).
С тех пор имя «Азеф» стало синонимом предательства и провокации. У Маяковского, например, в поэме «Облако в штанах» (1914) есть строки:
Эту ночь глазами не проломаем,
Черную, как Азеф!
(Маяковский В.В. Сочинения. М., 1978, т. 1, с. 242).
Между тем в деле Азефа сокрыта некая «психологическая тайна» не только первой русской революции, но и всей истории России XX века. Эта «тайна» впервые была разоблачена и обнародована В.В. Розановым в его гениальном очерке «Между Азефом и “Вехами”».
«В истории Азефа, – пишет В.В. Розанов, – мало обратила на себя внимания следующая сторона дела. Первые вожди революции в течение десяти лет вели общее, одно дело с этим человеком, говорили с ним, видели не только его образ, фигуру, но и манеры, движения; слышали голос, тембр голоса, эти грудные и горловые звуки; видели его в гневе и радости, в удаче и неудаче; слыхали и видели, как он негодовал или приветствовал… И все время думали, что он – то же, что они. Как известно, подозрения закрались только тогда, когда были арестованы некоторые лица, о “миссии” которых исключительно он один знал: доказательство такое математическое, с помощью простого вычитания, что силу его оценил бы и гимназист 3-го класса. “Азеф один знал о таком-то Иване, о его покушении; не Азеф ли выдал?” Это – умозаключение из курса 3-го класса гимназии. Но ранее этого, но кроме этого… решительно не приходило в голову! Но и перед наличностью такого математического доказательства революционеры – не какие-нибудь, а вожди их, с целою историей за своей спиной – колебались. Например, Азеф бросился в ресторане на какого-то господина с записною книжкою, о котором “эс-эры”, бывшие тут, подумали, не шпион ли это? Они подумали, а Азеф уже бросился с кулаком на этого господина, и его едва оттащили. Он кричал: “Предавать святое дело революции!”
Так убедительно! Он называл революцию “святым делом”: “как же он мог быть провокатором?”
Об этом случае писали в свое время. Не обратили внимания, до какой степени все это значительно… крайней элементарностью!
Степень законспирированности, т. е. потаенности, укрывательства революции – чрезвычайна. Когда в “Подпольной России” Кравчинского читаешь о “знаках”, какие ставились вокруг конспиративной квартиры, и как по этим знакам сторожевых людей узнавали, что она свободна от надзора, и, идя в нее, не нарвешься на западню, – то удивляешься изобретательности и, так сказать, тонкости механизма. “Хитрая машинка”. Да, но именно машинка. Все меры предосторожности – механичны, осязаемы, геометричны и протяженны. Видишь западню и контр-западню. Все это в пределах темы о мышеловке. Мышеловка гениальна. Да, но самая-то тема – ловли мышей и убегания от ловли – мизерна, ничтожна, мелка. Просто это ниже человека. Если бы задать такую тему поэту или философу, Белинскому, Грановскому, Станкевичу, Киреевскому, задать ее Влад. Соловьеву, – они бы не разрешили ее или устроили бы вместо мышеловки какую-то смешную и неудачную вещь, которую только бросить. Но если бы в комнату, где сидели эти люди: Станкевич, Тургенев, вошел Азеф…
Поэты и философы, художники и сердцеведы посторонились бы от него.
Им не надо было бы осязательных доказательств, кто он; чтобы он “кричал” о том-то, махал руками при другой теме. Просто они “нутром”, говоря грубо, а говоря тоньше – музыкальностью своею, организациею, художественным чутьем неодолимо отвратились бы от него, не вступили бы с ним ни в какое общение, удержались бы звать его в какое бы то ни было общее дело или откровенно говорить при нем, посвящать его в задушевные, тайные свои намерения.
Азеф и Станкевич несовместимы.
Азеф не мог бы войти в близость со Станкевичем.
Чудовищной и ужасной истории с русской провокациею не могло бы завязаться, не могло бы осуществиться около людей не только типа, как Станкевич или Грановский, или как Тургенев, – но и около кого-нибудь из людей типа любимых тургеневских героев и героинь. Это замечательно, на это нужно обратить все внимание. То, что “обрубило голову революции”, сделало вдруг ее всю бессильною, немощною, привело к “неудаче все ее дела”, – никоим образом не могло бы приблизиться и коснуться не только прекрасных седин Тургенева, но и волос неопытной, застенчивой Лизы Калитиной.
Лиза Калитина сказала бы: “нет”.
Тургенев сказал бы: “нет”.
И как Дегаев, так и Азеф, никак не подкрались бы к ним, не выслушали бы ни одного их разговора, и им не о чем было бы “донести”.
Что же случилось? Какая чудовищная вещь? Как мало на это обращено внимания!
Революционеры сидят в своей изумительной, гениальной “мышеловке”. Это их “конспирация” и потаенные квартиры. Как они писали о своих “законспирированных” типографиях – это такая тайна и “неисповедимость”, что ни друзья, ни братья и сестры, ни отец и мать, ни сами революционеры, так сказать, на других “постах” стоящие, никогда туда не проникали. “Немой, отрекшийся от мира человек, работает там прокламации”. Он полон энтузиазма и проч., и проч.
Великая тайна.
В нее входит Азеф.
“Рядового” революционера туда, конечно, не пустят. Но нельзя же отказать в “ревизии” приехавшему из Парижа куда-нибудь на Волгу “товарищу”, который имеет пароль Члена центрального комитета. Все им руководится. Как же от руководителя что-нибудь скрывать?
С потаенными знаками, в безвестной глухой квартире собираются товарищи, оглядываясь, не идет ли за ними полицейский, не следит ли шпион. Идут безмолвно, “на цыпочках”.
На цыпочках же, оглядываясь, не следит ли за ними полицейский или шпион, входит в это собрание Азеф. Здоровается, садится, говорит и слушает. У него спрашивают советы. Он дает советы.
Величайший враг, самый злобный: единственный, который им может быть опасен, который все у них сгубит и всех их погубит, – постоянно с ними.
И они никак его не могут узнать!
В этом – суть провокации.
На этом сгублена была, прервана революция.
На неспособности узнавания: не правда ли, поразительно!
Сидят в ложе театра мудрецы, как кн. Кропоткин, Вера Фигнер, В. Засулич, Лопатин. Перевидали весь свет. Век читали, учились – правда, все особливые и однородные книжки. На сцене играется “Отелло” Шекспира – и главную роль играет Сальвини. Они смотрят на сцену, внимательно вслушиваются: и никак не могут понять, что на ней происходит, по странной причине не могут различить Отелло от Яго и Сальвини от Ивана Ивановича!
Как не могут? Весь театр понимает.
Но они не понимают.
Весь театр состоит из обыкновенных людей. А они – ложе террористов – необыкновенные люди. Они “отреклись от ветхого мира”: и в то время, как весь театр читал Шекспира, задумывался над лицом и философиею Гамлета, читал о нем критику и во все это вдумывался свободно, внимательно, не торопясь, не спеша, – пять, семь “членов центрального комитета” никогда не имели к этому никакого досуга, а еще главное – ни малейшего расположения, точь-в-точь как (беру специальности) Плюшкин, копивший деньги, или Скалозуб, командовавший дивизией. Все равно, в чем специальность: дело – в специализации. Зрители партера – свободные люди, не специалисты. Но в “ложе террористов” – специалисты. Нужно бы здесь цитировать те замечательные слова о печатнике конспиративной типографии, которые собственно вводят в душу революции. Они не лишены поэтичности, потому что вдохновенны; но смысл этого вдохновения сводится к черной точке – полному разобщению с людьми и их интересами, с человеком и его заботами, с мудростью человеческой, ошибками, глупостями, шутовством, смешным и возвышенным.
Ничего. Одна “печатная прокламация”… Типографский шрифт и конспиративно переданный оригинал.
Вполне Плюшкин революции.
У людей есть песни, сказки, у людей есть вот Шекспир. Они, смотрят Сальвини, плачут, смотря на его игру. Все это развивает, одухотворяет, усложняет, утончает нервы, утончает восприимчивость. Люди сердцем переживали Шопенгауэра и Ницше – в тридцать лет одного и в сорок – другого, и, чтобы перейти от Шопенгауэра к Ницше, сколько надо было продумать, да и прямо переволноваться. Ведь так не сродны оба философа.
Зачитывались Тютчевым. Строки Фета, Тютчева, Апухтина ложились на душу все новым налетом. Сколько налетов! Да и под ними сколько своей ползучей, неторопливой думы. К 40–50 годам, с сединами в голове, является и эта поседелость души, при которой, подняв глаза на Азефа, с его узким четырехугольным приплюснутым лбом, губами лепешкой, чудовищным кадыком, отшатнешься и перейдешь на другой тротуар.
После первого же посещения, которое он навязал, скажешь прислуге:
– Для этого господина меня никогда нет дома.
Лицо Азефа чудовищно и исключительно. Как же можно было иметь с ним дело? Лицо само себя показывает – именно у него. Но весь партер узнает Сальвини, знает, где Яго и где Отелло, одни террористы никак не могут этого узнать.
Они вообще не узнают людей, не распознают людей.
Но отчего? От психологической неразвитости – чудовищной, невероятной, в своем роде, поистине “азефовской”, если это имя и историю его неузнания можно взять в пример и символ такого рода заблуждений и ошибок.
Как Азеф был в своем роде единственное чудовище – и имя “сатаны” и “сатанического” часто произносилось в связи с его именем: так террористы дали пример совершенно невероятной, нигде еще не встречающейся слепоты к лицу человеческому, ко всей натуре человеческой.
Как булыжники. Тяжелые, круглые, огромные. Валяются валом и на чем лежат – давят. Но какое же у булыжника зрение, осязание, обоняние?
Азеф, растолкав этот булыжник, вошел и сел в него. И стал ловить. “Они ни за что меня не узнают, не могут узнать. Механику свою я спрячу, а чутья у них никакого. Они меня примут за Гамлета”.
Они, действительно, его приняли за Гамлета, страдавшего страданиями и пришедшего к сознанию, что иначе как террором – нельзя ему помочь.
Как это могло случиться?
А как бы этого не случилось, когда к этому все вело? Над великой ролью “Азефа в революции”, “введения Азефа в социал-демократию” работали все время “Современник”, “Русское слово”, “Отечественные записки”, “Дело”, “Русское богатство”… Ему стлали коврик под ноги Чернышевский, Писарев, критик Зайцев, публицист Лавров; с булавой, как швейцар, распахивал перед ними двери, стоя “на славном посту”, сорок лет Михайловский… Сколько стараний! Могло ли не кончиться все дело громадным, оглушительным результатом? Сейчас Пешехонов, Мякотин и Петрищев изо всех сил стараются подготовить второго Азефа “на место погибшего”.
Как?!
Да ведь все дело в неузнании. Будь они способны узнавать, имей они чуткость, кто же бы послал им такую грушу, как Азеф? Провокация, или так называемое “внутреннее освещение” конспирации, основана на возможности войти в комнату к зрячим как бы к незрячим, т. е. которые имеют физический глаз и не имеют духовного. Не яблоко глазное видит, а мозг видит. Механизм зрения есть у конспираторов, а ума видящего у них нет; и на этом все основано, базировано и рассчитано. А ум видящий, глаз духовный…
Боже, да ведь в атрофии его вся суть радикальной литературы, вся ее тема.
Все устремлено было к великой теме: создать революционного Плюшкина.
Когда писал Писарев свое “Разрушение эстетики” – он работал для Азефа.
Когда топтал сапожищами благородный облик Пушкина – он целовал пальчики Азефа.
Ничего, кроме этого, не делал Чернышевский, когда подымал ослиный гам и хохот около философских лекций проф. Юркевича.
Вся сорокалетняя работа, борьба против “стишков”, “метафизики” и “мистики” – все затаптывание поэзии Полонского, Майкова, Тютчева, Фета – весь Скабичевский со своею курьезною “Историею литературы, по преимуществу, новой” – ничего иного и не делали, как подготовляли и подготовляли великое шествие Азефа. “Приди и царствуй”… и погубляй.
Последнее, конечно, было от них скрыто. Всякая причина, развертываясь во времени, входит в коллизию с другими, непредвиденными. Да, но эти “непредвиденные” никак не могли бы начать действовать этим именно способом, не встреть они “гармонирующее” условие в этой первой причине.
Влезть в самую берлогу революции могло прийти на ум только тому или тем, кто с удивлением заметил, что там сидящие люди как бы атрофированы во всех средствах духовного зрения, духовного ощущения, духовного вникания.
Но корень, конечно, в слепоте!
А вытыкали глаза, духовные глаза, у читателей, у учеников, у последователей и, в завершении и желаемом идеале – у практических дельцов политического движения, решительно все, начиная с левого поворота нашей литературы и публицистики, начиная с расщепления литературы на правое и левое движение. Все левое движение отшатнулось от всего духовного.
Тут я имею в виду вовсе не содержательную сторону поэзии или философии, мистики или религии – которым, признаюсь, и не интересуюсь, или сейчас не интересуюсь, а методологическую сторону, учебную, умственно-воспитательную, духовно-изощряющую, сердечно-утончающую. Имею в виду “очки”, а не то, что “видно через очки”. Между тем весь радикализм наш боролся против “средств видения”, против изощрения зрения, против удлинения зрения. Разве Чернышевский опровергал Юркевича, делал читателей свидетелями спора себя с ним? Кто не помнит, когда, вместо всяких возражений, он, сказав две-три насмешки, перепечатал из Юркевича в свою статью целый печатный лист – сколько было дозволительно по закону, – перервав листовую цитату на полуслове и ничем не кончив? “Не хочу спорить: он дурак”. И так талантливо, остроумно… Публика, читатели, которые всегда суть “средние люди”, захохотали. “Как остроумен Чернышевский и какой mauvais ton этот Юркевич”.
Так все и хохотали. Десятилетия хохотали. Пока к хохотуньям не подсел Азеф.
– Очень у вас весело. И какие вы милые люди. Я тоже метафизикой не занимаюсь и стишков не люблю. Не мистик, а реалист.
Азеф совершенно вплотную слился с нигилистами, и они никак не могли различить его от себя, потому что и сами имели это грубое, механическое, антиспиритуалистическое, антирелигиозное, антимистическое, антиэстетическое, антиделикатное сложение, как и он. Разница в калибре, в задушевности, в честности, в прямоте. Но, впрочем, во всем остальном составе души, “убеждений”, “мировоззрения”, какая же разница между ним и ими?
Никакой.
Тон души один. А по “тону” души мы общимся, сближаемся, доверяем один другому. Азеф был не прям, и эту машинку скрыл от людей, “в метафизику не углублявшихся”: а, впрочем, во всем духовном костюме своем или, скорей, бескостюмности, он был так же гол, наг, дик, был таким же “отрицателем”, как и они.
Они отрицали не мыслью, а хохотом. И он. На мысли можно поймать оттенки; в мотивах спора можно словить ум, тонкость его, подметить знания, подметить науку, на которую нужно было время потратить и способности иметь. И на всем этом можно было бы выделить неискренность. Но когда все хохочут над метафизикой, религией, поэзией – когда все сопровождается только саркастическою улыбкою, то как и кого тут различить? Все так элементарно!
Но элементарность-то и была методом русского радикализма! “Высмеивай, вытаптывай! Не спорь и не отвергай, но уничтожай”. Как тут было не подсесть Азефу? Как Азефа было узнать?
“Который Гамлет, который Полоний? Где Яго, где Отелло? Где Сальвини и Иван Иванович?” Но разве к этому же уже не подводил всех Скабичевский, которого историю литературы единственно было прилично читать в этих кругах? Не подводила сюда критика Писарева и публицистика Чернышевского? Не подводили ли сюда дубовые стихи с плоской тенденцией? Повести с коротеньким направлением?
Все вело сюда, все… к Азефу! “Они разучились что-нибудь понимать”.
Около этого прошло сколько боли русской литературы! Отвергнутый в его художественный период Толстой, Достоевский, загнанный злобою и лаем в консервативные издания официозного смысла, с которыми внутренне он ничего не имел общего… Да и мало ли других, меньших, менее заметных! В широко разливавшемся и торжествующем радикализме ничего не было принято, ничего не было допущено, кроме духовно-элементарного, духовно-суживающего, духовно-оскопляющего!
“Ничего, кроме Плюшкина”, – вот девиз. “Плюшкина”, т. е. узенькой, маленькой, душной идейки. Идейки фанатической, как фанатична была страсть Плюшкина к скопидомству. Радикализм сам себя убил, выкидывая из себя всякий цветочек, всякий аромат идейный и духовный, всякое разнообразие мысли и разнообразие лица человеческого. Неужели я говорю что-нибудь новое, что не было бы известно решительно каждому? Но какой ужасный всего этого смысл, именно для радикализма!.. Конечно, радикал пред собою и даже перед своею партиею обязан вдыхать в себя все цветочное из мировой истории, все пахучее, ароматное, лучшее, воздушное. Пусть он не молится, но должен понимать существо молитвы; пусть будет атеистом, но должен понимать всю глубину и интимность религиозный веяний; пусть борется против христианства, против церкви, но на основании не только изучения, но талантливого вникания в них. И все прочее также и в политике, в семье, в быте. Я не об изучении, которое может быть слишком сложно и поглощает жизнь, отвлекает силы; я за талант вникания, который решительно обязателен для каждого, кто выходит за сферы частного, домашнего существования и вступает с пером в руке или с делом в намерении – на арену публичности, всеслышания и всевидения.
Но выступают, как известно, хохотуны. Талант острословия, насмешки, а больше всего просто злобного ругательства был господствующим качеством и ценился всего выше. Самая сильная боевая способность. Была ли какая другая способность у Писарева, Чернышевского и их эпигонов? Смехом залиты их сочинения. Победный хохот, который все опрокинул.
Смех по самому свойству своему есть не развивающая, а притупляющая сила. Смех, может быть, и талант смеющегося, но для слушателя это всегда притупляющая сила. Смех не зовет к размышлению. Смех заставляет с собою соглашаться. Смех есть деспот. И около смеха всегда собираются рабы, безличности, поддакивающие. Ими, такими учениками, упился радикализм и подавился. Ибо какого, даже талантливого, учителя не подавят тысячи благоговейных ослов!
В самом успехе своем радикализм и нашел себе могилу; пил сладкий кубок “признания” и в нем выпил яд лести, “подделывания” к себе, впадения в свой “тон”, поддакивания… Он не боролся, как должен бороться всякий борец: он парализовал сопротивление ругательством и знаменитою коротенькою ссылкою на “честно мыслящих” и “нечестно мыслящих”. Он объявлял негодным человеком того, с кем должен был вести спор, и этим прекращался спор. Все разбежались. Победитель остался один. В какой пустыне!
Все это до того известно! Но все это до чего убийственно!
Ни малейше никто не боялся радикализма как направления, как программы, как действия. Он – гость или соработник среди всех званых всемирной цивилизации. Но это его варварство, варварство нашего русского радикализма, мутило все лучшие души: он явно вел страну к одичанию, выбрасывая критику (художественную), выбрасывая “метафизику” или, собственно, всякое сколько-нибудь сложное рассуждение, посмеиваясь над наукою, если она не была “окрашена известным образом”, растаптывая всякий росток поэзии, если она “не служила известным целям”. Он задохся в эгоизме – вот его судьба. На конце этой судьбы все направления оказались богаче, сложнее – наконец, оказались талантливее его. Просто оттого, что ни одно направление не было враждебно собственно таланту, а радикализм, начавшийся очень талантливо век или почти век назад, шел систематически к убийству таланта в себе, через грубую вражду к свободе лица человеческого. Какая тут свобода, когда стоит лозунг: “одна нечестность может не соглашаться со мною!”
Полувековой лозунг. А в полвека много может сработать идея. Капля точит камень… Все разбежались в страхе быть обвиненными в “бесчестности”… Вокруг радикализма образовалась печальная пустыня покорности и безмолвия… Пока к победителю не подсел Азеф» (Розанов В.В. Между Азефом и «Вехами» // Новое время. 1909, 20 августа).
Феномену «азефовщины» посвящены также статьи В.В. Розанова «Загадки русской провокации» (Новое слово. 1910, № 16, с. 34–38), «Почему Азеф-провокатор не был узнан революционерами» (Розанов В.В. Черный огонь. Париж, 1991, с. 37–63).
Глубокий социологический анализ этого явления произвел Б.А. Кистяковский, пришедший к такому выводу: «История наших политических партий показала, что естественное развитие всякой подпольно-революционной, а тем более террористической организации приводит ее к тому, что она, в конце концов, необходимо попадает в руки провокатора..» (Кистяковский Б. Страницы прошлого. К истории конституционного движения в России. М., 1912, с. 4).
К сказанному В.В. Розановым и Б.А. Кистяковским почти нечего добавить. Можно только расширить, так сказать, «поле действия» открытого ими феномена, и поле это, вероятно, охватит всю нашу новейшую отечественную историю.
Свой «Азеф» – Р.В. Малиновский (1876–1918) – имелся и у большевиков (любимец В.И. Ленина, член ЦК!), разоблаченный лишь в 1917 г. А сколько всего было таких азефов и малиновских, «работавших» во имя нашего «светлого будущего» – это мы вряд ли узнаем когда-нибудь с абсолютной точностью.
Где истоки «духовной незрячести», открытой Розановым? Кажется, здесь мы стоим перед таким загадочным сфинксом – перед самым интимным ядром человеческой личности, проникнуть в которое никому не дано. Тем не менее разгадка здесь настолько элементарна, что с непривычки можно впасть в отчаяние: нет никакой загадки, нет никакого «интимного ядра»! Там, где у всякого нормального человека душа, у них – дырка, нет ничего! «Я хотел однажды узнать, – рассказывает Н. Валентинов о Ленине, – читал ли он Шекспира, Байрона, Мольера, Шиллера. В ответ ни да, ни нет не получил, все же понял, что никого из них он не читал и дальше того, что слышал в гимназии, не пошел… Кроме “Фауста”, ни одну другую вещь Гете Ленин не знает, он делит литературу на нужную ему и ненужную, а какими критериями пользуется при этом различии, мне неясно (зато нам теперь вполне ясно! – В.С.). Для чтения всех сборников “Знания” он, видите ли, нашел время, а вот Достоевского сознательно игнорировал. “На эту дрянь у меня нет свободного времени”. Прочитав “Записки из Мертвого дома” и “Преступление и наказание”, он “Бесы” и “Братьев Карамазовых” читать не пожелал. “Содержание сих обоих пахучих произведений, – заявил он, – мне известно, для меня этого предостаточно”. “Братьев Карамазовых” начал было читать и бросил: от сцен в монастыре стошнило. Что же касается “Бесов” – это явно реакционная гадость, подобная “Панургову стаду” Крестовского, терять на нее время у меня абсолютно никакой охоты нет. Перелистал книгу и швырнул в сторону. Такая литература мне не нужна – что она мне может дать?”» (Валентинов Н. Встречи с Лениным // Волга. 1990, № 10, с. 115–116).
Удивительно ли после этого, что рядом с Лениным был Малиновский, был Сталин и проч., и проч., и проч.? Он был такой же, как и они, – «мыслящий камень» (выражение А.И. Куприна). Ближний измеряется одним критерием: «Все уходящие от марксизма – мои враги, руку им я не подам и филистимлянами за один стол не сажусь» (Валентинов Н. Встречи с Лениным // Там же. 1990, № 12, с. 117). Конечно, такие духовно зрячие люди, как Достоевский, Розанов, Бунин, Куприн и др., распознавали этих бесов с первого взгляда. Следовательно, их надо было уничтожить. А остальному «населению» внушить мысль, что все происходящее есть результат «естественно-исторической закономерности», лишь бы скрыть свою самую страшную и последнюю тайну – отсутствие души.
Ср. также интересные наблюдения Н.А. Бердяева в его рецензии на автобиографию Л.Д. Троцкого «Моя жизнь» // Соц. исследования. 1990, № 5.
86* В ДГ (с. 460) вместо «аррогантов» – «притязательность».
Аррогант – наглец, самоуверенный нахал (от лат. arrogantia – наглость, высокомерие).
87* В ДГ (с. 460) к этим словам сделано примечание: «“Людей нет” – вот стон, который несется по необъятным равнинам многомиллионной России (ср. в цит. очерке “Революция и реакция”)».
88* Из стихотворения Н.А. Некрасова «Не рыдай так безумно над ним…» (1868), навеянного смертью Д.И. Писарева и посвященного его гражданской жене М.А. Маркович (Некрасов Н.А. Сочинения. М., 1979, т. 2, с. 211).
В вышеупомянутой Булгаковым поэме Некрасова содержатся строки, ставшие своего рода девизом русской революционной молодежи:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































