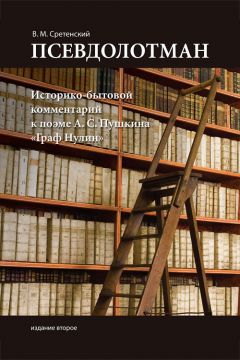
Автор книги: Василий Сретенский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
«Сегодня на корабль отдам
Все, все мои приобретенья
В двух знаменитейших странах!
Я вне себя от восхищенья!
В каких явлюсь я сапогах!
Какие фраки! панталоны!
Всему новейшие фасоны!
Какой прекрасный выбор книг!
Считайте – я скажу вам вмиг:
Бюффон, Руссо, Мабли, Корнилий,
Гомер, Плутарх, Тацит, Вергилий,
Весь Шакеспер, весь Поп и Гюм;
Журналы Аддисона, Стиля…
И всё Дидота, Баскервиля!
Европы целой собрал ум!»
Стихи эти, по признанию самого Дмитриева, были напечатаны «с согласия автора, и только для круга коротких наших знакомцев» (ДмитриевИ, 45), то есть представляли собой элемент литературной игры, принятой в карамзинском кругу. Соответственно и строки «Графа Нулина», перекликающиеся с вышеприведенным отрывком, продолжают литературную игру и служат намеком «для посвященных». Характерно, что в стихах А.С. Пушкина из письма к дяде Василию Львовичу от апреля 1816 г. содержится тот же оборот: «et caetera», венчающий описание графского багажа.
С запасом фраков и жилетов, – здесь и далее перечисляются детали светского костюма, то есть одежды для театра, приема, бала, прогулки. Самым модным в 1825 году был фрак с бархатным воротником. Черный цвет еще не стал обязательным, и на прогулку надевали фрак синий или зеленый, с металлическими пуговицами, а для визитов – фиолетовый. Длина фалд и форма фрака постоянно варьировались. В описываемое время в моде был достаточно высокий, «стоячий» воротник. Пуговицы доходили до самого воротника, и, выходя на прогулку, можно было застегнуть фрак «наглухо».
По моде 1825 года молодой человек надевал сразу три жилета. Первым – черный бархатный, на него – жилет красного цвета, а сверху еще один черный жилет, но на этот раз суконный или «казимировый». Красный с черным были самым модным сочетанием цветов сезона «лето-осень 1825». В том случае, если модник хотел выглядеть более традиционно (и менее вызывающе), он надевал только два жилета: бархатный черный и сверху белый «пике». Возможен был и вариант двух бархатных жилетов разного цвета.
Шляп… – самым распространенным типом мужского головного убора светского человека был цилиндр. Цилиндры – «шляпы» – графа скорее всего были заказаны по последней парижской моде – с небольшими и чуть загнутыми полями, невысокой и немного сужающейся кверху тульей. Цвета – в тон фраку и, конечно, черный.
…вееров… – эта деталь костюма указывает на увлечение графа театром. Духота в театрах того времени нередко приводила к обморокам в зрительном зале, поэтому веер в театр брали не только дамы, но и кавалеры. В разговоре с Натальей Павловной граф стремился предстать знатоком парижских театров. Естественно, он не мог обойтись без набора вееров.
…плащей… – щеголь того времени должен был иметь минимум три плаща. Один – теплый, темного цвета с меховым воротником. Второй – остро модный в сезоне 1825 г. «шотландский» клетчатый, желательно черно-красный. И третий, особый, для прогулок в экипаже. Этот плащ «должен быть так обширен, чтобы он занял весь экипаж и воротник его висел назади. Такие плащи подбивают бархатом синим, цвета Элодии» (МТ1825, VI, 103).
…корсетов. – мужчины в то время носили корсеты с двойной целью: придать стройность фигуре (что особенно важно было для военных) и создать иллюзию тонкой талии. Корсет надевался на тонкую рубашку, под жилет. Позже, в конце 1820-х годов, тугие, стягивающие фигуру жилеты полностью вытеснят корсеты из мужской моды (Кирсанова, 138).
Булавок… – ими закалывали «галстухи» (они же – шейные платки) или скрепляли воротник рубашки. В моде были булавки с брильянтами, а также золотые – в виде кисти винограда с двумя эмалевыми лепестками. Летом 1825 года в Париже некоторое время модники носили булавки с головой обезьянки – в честь одного из актеров бульварных театров, прозванного «обезьяной».
…запонок… – «Рукава сюртука или фрака должны быть такой длины, чтобы видны были немного рукава рубашки, застегнутые запонками с брильянтами» – писал один из модных обозревателей в 1825 году (МТ1825, ХХ, 408).
…лорнетов… – лорнет был одним из атрибутов не просто модного, а вызывающе модного поведения. Поднесенный к глазам лорнет воспринимался как демонстративный жест, преследующий цели:
– подчеркнуть преувеличенное внимание к чему– или кому-то;
– привлечь к какому-либо событию или человеку внимание всего общества;
– смутить этим вниманием кого-то из гостей (чаще – даму).
В рассказе «Первый выход на бал», опубликованном в «Московском телеграфе» в 1825 году, дальний родственник девушки, впервые отправлявшейся в свет, заметив недостатки в ее туалете, выражался так: «Помилуйте! возможно ли, не стыдно ли так являться на бал, в круг бонтона: она будет предметом язвительных лорнетов – бедненькая! ее осмеют…» (МТ1825, II, 95). И давайте вспомним, что у Евгения Онегина, в его бытность в Петербурге, был двойной лорнет.
Цветных платков… – шейный платок (галстук) – обязательный элемент мужского костюма и одновременно одна из главнейших деталей туалета модника. Если плащей можно было иметь три, фраков – пять-шесть, то с платками дело обстояло совсем иначе. «Сколько должно иметь галстухов?» Таким вопросом задавался «Московский телеграф». И сам же давал ответ: «У одного щеголя насчитали только цветных 72, у другого цветных – 154!» (МТ1825, VI, 103).
Мода на шейные платки менялась очень быстро. В начале 1825 года «Дамский журнал» сообщал, что «щеголи, по утрам, повязывают шею кисейною косынкою, голубою, цвета желтой серы и лиловою, с крапинками голубыми и зелеными» (ДЖ1825, I, 40). Летом того же года в моде был цвет «фрейшиц» – красный с черными полосками, получивший название по персонажу оперы Вебера «Вольный стрелок» (нем. – freischutz), чрезвычайно популярной в Париже. А уже в начале 1826 года в моду вошли шейные платки «Тальма» (черный, «трагический») и «Вальтер Скотт» (клетчатый) (Кирсанова, 75).
…чулков a jour – фр. «пропускающими свет», то есть со сквозным орнаментом. С конца XVIII века модными считались чулки «со стрелками» – то есть с узором по бокам. Цвет чулков и характер рисунка постоянно варьировались, но традиционно считалось, что белые чулки нужно носить с парадным костюмом, а цветные – с повседневным. При этом чулки с вышитым рисунком считались простыми и были сравнительно дешевы, а самыми дорогими были чулки с прозрачным, ажурным узором. Считается, что такие чулки в моду ввела маркиза де Помпадур (Кирсанова, 13 и 321). В 1825 году такие чулки назывались еще «парижскими чулками» и считались «чрезвычайно редкими» (ДЖ1825, VIII, 54).
С ужасной книжкою Гизота, – В начале 1825 года А. С. Пушкин писал брату Льву: «Наполеон поглупел – во-первых, лжет как ребенок,
2) судит о таком-то не как Наполеон, а как парижский памфлетер, какой-нибудь Прадт или Гизо» (Х – 123–124).
Франсуа-Пьер Гильом Гизо (1787–1874) – французский историк, публицист и политический деятель. Он считается одним из основателей политической теории «среднего класса». Современное государство, по мнению Гизо, всем обязано классу собственников и должно опираться на два главных принципа: «представительское правление» и «общественное мнение». Для А. С. Пушкина, которому в июне 1825 года К.Ф. Рылеев писал: «Ты сделался аристократом; это меня рассмешило. Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством?» (Рылеев, 305) – вполне естественно было называть откровенно буржуазные взгляды Гизо «ужасными». Какая конкретно книга имелась в виду, сказать трудно, но она должна быть сравнительно новой, иначе Нулин бы ее не взял с собой. Это могла быть «Смертная казнь как предмет политики» (1822), или «Этюды по истории Франции» (1823). Впрочем, М.Н. Виролайнен, предположила, что этой книгой мог быть первый том французского издания В. Шекспира, открывающийся статьей Гизо «Жизнь Шекспира» и содержащий поэму «Лукреция». «Таким образом, – пишет М.Н. Виролайнен, – издание, и особенно том с «Лукрецией», было для Пушкина «гизотовским» Шекспиром. В контексте пародирующего «Лукрецию» «Графа Нулина» этот том невольно ассоциируется с «книжкою Гизота», и невозможно представить себе, чтобы Пушкин не отдавал себе отчета в такой ассоциации» (Виролайнен, 84)
С романом новым Вальтер-Скота, – верный принципу собирать все самое новое, граф Нулин везет с собой роман одного из безусловных лидеров романтического направления в литературе, о котором главный идеолог нового стиля Шарль Нодье писал: «…великие мастера слова и Байрон, и Вальтер Скотт, и Ламартин, и Гюго устремились на поиски воображаемого мира, словно особый пророческий дар, полученный поэтом от природы, заставил их предугадать, что в одряхлевшем обществе влияние реальной жизни было близко к исчезновению» (Манифесты, 410). Мощная волна романтизма вышла далеко за пределы литературного мира. Пушкинский герой, безотчетно следуя моде на романтизм, попадает в эмоциональную зависимость от героев Байрона и Вальтера Скотта. В отличие от Натальи Павловны, склонной к сентиментализму, он ориентируется на стандарты «воображаемой реальности». Эта разница в поведенческих стереотипах, сформированных литературой, в полной мере проявится в кульминационных для поэмы 18–19 главках.
Что же до романов Вальтера Скотта, то в 1825 году вышли два: «Обрученные» и «Талисман».
С bons-mots парижского двора, – bon-mot (фр. – «меткое словцо») – изящная или язвительная острота. П.А. Вяземский, переводивший bon-mot как «забавное слово» или «острое слово», так определял разницу между французской и русской шуткой: «Французская острота шутит словом и блещет удачным подбором слов, – русская – удачным приведением противуречащих положений» (Вяземский1963, 80 и 33).
Главным поставщиком светских острот традиционно считался парижский свет. Элегантные, отточенные экспромты становились особым видом придворного искусства и передавались потом из уст в уста, приобретая форму коротких рассказов – анекдотов. Один анекдот с bon-mot помещен в «Московском телеграфе» за 1825 г.: некий граф, будучи старейшим из гостей на свадьбе и следуя древнему обычаю, разрезал на полоски подвязку (ленту, которой подвязывали чулок) невесты, раздал гостям, а одну из полосок вдел себе в петлицу, как это делалось с орденскими лентами. Наутро, забыв об этом, он пришел на аудиенцию к королю. Король и наследник спросили его «о новом украшении». Смущенный граф оправдывался словами: «Позор тому, кто об этом плохо подумает» (девиз ордена Подвязки – самого престижного ордена в Европе) (МТ1825, XIV, 367–368).
Еще один bon-mot того времени, уже с политическим оттенком, привел Е.В. Тарле. В разговоре с Талейраном Карл Х, последний король из династии Бурбонов, заявил: «Тот король, которому угрожают, имеет лишь два выбора: трон или эшафот». «Вы забываете, государь, третий выход, – ответил Талейран, намекая на изгнание, – почтовую карету» (Тарле, 667–668).
Случайно или нет, но и здесь приходится вспоминать В.Л. Пушкина и его стихотворение «К камину» (1793), в котором были такие строки: «Мне нужды нет, что я на балах не бываю / И говорить бон-мо на счет других не знаю…».
С последней песней Беранжера, – Пьер Жан Беранже (1780–1857) – один из самых едких поэтов той эпохи, поставщик сенсаций совсем иного рода, чем представленные выше bons-mots. Его песни регулярно запрещались правительством и были постоянно «на слуху». В 1825 году как раз разразился очередной цензурный скандал. Издатель, выпуская в свет третий сборник песен Беранже, по требованию полиции, но без согласия автора, изъял из песни «Галльские рабы» последний куплет («посылку»):
«Друг Манюэль, в другое время
Я б не воспел тех мрачных дней,
Но галлов нынешнее племя
Не ценит доблести твоей;
А ты, опасность презирая,
Стремясь отважно родине служить,
Жалеешь тех, кто гибнет, повторяя:
«Давайте пить, Давайте пить!»»
(Перевод И. Ф. Тхоржевского)
Беранже подал на издателя в суд, что давало много поводов для толков в «свете». Bon-mot самого Беранже, сказанное одному из политиков примерно в то время, звучало так: «Не благодарите меня за песни, которые я сложил против ваших противников, а благодарите за те, которые я не сложил против вас» (Беранже, 460). Б. М. Гаспаров считает, что песней, которую вез граф Нулин из Парижа, была «Le bon Dieu» («Добрый бог») (Гаспаров1999, 262). С этим трудно согласиться, поскольку эта песня была написана в 1820 г. и последней в 1825 г. быть никак не могла. Нулина же, судя по предыдущим строкам, интересовали лишь остро модные вещи, знанием и обладанием которых можно было блеснуть в гостиных. Соответственно песней Беранжера, которую он мог вести в Россию, должна быть та, которая была написана в промежуток между мартом и сентябрем 1825 г., поскольку в марте вышел в свет третий сборник песен, а в сентябре граф покинул Париж. В этот промежуток идеально укладывается другая песня Беранже: «Коронация Карла III Простоватого». Она была написана сразу после коронации последнего короля из династии Бурбонов Карла Х, состоявшейся 29 мая 1825 г., и была воспринята как чрезвычайно едкая сатира на двор и короля. Когда в декабре 1828 г. Беранже предстал перед судом, обвинитель в своей речи специально отметил, что в этой песне «…священная особа нашего монарха, торжественная церемония венчания его на царство превращены в насмешку в этой фантастической картине коронации, о которой молчит история» (Данилин, 173).
Соседство этой песни Беранже (впрочем, как и любой другой) с bon-mots парижского двора подчеркивает полную неразборчивость графа Нулина в собирании всего остро модного, и является одной из самых сильных его характеристик в глазах хоть сколько-нибудь просвещенного читателя.
С мотивами Россини, Пера, – здесь названы два из трех самых модных в Париже 1825 года композиторов (о Карле Вебере и его опере «Вольный стрелок» мы уже говорили выше).
Джоакино Россини (1792–1868) в 1824 году был приглашен в парижский Итальянский театр на должность дирижера музыки и сцены. К этому времени его опера «Севильский цирюльник» уже восьмой год не сходила с подмостков европейских театров. Одним из свидетельств широкого интереса российской публики к личности композитора и его творчеству могут служить «Записки касательно Россини», опубликованные в № 4 «Дамского журнала» за 1824 г., начинавшиеся так: «Тогда как присутствие Россини волнует дилетантиев Парижских и Лондонских, мы думаем, что биографическое известие о сем знаменитом композиторе будет любопытно для наших любезных читательниц» (ДЖ1824, IV, 167).
Нулин, собирая свою модную коллекцию, должен был захватить с собой «мотивы», еще не известные в России. Россини же в Париже не работалось. После премьеры 19 июля 1825 года оперы-кантаты «Путешествие в Реймс, или гостиница Золотой лилии», написанной по поводу коронации Карла X, композитор долго болел и ничего в театре не ставил (Клюйкова, 140–143).
Все же можно предположить, что при определенной прыткости Нулин мог перед самым отъездом посетить премьеру оперыпастиччо «Айвенго» в театре Одеон, состоявшуюся 15 сентября 1825 года. Либретто было написано по роману Вальтера Скотта, а в качестве музыкального материала этой оперы послужили отрывки из нескольких ранее написанных произведений Россини (поэтому опера и называлась пастиччо – паштет). Вероятно, именно эти отрывки, в новой обработке, граф и вез в Петербург.
Пер – Фердинандо Паэр (1771–1839), композитор из Пармы. Он считается одним из авторов музыкального приема «крещендо» – «постепенного или стремительного увеличения силы звука оркестра, подключения дополнительных голосов и инструментов, а также ускорения темпа…» (Россини, 205) Старший современник Россини и его художественный оппонент, Паэр был директором Итальянского театра в Париже. Но после приглашения автора «Севильского цирюльника» Паэр оставил этот пост. Возможно, не без участия обиженного Паэра, Россини заслужил в Париже прозвище «господин Громыхатель».
Et cetera, et cetera. – И так далее, и тому подобное. Перечисляя «культурный багаж» графа Нулина, «рассказчик» невольно увлекается, в его речи пропадают старорусские выражения типа «казать», появляется все больше французских слов. Заканчивает же он французской переделкой латинского речевого оборота и прямой цитатой из «Дон Жуана» Байрона, где этот оборот использован дважды, в начале Песни третьей («О муза, ах! et cetera!») и в Песне пятой:
«Для чащи экзотических растений —
Жасминов, лавров, пальм et cetera —
Я мог бы вам придумать тьму сравнений!»
Глава 11
(Граф Нулин)
(текст)
Уж стол накрыт; давно пора;
Хозяйка ждет нетерпеливо;
Дверь отворилась, входит граф;
Наталья Павловна, привстав,
Осведомляется учтиво
Каков он? что нога его?
Граф отвечает: ничего.
Идут за стол; вот он садится,
К ней подвигает свой прибор
И начинает разговор:
Святую Русь бранит, дивится,
Как можно жить в ее снегах,
Жалеет о Париже страх.
«А что театр?» – О! сиротеет,
C'est bien mauvais ca fait pitie.
Тальма совсем оглох, слабеет,
И мамзель Марс, увы! стареет.
Зато Потье, le grand Potier!
Он славу прежнюю в народе
Доныне поддержал один. —
«Какой писатель ныне в моде?»
– Всё d'Arlincourt и Ламартин. —
«У нас им также подражают».
– Нет? право? так у нас умы
Уж развиваться начинают.
Дай Бог, чтоб просветились мы! —
«Как тальи носят?» – Очень низко,
Почти до… вот по этих пор.
Позвольте видеть ваш убор;
Так… рюши, банты, здесь узор;
Всё это к моде очень близко. —
«Мы получаем Телеграф».
– Ага! хотите ли послушать
Прелестный водевиль? – И граф
Поет. «Да граф, извольте ж кушать».
– Я сыт. – Итак…
Из-за стола
Встают. Хозяйка молодая
Черезвычайно весела;
Граф, о Париже забывая,
Дивится, как она мила.
Проходит вечер неприметно;
Граф сам не свой; хозяйки взор
То выражается приветно,
То вдруг потуплен безответно.
Глядишь – и полночь вдруг на двор.
Давно храпит слуга в передней,
Давно поет петух соседний,
В чугунну доску сторож бьет;
В гостиной свечки догорели.
Наталья Павловна встает:
«Пора, прощайте! ждут постели.
Приятный сон!..» С досадой встав
Полувлюбленный нежный граф
Целуют руку ей. И что же?
Куда кокетство не ведет?
Проказница – прости ей Боже! —
Тихонько графу руку жмет.
(комментарий)
Действие этой части поэмы строится вокруг обеда. Между тем, обед в деревне совсем не то же самое, что в городе. День светского человека в городе с обеда только начинался. В деревне же обед отмечал завершение первой – трудовой – части дня. Вслед за ним наступало время прогулок, чтения, музицирования. Поскольку утренний чай зачастую подавался господам прямо «в комнаты», нередко вся семья собиралась вместе именно за обедом.
Помимо того, обед – это еще и официальная церемония: он проходил всегда в одно и то же время, домочадцы и гости имели строго определенные места за столом. Порядок подачи блюд, формы общения и даже темы разговоров за обедом были четко определены.
Для нас важно еще и то, что именно обед, в качестве официальной церемонии, делал возможным и знакомство, и беседу графа с хозяйкой. Дело в том, что граф холост и к тому же путешествует один. По правилам того времени, занимать разговором гостя-мужчину до обеда мог только хозяин дома, а даму – хозяйка. Вот характерная ситуация, взятая из воспоминаний В.Н. Головиной: направляясь к мужу в действующую армию, она проезжала владения отставного фаворита Екатерины II С.Г. Зорича, и тот пригласил ее в гости. Далее предоставим слово самой мемуаристке: «Я употребила все свое красноречие, чтобы отказаться от этого приглашения, но он остался непоколебим, и в конце концов пришлось сесть в его карету и позволить вести себя к его племянницам, чтобы остаться у них до тех пор, пока он не заедет за мной. Этого требовало приличие: Зорич не был женат и потому не позволил себе быть со мною наедине в продолжение двух часов, остававшихся до обеда» (Головина, 101). Точно так же и Наталья Павловна не могла, не выходя из приличий, долго разговаривать с незнакомцем. Обед же заменял церемонию представления и устранял все формальные препятствия для знакомства.
Общее представление о том, каким должен быть обед в дворянском доме, дает фрагмент из статьи Ф.В. Булгарина в № 7 его газеты «Северная пчела» за 1840 г.:
«Где и как обедать? Всегда в большой, высокой светлой комнате… Человеку с изящным вкусом никогда не станет обедать ни при лампах, ни при стеариновых свечах, потому что взгляд на них припоминает две отвратительные для вкуса вещи: ламповое масло и сало… В соседних комнатах не должно быть шума и беготни, чтоб все внимание сосредоточено было на обеденном столе. В столовой не должно быть много слуг… Хрусталь, цветы, позолота вечером, хрусталь, серебро и цветы днем, а фарфор во всякое время, должны быть принадлежностью хорошего стола» (Культура застолья… 149).
Не стоит удивляться тому, что в поэме только-только было утро, и вот уже ведутся приготовления к обеду. Деревенский обед, в отличие от городского, начинался рано: от полудня до четырнадцати часов. (Сравним: у Г.Р. Державина в «Жизни Зван-ской»: «Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут; / Идет за трапезу гостей хозяйка с хором».) Как правило, он был обильным, но не разнообразным, и состоял из двух-трех «перемен» (то есть разных типов кушаний), с числом блюд в каждой перемене от одного до трех. Один из типичных вариантов деревенского обеда мог выглядеть так:
– «горячее» в глубоких тарелках «до краев» («горячим» называли первые блюда: супы, борщ, уху и т. п.);
– пироги, «не менее 1/2 фунта», полагавшиеся к «горячему»;
– жаркое или котлеты, подаваемые без гарнира, но таким образом, что «укладывались в тарелке из края в край» (описан обед, подаваемый в усадьбе генерал-майора П.А. Фон Рехенбурга) (Селиванов, I, 66).
Предметом особенной гордости был «соус», который готовили не каждый день, а, как правило, к праздничному, «званому» обеду. Мясо в соусе, не свойственное русской традиционной кухне и приготовляемое по французским рецептам, подавалось, как и жаркое, без гарнира. В постные дни мясные блюда заменялись различными кашами и пирогами. Завершался обед «заедками» – свежими ягодами, булочками, домашней пастилой, орехами, стручковым горохом. Самое распространенное и любимое лакомство начала XIX века – огурцы в медовых сотах.
В год первой публикации поэмы «Граф Нулин» В.Л. Пушкин писал свою – «Капитан Храбров». И в ней описал «деревенский» обед:
«За стол мы сели: и рубцы
Нам подают, к ним пряженцы,
Бараний бок с горячей кашей,
Жаркого гуся и пирог».
Неудивительно, что даже после обеда «за свой» (то есть обычного, непарадного, семейного) из-за стола вставали с трудом. Зато ужин не был обязательной трапезой: часто вечером доедали в холодном виде то, к чему не смогли, из-за величины порций, притронуться за обедом. Если же, как в нашем случае, ужина не было вовсе, то в спальни ставились «заедки», которыми лакомились перед сном.
Уж стол накрыт; давно пора;
Хозяйка ждет нетерпеливо — гость задерживается по двум причинам. Первая – как городской светский щеголь, он привык обедать поздно, не ранее четырех часов пополудни, и ему пока трудно привыкнуть к тому, что обед уже два часа как готов, а он еще не успел проголодаться. Вторая – граф Нулин живет одновременно в двух культурных пространствах. Одно – придворная традиция XVIII века, культивируемая в период Реставрации при французском дворе. Ей свойственна учтивость и утонченная любезность с дамами. Другое – английский дендизм, широко распространившийся в светских европейских салонах после окончания наполеоновских войн (Лотман1994, 123–135; Белый).
Внешний вид и поведение dendy можно коротко охарактеризовать как абсолютно продуманное во всех деталях, высокомерное презрение к тем условностям «света», которые, он, тем не менее, неуклонно соблюдает. Вот как определял разницу между щеголем 20-х годов XIX века и сменившим его денди Шатобриан:
«В 1822 г. щеголю полагалось иметь вид несчастный и болезненный; непременными его атрибутами почитались: некоторая небрежность в одежде, длинные ногти, неухоженная бородка, выросшая как бы сама собой, по забывчивости скорбящего мученика; прядь волос, развевающаяся по ветру, проникновенный, возвышенный, блуждающий и обреченный взгляд, губы, кривящиеся от презрения к роду человеческому, байроническое сердце, томящееся скукой, исполненное отвращения к миру и ищущее разгадки бытия. Ныне все переменилось, денди должен держаться победительно, непринужденно и дерзко; должен тщательно следить за своим туалетом (…), он не снимает шляпы, разваливается на диванах, протягивая длинные ноги чуть не в лицо дамам, которые обступают его, обмирая от восхищения…» (Шатобриан, 339).
Демонстративное опоздание, вызванное подчеркнутым вниманием к собственной персоне – один из самых характерных культурных знаков новой моды, поскольку настоящий денди «издевается над правилами и все же их уважает» (Дендизм, 30).
Наталья Павловна, привстав,
Осведомляется учтиво – Наталья Павловна тоже живет в двух культурных пространствах. Как деревенская помещица, она должна была встретить гостя на пороге дома, расспросить его о самочувствии, «счесться родней» и попотчевать гостя обедом.
Отчасти так и происходит: она привстает, осведомляется о здоровье. Но одновременно она играет роль светской дамы, и эта роль диктует совсем иное поведение. Видимо, она уже успела прочитать в «Московском телеграфе», что в Париже распространилась новая мода в устройстве «приемов» или «светских раутов»: «Хозяйка принимает гостей, не двигаясь со своего места, хозяин и игроки [в карты. – Авт.] не замечают гостя…» (МТ1825, V, 87).
Эту перемену правил приема гостей, связанную с общей сменой культурных стереотипов, хорошо описал в своих воспоминаниях племянник И.И. Дмитриева, Михаил Александрович Дмитриев, чья молодость пришлась как раз на 1820-е годы: «Есть пословица: "По платью встречают, по уму провожают!" Не знаю, провожают ли у нас по уму, но встречают действительно по платью. – Сперва было у нас русское, национальное платье: встречали поклонами, и угощением. – Потом ходили в немецких кафтанах или в том, что у кого есть: начали встречать с важностию, с почтением и оглядками. – Потом появились французские кафтаны и фраки: стали встречать первых с тонким приличием, вторых с свободною, непринужденною вежливостию» (ДмитриевМ, 176). Соответственно этой новой моде и французскому «платью» Наталья Павловна старается принимать в своем доме незнакомца, прибывшего из-за границы, «непринужденно».
…вот он садится,
К ней подвигает свой прибор — при встрече граф, строго следуя традиции дендизма, ведет себя крайне бесцеремонно. В то время в России еще сохранялся обычай XVIII века, согласно которому дамы и кавалеры за обедом сидели друг против друга по разные стороны стола. Недаром в «Евгении Онегине» сцена рассаживания гостей за стол во время торжественного обеда в доме Лариных передана так: Теснятся барышни к Татьяне / Мужчины против… а опоздавших Онегина и Ленского Сажают прямо против Тани (V – 112). Даже в Петербурге на званых обедах мужчины и дамы рассаживались отдельно. Вот описание такого обеда в письмах французского писателя Ф. Ансело, побывавшего в России в 1826 г.: «Мужчины подают дамам руку, чтобы выйти из гостиной, но эта мгновенная вольность распространяется не дале дверей столовой: там все женщины усаживаются на одном конце стола, мужчины – на другом, и во все время обеда они могут лишь обмениваться односложными репликами поверх вазы с цветами» (Ансело, 47–48).
Нулин же без спроса садится не только на одну сторону стола с хозяйкой, но и очень близко от нее. Такой поступок, будь он совершен в присутствии посторонних, граничил бы с конфузом и оскорблением, но и один на один он был явно вызывающим. Именно такого эффекта и должен добиваться «настоящий» денди, так как «его главная черта состоит в том, чтобы поступать всегда неожиданно, так, чтобы ум, привыкший к игу правил, не мог этого предвидеть, рассуждая логически» (Дендизм, 29).
И начинает разговор – один из виднейших пушкинистов начала XX в. П.О. Морозов комментировал разговор графа и Натальи Павловны следующим образом: «Нулин рассказывает о Париже, о новых модах и пр., поет шансонетку, болтает всякий вздор» (АСП, 387). На самом деле все не так. Разговор наполнен особым смыслом и полон культурных знаков. Прежде всего: он строится по новейшей парижской схеме. «Политика, Литература, Театр – вот три главные стихии парижских разговоров!» – восклицал «Московский телеграф» (МТ1825, IX, 145). Делаем поправку на то, что разговор происходит в российской провинции, а не в парижском салоне (и значит, разговор о политике исключен) и получаем последовательность: театр – литература – мода, вполне соотносимый с новейшими парижскими веяниями. Не забудем также и то, что это разговор светский и, следовательно, переход от литературы и театра к моде, а затем к пению более чем закономерен. Об этом отчетливо говорит сопоставление разговора графа и Натальи Павловны с тем, который ведут две светские львицы из «Послания к Хлое» К.Н. Батюшкова, написанного не позднее 1805 г. и представленного автором (под названием «Сатира, с французского») для вступления в «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств»:
«Из хижины своей брось, Хлоя, взгляд на свет:
Четыре бьет часа – и кончился обед:
Из дому своего Глицера поспешает,
Чтоб ехать – а куда? – беспечная не знает.
Карета подана, и лошади уж мчат.
«Постой!» – она кричит, и лошади стоят.
К Лаисе входит в дом, Лаису обнимает,
Садится, говорит о модах и зевает;
О времени потом, о карточной игре,
О лентах, о пере, о платьях и дворе.
Окончив разговор, который истощился,
От скуки уж поет».
Примечательно, что разговор по «парижской» схеме ведет Наталья Павловна, демонстрируя при этом свое знание светских обычаев, а граф подхватывает и развивает каждую тему, тем самым принимая «равный тон» в общении с провинциальной красавицей и мало-помалу уходя от заявленного в начале обеда дендизма. Именно такой тип застольной беседы рекомендовал Ф.В. Булгарин своим читателям в уже цитированной нами чуть выше статье:
«За обедом надо уметь перестреливаться короткими фразами, и эти фразы должны быть похожи на пирожки (petits pates) или крепкие пряные соусы…. Не должно никогда заводить речи за столом о важном и сериозном… Везде дамы дают законы в обществе, и с дамами должно говорить о том, что им угодно и что им приятно» (Культура застолья, 151).
Святую Русь бранит… – Святая Русь – один из литературных штампов того времени, получивший широкое распространение, вероятно, благодаря Н.М. Карамзину. Он в IX томе своей «Истории государства российского», вышедшем в 1821 году, дважды использовал этот оборот (в описании пленения в Крыму Семена Мальцова и завершения похода Ермака в Сибирь. Впервые словосочетание «Святая Русь», видимо, появилось в так называемых «исторических песнях», известных с XVI века. Интерес к ним в России начала XIX века – часть общеевропейской тенденции в «возрождению» средневековой истории и «открытию» средневековой литературы, принимавшей самые разные формы, от «средневековых» романов Вальтера Скотта, до самой знаменитой подделки в истории литературы – поэзии Оссиана (легендарного кельтского поэта III века нашей эры) созданной шотландцем Макферсоном в середине XVIII века. Одну из «исторических» песен XVI века цитировал Н.М. Карамзин уже в Х томе: «Как умру я, мой доброй конь, // Ты зарой мое тело белое // Среди поля, среди чистаго; // Побеги потом во святую Русь; // Поклонись моим отцу и матери, // Благословенье свези малым детушкам; // Да скажи моей молодой вдове, // Что женился я на другой жене…».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































