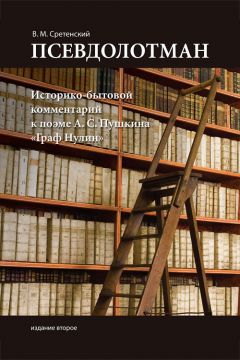
Автор книги: Василий Сретенский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Глава 15
(Граф Нулин)
(текст)
Несносный жар его объемлет,
Не спится графу – бес не дремлет
И дразнит грешною мечтой
В нем чувства. Пылкий наш герой
Воображает очень живо
Хозяйки взор красноречивый,
Довольно круглый, полный стан,
Приятный голос, прямо женский,
Лица румянец деревенский —
Здоровье краше всех румян.
Он помнит кончик ножки нежной,
Он помнит: точно, точно так,
Она ему рукой небрежной
Пожала руку; он дурак,
Он должен был остаться с нею,
Ловить минутную затею.
Но время не ушло: теперь
Отворена, конечно, дверь —
И тотчас, на плеча накинув
Свой пестрый шелковый халат
И стул в потемках опрокинув,
В надежде сладостных наград,
К Лукреции Тарквиний новый
Отправился, на все готовый.
(комментарий)
Только в этой части, по сути, начинается действие повести. Оно опирается не столько на сюжет малоизвестной поэмы Шекспира, сколько на один фрагмент биографии героя Древнего Рима Луция Юния Брута. Сцена эта представлена в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха следующим образом: «Тарквиний Гордый [последний из царей Древнего Рима. – Авт.], достигший престола средствами беззаконными и нечестивыми… был уже несносен и ненавистен народу. Бедственная кончина Лукреции, которая умертвила сама себя, быв изнасилована сыном Тарквиния, подала народу повод к возмущению. Люций Брут, приступая к произведению перемен в правлении… изгнал Тарквиниев» (Плутарх, 88–90)
Традиции античности и, в частности, Древнего Рима играли в культуре Европы ключевую роль, по крайней мере, с XIV века. С началом Великой французской революции символика античного Рима заслонила собой все иные культурные стереотипы. Все сферы человеческой жизни от войны и политики до моды и кулинарии испытали мощнейшее воздействие римской культуры (достаточно вспомнить «воскресшие из небытия» термины «трибун» и «консул», фригийский колпак и тунику в одежде, стиль ампир в архитектуре и дизайне). Изучение латыни в качестве обязательного школьного языка, непременное детское чтение: Плутарх, Тацит и юношеское – Овидий, Апулей; уроки истории – все это, наряду с общей модой на античность, способствовало появлению точных и ясных ориентиров в поведении, обозначаемых, как правило, именами греческих и римских «образцов»: Ликург и Сократ, Цицерон и Цезарь, Нерон и Лукулл. Вот как описывает культурную ситуацию конца XVIII в. С.Н. Глинка:
«В это время наступил мне одиннадцатый год; узнал я тогда и скалу Трапейскую… и узнал пресловутую Капитолию, представительницу Рима, провозглашенного городом вечным. Узнал сенат римский… ознакомился с летописями римскими и как будто переселился в древний Рим… Не знал я, под каким живу правлением, но знал, что вольность была душой римлян. Не ведал я ничего о состоянии русских крестьян, но читал, что в Риме и диктаторов выбирали от сохи и плуга. Не понимал я различия русских сословий, но знал, что имя римского гражданина стояло почти на чреде полубогов. Исполинский призрак Древнего Рима заслонял от нас родную страну…» (Глинка1996, 68–71).
И такое отношение к античности, как эпохе «воспитывающей», эпохе, людям которой следует подражать, сохранилось в России неизменным до середины XIX в. Как пишет об этом А.В. Михайлов:
«… античность была далеким прошлым, но лишь чисто хронологически. По существу же, по смыслу античность была всегда рядом, не просто как ценное и дорогое, родное наследие, но и как культурно-жизненная совокупность своих проблем, не разрешенных до конца, по-прежнему актуальных» (Михайлов, 578).
«Старый» Брут (именуемый так иногда, чтобы отличить от Брута позднего – убийцы Цезаря – Марка Юния Брута) выступал в качестве одной из главных «знаковых» фигур эпохи. В ней сливались два образа: «борец за свободу и права сограждан» и «гражданин и патриот своего отечества».
Брут (мы, правда, не знаем какой) упомянут в первых страх оды А.Н. Радищева «Вольность»:
«О дар небес благословенный,
Источник всех великих дел,
О вольность, вольность, дар бесценный!
Позволь, чтоб раб тебя воспел.
Исполни сердце твоим жаром,
В нем сильных мышц твоих ударом
Во свет рабства тьму претвори,
Да Брут и Телль еще проснутся,
Седяй во власти да смятутся
От гласа твоего цари» (1781–1783).
В декабристских кругах, в особенности в творчестве К.Ф. Рылеева, имя Брут упоминалась там, где следовало сказать: «враг тиранов». Выше мы приводили строки Рылеева, в которых Брут ставился в один ряд с испанским революционером начала XIX века Риегой. Еще один ряд, уже чисто «римский» Рылеев выстроил в послании «К временщику»:
«Тиран, вострепещи! Родиться может он
Иль Кассий или Брут, иль враг царей Катон!» (1820)
Здесь, правда, имеется в виду поздний Брут – соучастник Кассия по заговору против Цезаря. А вот в оде «Гражданское мужество» есть и «наш» – Старый Брут:
«Лишь Рим, вселенной властелин,
Сей край свободы и законов,
Возмог произвести один
И Брутов двух и двух Катонов». (1823)
Эта навязчивая связь ассоциаций «Рим – Брут – свобода» позволила в свое время Г.А. Гуковскому заявить: «Мысли Пушкина… привели его к разочарованию в реальности надежд на русских Брутов. Отсюда пушкинская ирония по адресу римского Брута» (Гуковский, 7). Утверждение, на наш взгляд, спорное, хотя бы потому, что имя Брут отнюдь не было узурпировано декабристами и могло символизировать порой даже контрреволюционные действия.
Да, по свидетельству Н. Бестужева, Рылеев, уходя на Сенатскую площадь, говорил своей матери: «…я буду лить кровь свою, но за свободу отечества, за счастье сородичей, для исторжения из рук самовластья железного скипетра… может быть, потомство отдаст мне справедливость, а история запишет имя мое вместе с именами великих людей, погибших за человечество. В ней имя Брута стоит выше цезарева – итак, благословите меня!» (Бестужев, 10) Но и в противоположном лагере возникает образ Брута! Сразу же после разгрома восстания Н. Д. Дурново записал: «Каково было наше удивление, когда генерал Депрерадович пришел [во дворец. – Авт.] со своим старшим сыном. Он, подобно древнему Бруту, пришел, чтобы передать свой отпрыск в руки правосудия. Маленький негодяй был членом тайного общества» (Дурново, 297). (Вспомним, что второй главнейший эпизод в жизни Брута Старого состоял в том, что тот отдал на казнь своих сыновей, замешанных в сговоре с изгнанными Тарквиниями.)
Пушкин не мог разочароваться в «русских Брутах», как нельзя разочароваться в культурных знаках эпохи. Другое дело пушкинская ирония. Она, видимо, направлена на эпоху, создающую не Брута, Тарквиния и Лукрецию, а пародию на них.
Выступая в качестве младшего Тарквиния, виновника всех бед, граф Нулин последовательно воспроизводит его образ: он молод, он не властитель, а богатый бездельник, он горд и заносчив (денди), он очарован хозяйкой, наконец, он направляется на свидание «на всё готовый». Другое дело, что это «все» у древнего персонажа и его нового отражения отнюдь не совпадает: тот Тарквиний добивается своего, а этот – позорно бежит. Точно так же не совпадают со своими образцами «новая Лукреция», ее муж и друг семьи.
Несносный жар его объемлет – сопоставление внезапно вспыхнувшей страсти графа с жаром и пламенем перекликается с началом поэмы Шекспира «Лукреция»:
«Из лагеря Ардеи осажденной
На черных крыльях похоти хмельной
В Коллациум Тарквиний распаленный,
Несет едва горящий пламень свой,
Чтоб дерзко брызнуть пепельной золой
И тлением огня на взор невинный
Лукреции, супруги Коллатина».
(Здесь и далее «Лукреция» цитируется по изданию: Шекспир В. Полн. собр. соч. в 14 тт. Т. 14. М. 1997. Пер. Б. Томашевского.)
И далее в обеих поэмах тема «любовного пламени» возникнет не раз. Однако в трактовке этой темы существуют серьезные различия. Если в поэме «Лукреция» каждый раз образ пламени-страсти и жара-похоти самодостаточен и существует как самостоятельная метафора, то в «Графе Нулине» все образы жара и пламени выстроены в единый образ (Cм. комментарий к главке 22).
Не спится графу – бес не дремлет
И дразнит грешною мечтой
В нем чувства… – А.Н. Архангельский отметил, что «хромота» графа, «прозвания», которые дает ему автор («полувлюбленный, нежный граф», «влюбленный граф»), рассыпанные по тексту полунамеки («бес не дремлет»), все это указывает на отдаленную связь Нулина с образом Влюбленного Беса из романа Жака Казота «Le diable amoreux»… (Архангельсктий, 75). И он безусловно прав – некий бес действительно подталкивает графа к действию. Но именно подталкивает, а не действует сам, как самостоятельный персонаж, подобно бесу из романа Жака Казота «Влюбленный бес» (1772), влюбившемуся в молодого человека и явившегося ему в женском обличье. Единственное сюжетное сходство между этим романом и «Графом Нулиным» в том, что в присутствии девушки-беса молодой человек долго не может заснуть.
Бес, не дававший спать графу Нулину, совсем другого происхождения. Он имеет имя. Известны и его внешний вид, и «специализация» на грехах определенного рода. Вспомним еще раз, что граф, ударившись при падении из коляски, хромал. Вольный или невольный, но это намек на чрезвычайно модный в начале XVIII века и хорошо известный в начале века XIX роман А.-Р. Лесажа «Хромой бес». Автором сюжета и персонажа, заимствованных Лесажем, был испанский писатель Луис Велес де Гевара, чей «Хромой бес» был написан на рубеже XVI–XVII веков. Бес у Гевары говорит о себе так: «…я адская блоха, и в моем ведении плутни, сплетни, лихоимство, мошенничество: я принес в этот мир сарабанду, делиго, чакону…; я изобрел кастаньеты, хакары, шутки, дурачества, потасовки, кукольников, канатоходцев, шарлатанов, фокусников, – короче, меня зовут Хромой Бес» (Плутовской роман, 164–165).
Создавая своего Хромого беса, Лесаж подобрал ему имя – Асмодей, а невнятный набор мелких грешков превратил в длинную цепь греховных удовольствий, соединенных одним – страстью. Его Хромой бес не зря гордится собой: «…я устраиваю забавные браки, соединяю старикашек с несовершеннолетними, господ со служанками, бесприданниц с нежными любовниками, у которых тоже нет гроша за душой. Это я ввел в мир роскошь, распутство, азартные игры и химию. Я изобретатель каруселей, танцев, музыки, комедии и всех новейших французских мод… Я бес сладострастия, или, выражаясь почтительно, я бог Купидон» (Лесаж, 22).
У человека, знакомого с романом Лесажа, невольно складывается мнение, что Асмодей уже давно хозяйничает в поместье: там можно угадать четыре типа «забавных» соединений: брак Натальи Павловны, как можно предположить, неравный (1); разговор хозяйки и гостя проходит как будто под его диктовку – музыка, комедия и французские моды (2); ночная мысль графа о хозяйке сопровождается все тем же словечком забавно (3), вскользь упомянутый сосед – Лидин явно пользуется покровительством Асмодея (4).
Любопытно, что Пушкин вспоминал о Хромом бесе в сентябре 1825 г., то есть тогда же, когда граф Нулин заехал в поместье Натальи Павловны. Тогда в письме к Вяземскому он обратился к адресату так: «Сатирик и поэт любовный, / Наш Аристип и Асмодей…» (II – 314).
«Любовный» поэт, «совращающий» души читателей, и есть современный Асмодей, или Купидон, как тот сам себя аттестует. «Асмодей» был шутливым прозвищем Вяземского в литературном обществе Арзамас. Каждый вступающий в это общество получал новое имя, взятое из баллад В.А. Жуковского. В одной из них – «Громобое» и действует Асмодей:
«Старик с шершавой бородой,
С блестящими глазами
В дугу сомкнутый над клюкой,
С хвостом, когтьми, рогами».
И наконец, еще раз о хромоте. В романе Лесажа она появилась у Асмодея после ссоры с бесом корыстолюбия – Пильярдоком из-за студента, приехавшего в Париж: «Мы подрались в средних слоях атмосферы, – рассказывает Асмодей. – Пильярдок оказался сильнее и сбросил меня на землю, подобно тому, как Юпитер, по словам поэтов, свалил Вулкана» (Лесаж, 26). Стоит ли напоминать, что граф возвращается из Парижа, вырвавшись из объятий Пильярдока – промотав свое состояние? И тут же он попадает под влияние Асмодея: ударившись о землю, хромает навстречу своей судьбе.
Характерно, что в русских баснях, воспринявших народную традицию устной речи, уже существовала пара косогор – бес. Так, в начале басни И.И. Хемницера «Чужая беда» читателю представляется бытовая сценка:
«Мужик вез сено продавать;
Случился косогор: воз набок повалился.
Мужик ну воз приподнимать
И очень долго с возом бился,
Да видит, одному ему не совладать.
Проезжего себе на помощь призывает.
«Вот черт тебя на косогор занес», —
Прохожий отвечает
И мимо погоняет». (1799)
То, что бес в поэме не только фигура речи, но почти персонаж, подкрепляется использованием слова «дразнит». По Далю, дразнить означает «сердить насмешками, перекором» (Даль, I, 489). Погасив свечу, Нулин собрался заснуть, но бес наперекор желанию графа будит его воображение.
…Пылкий наш герой
Воображает очень живо — воображение (как и многое в поэме) имеет отчасти литературное происхождение. В данном случае отчетлива перекличка с одной из любовных элегий Овидия, в которой лирический герой вспоминает:
«И показалась она перед взором моим обнаженной…
Мне в безупречной красе тело явилось ее.
Что я за плечи ласкал! К каким я рукам прикасался!
Как были груди полны – только б их страстно сжимать!
Как был гладок живот под ее совершенною грудью!
Стан так пышен и прям, юное крепко бедро!» (Овидий, 38)
Довольно круглый, полный стан, – стан, по словарю Даля – туловище, «все тело, без головы и членов» и одновременно «поясница, лиф, перехват, место, по которому опоясываются» (Даль, IV, 312). Проще говоря, Наталья Павловна была толстушкой, в полном соответствии с расхожим образом «деревенской красавицы». Вместе с тем эта строка явно отсылает читателя к «Опасным связям» Шодерло де Лакло.
В этой книге один из главных персонажей (виконт де Вальмон) в деревенском доме своей тетушки знакомится с молодой женщиной, которую стремится «погубить». Текст Шодерло де Лакло Пушкину конечно же был знаком. Вот пара строк из его письма Н. Вульфу от 27 октября 1828 г.: «Тверской Ловелас С.-Петербургскому Вальмону здравия и успехов желает» (Переписка…, 183). В описании «предмета страсти» Вальмона есть и такая строка: «…домашнее платье из полотна дает мне возможность видеть ее округлый и гибкий стан» (Лакло, 24). Граф Нулин не мог не ознакомиться, в свое время, с одним из самых скандальных произведений французской литературы предреволюционной поры. Вспомнившаяся, кстати (или наоборот – некстати), сцена из этого романа могла стать одним из побудительных мотивов его ночного похождения.
Приятный голос прямо женский, – одно из значений слова прямой – самый, настоящий, истинный (Даль, III, 530). Для сравнения, у В.Л. Пушкина в «Опасном соседе»: «Прямой талант везде защитников найдет!», у К.Н. Батюшкова: «Я снова посещал развалины Москвы, / Москвы, где я дышал свободою прямою!» («Разлука». 1815) и у В.А. Жуковского в рукописном варианте «Послания к кн. Вяземскому и В.Л. Пушкину»: «Ты, Вяземский, прямой поэт! / Ты, Пушкин, стихотворец горе!» (ДмитриевМ, 265)
Лица румянец деревенский —
Здоровье краше всех румян. – в этих и предыдущих строках автор последовательно противопоставляет красоту «салона» естественной «деревенской» красоте. Противопоставление это опирается на давнюю литературную традицию, в основании которой – взгляды Жана-Жака Руссо. Вот, например, в столь любимом Натальей Павловной «Московском телеграфе» автор иронически описывает превращение молоденькой девушки в светскую красавицу: «Вместо географии – мадам N N, вместо ландкарт – выкройки, вместо истории – городские вести, вместо Расина – Россини, вместо спокойного сна – бессонница, вместо свежего румянца – бледность и расслабленные нервы» (МТ1825, VI, 97).
А вот первоисточник – фрагмент из романа Руссо «Эмиль, или О воспитании»:
«Всякое стеснение, всякое насилие над нашей природой есть признак дурного вкуса; я имею в виду, как украшения тела, так и ухищрения ума. Прежде всего, следует стремиться к здоровью, к разумной жизни, к благополучию. Грация состоит лишь в непринужденности движений; томную вялость нельзя назвать изяществом, и чтобы нравиться, нет ни малейшей необходимости иметь нездоровый вид. Тот, кто страдает, возбуждает жалость, и лишь свежесть и здоровье дают право на удовольствия и возбуждают желания» (Руссо, 559).
Та же мысль Руссо звучит и в строках Байрона из XIII песни «Дон Жуана»:
«К рассвету день кончается в столицах,
А в деревнях привыкли много спать:
И дамы и прелестные девицы
Чуть смерклось – забираются в кровать
Красавицам ложиться нужно рано».
В России же пушкинской поры естественный румянец на щеках – одна из обязательных примет женской красоты. Вот как описывает свою героиню Е.А. Баратынский:
«Красой лица, красой души
Блистала Эда молодая.
Прекрасней не было в горах:
Румянец нежный на щеках
Летучий стан, власы златые
В небрежных кольцах по плечам
И очи бледно-голубые,
Подобно финским небесам». (1824)
Вот красавица Наташа у П.А. Катенина:
«Где уста как мед душистый,
Бела грудь, как снег пушистый,
Рдяны щеки, маков цвет?» (1814)
У В.К. Кюхельбекера красавица, это, прежде всего, румянец:
«Цветок увядший оживает
От чистой, утренней росы;
Для жизни душу воскрешает
Взор тихой, девственной красы.
Когда твои подернет щеки
Румянец быстрый и живой —
Мне слышны милые упреки,
Слова стыдливости немой,
И я, отринув ложь и холод,
Я снова счастлив, снова молод,
Гляжу: невинности святой
Прекрасный ангел предо мной!»
(«К А. Т. Пушкиной». 1823 или 1824)
А Д.В. Веневитинов румянцу любимой посвятил стихотворение, содержащее и такие строки:
«На небосклоне заиграла
Денница пурпурным огнем,
И луч румяного рассвета
Твои ланиты озарил.
С тех пор он вдвое стал мне мил,
Сей луч румяного рассвета.
Храни его – недаром он
На девственных щеках возжен;
Не отблеск красоты напрасной,
Нет! он печать минуты ясной,
Залог он тайный, неземной».
(«Любимый цвет». 1825)
А ранее всех шуточный мадригал естественной жизни, «деревенской» красоте вложил в уста «сельского любовника» Н.М. Карамзин:
«Здесь сердца людей согласны
С их нельстивым языком,
Наши милые прекрасны
Не раскрашенным лицом,
А природными чертами;
Обмануть нас не хотят
Ни глазами, ни словами,
Лишь по чувству говорят»
(«Куплеты из одной сельской комедии». 1800)
Он помнит кончик ножки нежной, – по моде того времени нижний край платья должен был доходить примерно до середины туфель, так, чтобы их носочки чуть-чуть высовывались наружу. Соответственно граф при всем желании не мог увидеть ничего, кроме кончика туфель. А поскольку «нежить» означало – «держать в неге», то есть баловать, холить и лелеять, то ножка нежная, здесь – холеная, ухоженная, о чем граф пока мог лишь догадываться.
Она ему рукой небрежной
Пожала руку… – пожатие руки – конечно, знак, но это лишь один из знаков приязни, а отнюдь не приглашение к немедленному действию. Пожатие может привести к свиданию только после того, как будут пройдены несколько ступенек обряда ухаживания. «Мельком взгляд, кстати слово, вальс, пожатие руки, слова два о верности, о счастье, о блаженстве, тоска, грусть – бойтесь, милые, и – смотрите, как помаленьку дело пойдет дальше!» – предупреждал барышень автор «Московского телеграфа» (МТ1825, XXIII, 472).
Однако, если Нулин соотносил себя с героями романов, то пожатие руки он мог воспринять и как намек на нечто большее, чем обычное кокетство. Именно так оно было воспринято де Вальмоном в уже известных нам «Опасных связях». В письме своей приятельнице, маркизе де Мертей, де Вальмон описывает одну из последних сцен драмы соблазнения следующим образом: «Наконец, когда все стали расходиться, я подал ей руку, и у своей двери она с силой пожала ее. Правда, в этом движении мне почудилось что-то непроизвольное; но тем лучше: лишнее доказательство моей власти» (Лакло, 185). И если граф вспомнил об этом романе (а намек на это мы отмечали чуть выше), то он мог, приняв желаемое за действительное, решить действовать так же, как литературный персонаж, с которым он себя в данный момент соотнес.
Воспоминание о рукопожатии подгоняло вперед и Тарквиния из шекспировской «Лукреции». Но там рукопожатие было при встрече:
«Он молвил: "Руку мне сжимая,
Она тревожный устремила взор,
Как если бы в глазах моих читая
Судьбе супруга грозный приговор.
…
Затрепетала тонкая рука,
Как будто мне свой страх передавала…
И ей взгрустнулось, кажется слегка…
Но вот что муж здоров, она узнала,
И радость так в улыбке заблистала"».
Рукопожатие Лукреции, таким образом, если и может быть воспринято как знак, то это знак с противоположным значением, не приглашение, а прямое и явное пренебрежение. В случае же с Натальей Павловной пожатие гораздо менее двусмысленно. Оно вполне может быть понято размечтавшимся графом в духе идиллии А.А. Дельвига «Купальщицы»:
«К Дафне юный пастух разгорался в младенческом сердце
Пламенем первым и чистым: любил, и любил не напрасно.
Все до вчерашнего вечера счастье ему предвещало:
Дафна охотно плясала и пела с ним; даже однажды
Руку пожала ему и что-то такое шепнула»… (1824)
Или же в духе девятой «Элегии» Д.В. Давыдова:
«Два раза я вам руку жал;
Два раза молча вы любовию вздохнули…
И девственный огонь ланиты пробежал,
И в пламенной слезе ресницы потонули!
Неужто я любим?» (1818)
А ведь, чуть раньше граф мысленно произносит: «Неужто вправду я влюблен?»
Рука небрежная, – здесь – беззаботная, беспечная. И если граф так думает, то он сам признает, что, пожимая ему руку, Наталья Павловна была небрежна, то есть не подумала о последствиях. О том же свидетельствует и определение этого порыва как минутной затеи.
…он дурак
Он должен был остаться с нею, – словарь Даля дает три основных значения слова «дурак»: глупый человек, тупица, тупой, непонятливый, безрассудный; малоумный, безумный, юродивый; шут, промышляющий дурью, шутовством (Даль, I, 501). В данном случае дурак – глупец, человек, не увидевший своей удачи, в отличие от бранного дурак от мужа Натальи Павловны в конце поэмы. Сочетание же выделенных нами строк, возможно, должно было напомнить читателю пословицы: «Дураку что ни время, то и пора» и «Дурак времени не знает».
Ловить минутную затею. – Затея – причуда, прихоть, каприз (Словарь, II, 106). Другими словами, что-то минутное и несерьезное, из поэтической лексики XVIII века. У Г.Р. Державина Киприда «затевают» хоровод:
«А тут, затея хоровод,
Велела нимфам, купидонам
Играть, плясать между собой
По слышимым приятным тонам
Вдали музыки роговой».
(«Развалины» 1797).
А вот в Хемницера «Собака и мухи» «затея» выглядит совсем уж несерьезной:
«Собака ловит мух, однако не поймает
И, глупая, не рассуждает,
Что муха ведь летает
И что поймать ее пустое затевает.
Лови, собака, то, что под твоей ногой,
Не то, что над твоей летает головой».
А самые близкие Нулину «затеи» мы встречаем у М.В. Ломоносова, в «Разговоре с Анакреоном»:
«Мастер в живопистве первой,
Первой в Родской стороне,
Мастер, научен Минервой,
Напиши любезну мне.
Напиши ей кудри черны,
Без искусных рук уборны,
С благовонием духов,
Буде способ есть таков.
…
Всех приятностей затеи
В подбородок умести
И кругом прекрасной шеи
Дай лилеям расцвести,
В коих нежности дыхают,
В коих прелести играют
И по множеству отрад
Водят усумненной взгляд…»
(Между 1758 и 1761)
…теперь
Отворена, конечно, дверь — рифма отсылает читателя к поэме Е.А. Баратынского «Эда», вышедшей в свет в 1824 г. и очень ценимой Пушкиным. Героиня поэмы – Эда – ложится спать, зная, что к ней придет ее возлюбленный:
«Уж поздно, полночь; но ресницы
Сон не смыкает у девицы:
"Стучаться будет он теперь.
Зачем задвинула я дверь?"»
Мелкие осколки «Эды» можно заметить и в других частях поэмы Пушкина. Так, строчка Баратынского «Легла и думала заснуть», перекликается с пушкинской: «Легла и выйти вон велела», а еще два стиха: «И вот задвижки роковой / Уже касается рукой» с другими: «И дерзновенною рукой / Коснуться хочет одеяла».
Свой пестрый шелковый халат. – Современный знаток и исследователь моды прошлых эпох утверждает, что «если архалук, шлафор или капот отличались свободным покроем, то халат в большей степени зависел от моды» (Кирсанова, 309). Соответственно халат графа – еще один знак утонченного щегольства. Здесь Нулин выступает полной противоположностью А.А. Дельвигу, написавшему годом или двумя позже двустишие «Смерть»:
«Мы не смерти боимся, но с телом расстаться нам жалко:
Так не с охотою мы старый сменяем халат».
(1826 или 1827)
И стул в потемках опрокинув… – мебель в первой четверти XIX века стали делать «облегченной» – с вырезанными каннелюрами по ножкам, стулья – с легкими резными спинками. Если бы в комнате стоял «старомодный» стул – из красного дерева или дубовый крашеный, то, наткнувшись на него, граф сильно бы ушибся, но опрокинуть его не смог.
В надежде сладостных наград – эпитет «сладостный» во всех его вариациях – одна из самых больших банальностей в поэзии того времени. Причем это банальность свойственная именно «поэтическому языку, поскольку очень часто встречается в «посланиях» одного поэта – другому или другим. В послании В.А. Жуковоского «Нине» (1808) слово «сладость» и производные от него встречаются пять раз, а в послании Батюшкову – шесть. Сам Батюшков в прозаическом фрагменте «Нечто о поэте и поэзии» пишет о «сладостной минуте очарования поэтического», «сладостной надежде», и «сладостных впечатлениях юности»; в стихотворении «Мечта» (1802 или 1803), о собственно «сладостной мечте», но и «сладостной горечи», «сладостном забвеньи» и сладости «бренной жизни». У П.А. Вяземского в послании «Моим друзьям. К Ж<уковскому>, Б<атюшкову> И С<еверину>» (1812) встречается «сладостный сон», а веще одном послании «К друзьям» (1814) «сладостное ложе».
Нулин – не поэт, но, как и все в ту эпоху – читатель стихов. Он мыслит, отчасти поэтическим штампами. Поэтому надеется на те «награды», что описывает, например А.А. Дельвиг в своей «Песне»:
«Наяву и в сладком сне
Все мечтаетесь вы мне:
Кудри, кудри шелковые,
Юных персей красота,
Прелесть – очи и уста,
И лобзания живые.
…
Ночью сплю ли я, не сплю —
Все устами вас ловлю,
Сердцу сладкие лобзанья!
Сердце бьется, сердце ждет, —
Но уж милая нейдет
В час условленный свиданья» (1824).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































